| А.В.Смирнов. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001 |
|
|
(с) А.Смирнов 2001
Глава I
Основные понятия,
описывающие процедуры
формирования смысла
Б. Рассел. Философия логического атомизма
§ 1. Существуют ли процедуры смыслополагания?
1.1. Предсказание астролога и его толкование:«наше» понимание
1.1.1. Предсказание
В недавно опубликованной книге нашего известного арабиста А. А. Игнатенко «Как жить и властвовать» поведана следующая история:
Как халиф аль-Мансур нашел свою смерть между огнем и водой. В знаменитой «Книге песен» Абу-аль-Фараджа аль-Исфахани рассказывается, что аббасидский халиф Абу-Джаафар аль-Мансур погиб именно так, как предсказал его придворный астролог. Абу-Сахль аль-Фадль Ибн-Навбахт, совершив однажды полагающиеся для гороскопа действия, огорчил халифа безмерно. Приговор звезд гласил, что аль-Мансур оставит этот дольний мир в возрасте сорока лет и случится это между огнем и водой. Можно представить, как опасался правитель проходить между рекой и разожженным на берегу костром, в других подобных местах. Смерть же от руки убийц настигла его в бане («между огнем и водой»). И был он тогда сорока лет от роду… [Игнатенко, с. 73].
Рассмотрим эту историю более подробно. Несомненно, она имеет целью поразить читателя. Поразить не только и даже не столько тем, что предсказание астролога сбылось, сколько тем, что сбылось оно столь неожиданным — для самого главного персонажа истории и для нас, читателей — образом. Астролог, обладатель особого, эзотерического знания, совершив понятные ему одному манипуляции, и предсказание свое оформил одному ему понятным образом. Точнее, он выразился совершенно ясно и однозначно относительно самого события и его срока, но зашифровал место его наступления. Предсказание, точно определяющее, что и когда должно произойти, но оставляющее нас в неведении относительно того, где это случится, приобретает характер загадочности, которая сродни профессии астролога. Нет сомнения в том, что астролог знал, что произойдет, знал совершенно точно, но не хотел (или не мог) столь же точно определить место этого события. Зная развязку и, следовательно, разрешение загадки, загаданной астрологом халифу, мы видим, что предсказание носило характер намека. Ошибка прямолинейного халифа состояла, совершенно очевидно, в том, что этот намек он попытался истолковать буквально и избегал совсем не тех мест, которых следовало опасаться. Приняв все меры предосторожности относительно всего, что расположено «между огнем и водой», он не разглядел, что «между огнем и водой» было метафорой. Загадочный намек, расплывчатый символ, который может быть истолкован и так и этак, который не обманывает нас, но и не говорит прямо, — вот что такое это «между огнем и водой» средневекового придворного астролога. Поняв это, мы в качестве следующего шага поймем и неизбежность облечения предсказания именно в такую, расплывчато-труднорасшифровываемую форму. Ведь предсказание, содержащее вердикт, которого можно избежать, тем самым оказывается ложным; единственный, наверное, способ избежать парадокса и сохранить правдивость предсказания, приоткрывающего будущее и, следовательно, возможность изменить его, — предсказать так, чтобы неложное вместе с тем не могло быть понято однозначно, став основанием для действия, которое свело бы само предсказание на нет в части его содержания.
Так или примерно так должен, вероятно, воспринять рассказанную историю читатель. Туманность предсказания и неожиданность его подлинного смысла — вот главное впечатление, которое стремится передать нам текст истории. Само его строение подчинено этой задаче. Рассмотрим поближе структуру текста. Халиф аль-Мансур погиб именно так, как предсказал его астролог. Этот зачин автора настраивает на соответствующее восприятие предсказания астролога: мы будем вместе с халифом пытаться понять его, понять, что же все-таки в нем сказано, поскольку знаем, что оно сбылось. Но что же именно мы, вместе с халифом, реконструируем как смысл слов «между огнем и водой», — именно этих слов, поскольку остальные ясны? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы выясняем вещь, которая окажется весьма важной для наших дальнейших рассуждений. Фраза «…можно представить, как опасался правитель проходить между рекой и разожженным на берегу костром, в других подобных местах» оказывается авторской вставкой, вписанной в пересказ текста «Книги песен». Именно эта вставка и усиливает то впечатление неожиданности, которое производит на нас развязка истории, создавая столь выигрышный контрастный фон и как бы говоря: вот что думал халиф — и вот что на самом деле имел в виду астролог! И в самом деле, то, что читатель открывает как действительный смысл предсказания, настолько неожиданно, что автор даже повторяет в скобках соответствующие слова астролога, дабы от нашего внимания не ускользнуло, что «баня» — это именно то, что астролог имел в виду, говоря «между огнем и водой». Без этой вставки текст в значительной мере потерял бы свою драматичность, в чем нетрудно убедиться, прочитав его без нее. Но вместе с тем эта авторская вставка ни в коей мере не является намеренным искажением. Более того, рискну утверждать, что она никак не нарушает тех интенций понимания, которые характерны для читателя — носителя нашей культуры. Текст предсказания астролога, иными словами, и в самом деле был бы понят если не всеми, то большинством наших читателей именно так, как то подсказано авторской вставкой, которая в этом смысле лишь привлекает внимание читателя к тому смысловому построению, которое он и сам бы осуществил, но ни в коей мере не фальсифицирует его.
Единственное, что остается пока для нас под вопросом, — это отнесение этого смыслопостроения к самому халифу. Мы можем согласиться с тем, что в качестве толкования предсказания астролога «между огнем и водой» мы бы также предложили «между рекой и кострами на берегу» или что-то в этом духе. Но действительно ли так поступил и халиф?
Действительно ли для самого халифа предсказание астролога было туманным в той же мере и в том же плане, как и для нас? Действительно ли он именно так пытался истолковать его?
1.1.2. Первое сомнение в оправданности «нашего» понимания
Этот вопрос предполагает и более общую формулировку проблемы: оправданно ли предположение о том, что в другой культуре понимание выстраивается так же, как выстраивалось бы в нашей[1]? Речь идет не о том, какими именно смыслами наполнялись бы в другой культуре «те же» слова, например, «огонь» или «вода» и насколько различались бы, помимо прямого «содержания» этих слов, и все многоразличные их коннотации. Речь о том, одинаково ли прокладывается путь от слова к его смыслу. Я не говорю пока о том, что такое «слово» и что такое его «смысл»; ограничиваясь самыми туманными, общими, интуитивно ощущаемыми представлениями об этих понятиях, я интересуюсь сейчас только способом построения связи между ними. Такая позиция, предполагающая не-прояснение этих важнейших (для нас здесь и в дальнейшем) понятий, вынужденна, как дальше станет ясно, на данном этапе; по мере развития исследования эти понятия будут проясняться, более того, в каком-то смысле все исследование предпринято именно для их прояснения.
Итак, одинакова ли стратегия перехода от слова к его смыслу в разных культурах, — вот о чем я спрашиваю. Вопрос ставится в общем плане независимо от конкретных слов и их конкретных смыслов и касается только процедуры их связывания как таковой. Можем ли мы считать эту процедуру, во-первых, вполне очевидной и тривиальной, а во-вторых, принципиально тождественной для разных культур?
1.1.3. Понимание как процедура
Попытаюсь объяснить более подробно, что имеется в виду.
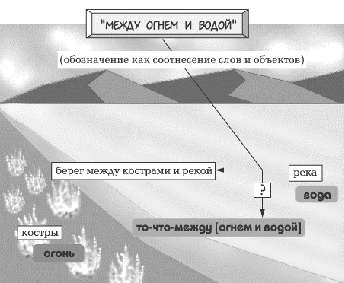
Заданный вопрос относится к тому (к чему «тому»? — можно сказать: «к тому процессу», или: «к той процедуре»), что на Рис. 1 обозначено как стрелка, связывающая слова («между огнем и водой») с их смыслом («берег между кострами и рекой»). В данном случае не важно, будем ли мы вслед, например, за Фреге различать «значение» и «смысл» и тогда скажем, что «берег между кострами и рекой» является смыслом выражения «между огнем и водой» и в то же время тем значением, которое едино для этого выражения и множества других, которые будут иметь иные смысловые наполнения («полоска песка, которая справа омывается водой и слева от которой горят костры», «территория, граничащая с рекой и кострами», т.д.), или же не станем обращать внимание на возможности таких различений, а останемся на позициях смутной интуитивной понятности разведения «слова» и «смысла», для которой «значение» и «смысл» во фрегевском или любом ином словоупотреблении еще не различены. Это не важно потому, что не затрагивает существа того вопроса, который мы собираемся обсуждать. Вопрос же этот состоит в том, оправдано ли понимание стратегии такого прочерчивания стрелки от слова к его смыслу как безусловно очевидной и единственно возможной. Действительно ли самоочевидна такая процедура связывания слова и его смысла, при которой слово отправляет нас к обладающему бытием объекту? Мы не рассматриваем сейчас характер бытия, которым этот объект референции[2], служащий смыслом слова, обладает, для нас не важно, в самом ли деле существует этот «берег между кострами и рекой» или он останется лишь плодом неудачной экзегетической деятельности халифа, пытающегося проникнуть в свое будущее. Для нас важен только тот факт, что «берег» как объект может существовать и что, следовательно, слова «между огнем и водой» отправляют нас к некой вещи, такой, которая не является ни «огнем», ни «водой», но тем, что разделяет их и что в то же время ограничено ими; тем, что есть как таковое (не важно, каков характер этого «есть»). Именно об этом наш вопрос: оправдано ли понимание процедуры отнесения слова к обладающему бытием объекту как единственно возможной, безусловно-очевидной процедуры его осмысления?
Термин «процедура» употреблен не случайно. Речь идет о таких действиях над интересующим нас выражением (слова «между огнем и водой»), которые не зависят от содержательной нагруженности слов. Это нетрудно заметить, обратив внимание на надписи на темном фоне Рис. 1. Этот рисунок представляет собой иллюстрацию одной из возможных трактовок выражения «между огнем и водой», той трактовки, которая предложена автором как один из вариантов истолкования предсказания астролога, что приходили на ум халифу. Что это один из вариантов, следует и из слов автора «…и тому подобных местах», и из самого смысла рассматриваемой ситуации: никто не станет ведь утверждать, что «разожженные костры» являются единственно возможным толкованием слова «огонь» или то «река» — единственный вариант толкования слова «вода». Таких вариантов, в самом деле, может быть очень много; каков, однако, инвариант всех этих толкований? Что остается неизменным в «и тому подобных местах», чем все эти места подобны, несмотря на все свое различие? Они подобны тем, что любое из них — это «то, что между огнем и водой». Как бы ни были осмыслены «огонь» или «вода», неизменным остается указание на смысл всего выражения как на «то, что» располагается между этими «огнем» и «водой» (кострами и рекой, т.д.). Указание на «то, что» является именно процедурным: оно не зависит от конкретных смысловых истолкований содержательных элементов выражения «между огнем и водой».
На Рис. 1 процесс осмысления выражения «между огнем и водой» отражен следующим образом: надписи на темном фоне соответствуют словам осмысляемого выражения, а слова-подписи иллюстрации (они заключены в рамки) являются их смыслом (напомню, что мы по-прежнему не различаем «смысл» и «значение»). Конфигурация иллюстрации в целом отражает истолкование целостного смысла выражения «между огнем и водой», а тот факт, что стрелка обозначения проведена от осмысляемых слов к «берегу между костром и рекой», указывает, что значением выражения в целом в данном его вариативном истолковании является именно этот «берег между костром и рекой» как вариант истолкования инвариантного «то, что между огнем и водой».
Отразим этот процесс осмысления в виде небольшой схемы.
|
огонь |
Þ |
|
|
костры |
|
вода |
Þ |
|
|
река |
|
между |
Þ |
то, что есть между |
Þ |
берег |
1.1.3.1. В чем состоит процедура смыслополагания
Нам теперь нетрудно заметить, что именно произошло на пути от слова к его смыслу. То, что представляется простым «проведением стрелки» от обозначающего к обозначаемому, простым установлением связи между двумя «наличными» элементами, на самом деле включает в себя весьма существенную операцию. Она состоит в приписывании бытия тому, что мы ищем как смысл слова (слова «между») и всего выражения (выражения «между огнем и водой»). Переход от словесного выражения к его смыслу оказывается не просто «переходом к» тому, что предполагается в качестве смысла данного выражения, — как бы уже наличным до всякого нашего нахождения его и лишь обнаруживаемом нами. И дело не в той невозможности однозначной фиксации смысла слова или выражения, о которой столько говорили и говорят. Совсем не об этом здесь речь: сколь бы ни были «неоднозначны» те смыслы, к которым нас отправляют слова, сколь бы ни были многочисленны толпящиеся в правой колонке значения, выстраивающиеся в очередь истолкования слова левой колонки (так что вместо «костры» мы можем получить и «факелы», и «жар очага», и «пламя газовой горелки», и так далее), от этого не меняется то, на что я хочу обратить внимание. Его следует обратить на среднюю колонку: то, что считают «просто стрелкой», связывающей понимаемое слово (левая колонка) с его значением (правая колонка — не важно, считается ли это значение однозначно фиксированным или плывет в бесконечной игре изменяющих смысл подвижек), оказывается процедурой, имеющей собственное внутреннее строение.
Таким образом, мы можем зафиксировать наличие процедуры, участвующей в выстраивании смысла выражения. Смысл не предшествует связывающей его со словом «стрелке обозначения» — смысл выстраивается вместе с прочерчиванием этой стрелки. Путь от слова к тому, что станет его смыслом, — это творческий путь, по мере прохождения которого смысл только и создается.
1.1.3.2. Процедура и содержательность смысла
Далее, эта процедура не только и не просто наличествует — она необходима для выстраивания смысла. То, к чему мы придем, отправляясь от слов (выражение «между огнем и водой»), определено не самими этими словами. Слов как таковых (со всеми их «словарными значениями» и «языковыми коннотациями») недостаточно для того, чтобы предопределить, каким будет их смысл. Чтобы понять, к какому смыслу мы придем, мы должны знать процедуру, с помощью которой осуществляется переход от слова к смыслу.
Между тем эта процедура самостоятельна по отношению к смыслам слов. Это — процедура, которая полагает, каким будет этот смысл. Поэтому мы будем называть такую процедуру процедурой смыслополагания. Смысл слов встраивается в ту логическую конфигурацию, которая определена процедурой смыслополагания. Эта логическая конфигурация всегда предшествует содержательной выстроенности смысла. Создание логико-смысловой конфигурации в результате процедуры смыслополагания может быть названа логикой смысла — конечно, совсем не в том смысле, в каком употреблял это выражение Ж. Делёз. Я вовсе не веду речь о смутных расплывчатостях едва улавливаемых и тут же ускользающих интуиций, принципиально противящихся строгой рационализации. Логика смысла, реализуемая в процедурах смыслополагания, должна обладать весьма ясными контурами. Степень их прояснения и служит мерой успеха в исследовании этой логики.
Вернувшись к Рис. 1, мы можем отчетливее рассмотреть факт наличия процедуры смыслополагания. Надписи на темном фоне не являются «значениями» слов, составляющих заключенное в прямоугольник выражение («между огнем и водой»). Они просто повторяют эти слова, располагая их так, как они конфигурируются в этом выражении. Словесная фраза «между огнем и водой» ничего не говорит о такой конфигурации, и я прибег к рисунку вовсе не из желания поупражняться в проведении линий и вычерчивании фигур, а для того, чтобы получить возможность отобразить этот факт конфигурирования. Он скрыт в словесной фразе — и выявлен в предлагаемом изображении. Сам факт такого конфигурирования отражает неизбежность осуществления процедур смыслополагания. Конкретный вид конфигурации отражает конкретный тип той процедуры смыслополагания, которая осуществлена в данном случае.
1.1.3.3. Переход процедурного аспекта в содержательный
Мы приблизимся к пониманию обсуждаемого конкретного типа процедуры смыслополагания, обратив внимание на центральный элемент конфигурации. Таковым служит надпись «то-что-между» на темном фоне на Рис. 1 («то-что-между [огнем и водой]»: я привожу вставку «[огнем и водой]» для ясности, она необязательна). Вот что является для нас сейчас основным и вот на что следует обратить внимание: слова «то, что» на рисунке добавлены по сравнению с тем, как сформулировано словесное выражение.
Это «то, что» не является «словарным значением» слова «между». Тому есть два объяснения. Во-первых, мы ощущаем необходимость в этом добавлении на этапе до определения значений слов, входящих в выражение «между огнем и водой». Ведь мы пока что лишь конфигурируем слова этого выражения так, чтобы, как подсказывает нам наше ощущение, их пространственное расположение отражало логику смысловых соотношений между ними[3]. Мы конфигурируем слова, не переходя к их значениям — и в ходе самого этого конфигурирования вдруг чувствуем необходимость в таком добавлении. Собственно, необходимость эта столь настоятельна, что мы можем сказать, что само конфигурирование без этого добавления просто не могло бы состояться — во всяком случае, не могло бы состояться в том виде, в каком оно представлено на Рис. 1.
Во-вторых, действие этого добавления выходит далеко за пределы самого по себе слова «между» и того, что могло бы мыслиться как его «значение»[4]. Это добавление:
а) фиксирует существование объекта, который располагается «между огнем и водой»,
и в силу этого, одновременно и вместе с этим
б) фиксирует раздельное и действительное существование «огня» и «воды», «между» которыми и располагается предполагаемый (см. пункт а) объект.
Роль, которую играет это добавление, распространяется, таким образом, на все выражение в целом. Это добавление фиксирует действительное существование объектов, которые мы обнаружим как значения слов «огонь» и «вода», а также действительное существование некоего третьего объекта, ограниченного ими, разделяющего их и отличного от них, который будет обнаружен как значение слов «то, что между». Стрелка обозначения, которая проведена на Рис. 1 от слов к обозначаемому ими объекту, на самом деле проходит через ту ступень, на которой осуществляется это добавление. Слова достигают своих смыслов не прямо, а опосредованно, — вот что я хочу сказать; на то, каково это опосредование, и даже на само его наличие, до сих пор вовсе не обращали внимания.
На Рис. 1 обозначение отражено так, как оно мыслится в семантических теориях. Здесь не принят во внимание тот факт, что путь от слова к его смыслу проходит через ту ступень обсуждаемого нами добавления, которая была названа ступенью процедуры смыслополагания. Добавление «то, что» к «между» обозначено на Рис. 1 знаком вопроса — для него в традиции семантических теорий не находится термина. Точно так же под вопросом на Рис. 1 остается и отношение стрелки обозначения к этому добавлению: процедура смыслополагания игнорируется традиционными семантическими теориями[5].
Исправляя Рис. 1 в соответствии с достигнутыми результатами, получим Рис. 2.
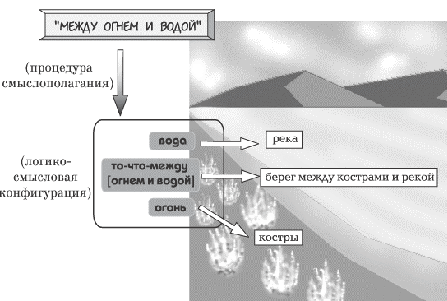
Напомню, что мы по-прежнему рассматриваем ситуацию так, как если бы процедура понимания предсказания астролога, которой следовал халиф, действительно была той, что применили и мы в нашем прогнозе относительно возможных значений для «между огнем и водой». С этой точки зрения халиф именно истолковывал предсказание астролога. Как будет показано ниже, на самом деле эти слова могут быть поняты без всякого толкования, в прямом значении, благодаря применению иной процедуры смыслополагания. Но для меня важно зафиксировать, что, даже если мы принимаем гипотезу о сознательном искажении астрологом своего предсказания с целью затруднить его прямое понимание, даже если мы станем искать подлинный смысл заведомо и сознательно замутненного выражения, нам не избежать применения ровно той же процедуры смыслополагания, что будет осуществляться и при понимании выражения в его прямом значении. Это означает, что логика смысла ведет речь о том, что располагается глубже той области игры значений или их строгого и «правильного» поведения, которая попадает в поле зрения аналитической философии или деконструкции. Это — инвариант всех тех вариантов, что исследуются, как правило, этими направлениями, это то, что служит основанием для такой вариативности. Поэтому процесс толкования предсказания, занявший столь важное место в мыслях халифа, не отличается — в интересующем нас аспекте — от процесса обычного понимания, разве что та область значений, из которых мог выбирать халиф, шире той, что предлагалась бы стандартными словарями и фигурировала бы в качестве «семантического поля» понимаемых в обычной ситуации слов. Халиф, пытаясь проникнуть в будущее и не упустить никакой из возможных вариантов толкования, мог додумываться до таких значений «огня» и «воды», до которых обычный человек в обычной ситуации вряд ли бы добрался, а значит, и располагаемый «между» ними искомый объект мог выбираться халифом из более широкой области значений, нежели та, которой будет оперировать человек в стандартной ситуации понимания. Но этим, пожалуй, и исчерпывается различие двух ситуаций: оно не касается той необходимости осуществления процедуры смыслополагания, о которой я говорю и которая равно неизбежна в каждом из этих случаев.
Итак, что же именно толковал халиф? Конечно, он истолковывал сами слова, подбирая возможные их значения. Но он делал это только после того, как определил процедуру их логико-смыслового конфигурирования. Находимые им значения вписывались в эту, определенную процедурой смыслополагания, конфигурацию; более того, находимый им смысл мог быть только таким, какой вписался бы в эту конфигурацию. Логико-смысловая конфигурация задала предельные условия находимых толкований слов, очертив допустимые границы просматриваемых семантических полей.
1.1.4. Возможна ли альтернативная процедура понимания?
Экзегетическая деятельность халифа оказалась неудачной. Он так и не пришел к подлинному ответу на загаданную астрологом загадку. Ответ же этот был, как нам уже известно, — «баня». В чем же состояла ошибка халифа?
Начав рассуждать об этом, мы прежде всего столкнемся с удивительным, по сути дела, фактом. Подлинный ответ не был ни символическим, ни специально-зашифрованным, ни каким-либо эзотерическим значением слов «между огнем и водой». Вовсе не в замысловатости толкования значений слов как таковых тут было дело, и сколько бы мы, вслед за несчастным халифом, ни ломали голову, разгадывая смысл предсказания астролога в соответствии с предложенной автором стратегией понимания («…и тому подобных местах»), мы бы не пришли к требуемому ответу. В том-то и дело, что никакой толковательной хитрости тут не требовалось[6], и вовсе не надо было быть знатоком значений слов «огонь» и «вода», чтобы правильно определить искомое место «между» ними. Предложенная, а точнее, предположенная автором стратегия понимания, которой следовал халиф, вообще не способна привести к подлинному ответу ни при каких условиях. Потому что ответ этот невозможен при постулировании действительного существования[7] «огня» и «воды» и искомого объекта «между» ними как отличного от них, разделяющего их и ограниченного ими. Ответ этот, иначе говоря, невозможен при условии осуществления той процедуры смыслополагания, которая, согласно автору, была применена халифом.
Прежде чем продолжить, вернемся к Схеме 1. Мы смогли обнаружить добавление «то, что», подсказавшее нам существование процедуры смыслополагания, для слова «между». Обнаружив его, мы увидели, что переход от слова к его смыслу совершается в два этапа, а не в один, как это традиционно полагается в семантических теориях. Мы можем теперь сказать, что первый этап, названный этапом логико-смыслового конфигурирования, или этапом осуществления процедуры смыслополагания, касается не только слова «между». Он вполне универсален и распространяет свое действие на все слова выражения. Конфигурация, которая выстраивается на этом этапе, целостна в том смысле, что утверждение действительного существования объекта «то, что между» невозможно без утверждения действительного существования объектов, к которым отправляют слова «огонь» и «вода». Добавляя «то, что» к «между», мы тем самым применяем процедуру смыслополагания не к одному этому слову, но ко всем словам выражения.
Поэтому мы можем исправить Схему 1 следующим образом:
|
огонь |
Þ |
то, что существует как огонь |
Þ |
костры |
|
вода |
Þ |
то, что существует как вода |
Þ |
река |
|
между |
Þ |
то, что существует между |
Þ |
берег |
Отметим тот факт, что мы смогли заметить наличие процедуры, отраженной в средней колонке, для слов «огонь» и «вода» лишь после того, как нашли ее для слова «между». Если процедура смыслополагания и распространяется на все слова, то вместе с тем существует, вероятно, класс слов, которые выявляют ее, точнее, делают ее заметной скорее, нежели прочие. К такому классу слов и принадлежит «между». Отметим этот его особый статус, объяснение которому нам предстоит искать в дальнейшем. Отметим также и то, что наше внимание к этой особой роли слова «между» привлек контраст между тем, в каком направлении — предположительно — строил свою экзегетическую деятельность халиф, и тем, где лежал подлинный ответ: этот контраст заставил нас внимательнее рассмотреть процесс перехода от слов к их смыслу и благодаря этому заметить наличие процедуры смыслополагания. Сравнительные исследования в области истории философии играют, с моей точки зрения, именно такую роль: они позволяют на контрасте увидеть то, что не видно на ровном фоне однообразия. Если традиционные семантические теории не замечают того, что вынесено мной в среднюю колонку Схемы 2, то это вовсе не случайно. Универсальность процедуры смыслополагания в пределах одной культуры предполагает возможность ее игнорирования: переход от слова к его смыслу может быть описан так, как если бы такой процедуры не существовало. Ее действие можно сравнить с действием «универсальных сил» в физике: постулирование наличия или отсутствия таких сил не меняет результатов описания физической реальности. Если бы процедура смыслополагания была действительно универсальной, она имела бы все шансы оставаться столь же незамеченной, как «универсальные силы» физики. Теории, в том или ином виде утверждающие общечеловеческое единство разума, предполагают, в качестве неявной посылки, и абсолютную универсальность процедур смыслополагания, поскольку такие теории невозможны при предположении об ограниченности этих процедур в каком бы то ни было смысле. Именно эта универсальность и является сейчас предметом вопроса. Действительно ли это общечеловеческая универсальность или ее рамки ограничены? И не совпадают ли пределы того, что принято называть «культурным своеобразием», «особым лицом культуры», «спецификой цивилизации», с пределами, в которых процедура смыслополагания заявляет о своей универсальности? Ведь как бы мы ни пытались определить понятия «культура» или «цивилизация» (а я вовсе не собираюсь здесь примыкать к богатой традиции полемики вокруг этих определений), в конечном счете не худшим окажется то их понимание, которое будет отправляться от видения своеобразия выстраивания культурой своих смыслов.
Итак, процедура смыслополагания предопределяет, каким будет смысл понимаемого выражения (выражения, которое является объектом понимания или, что в данном случае для нас то же самое, объектом толкования). Предопределяет не его конкретный вид — в правой колонке могут стоять в конечном счете почти любые смыслы (это то же самое, как если бы мы сказали: слово может быть употреблено и в прямом, и в неявном значении). Но эти смыслы в любом случае (независимо от неявности значения или, напротив, его очевидно-словарного характера) будут сконфигурированы определенным образом. Этот факт конфигурирования и определяется процедурой смыслополагания. Он же может быть выражен (отражен, понят нами, истолкован) как принятие определенных предпосылок, отражающих представление об условиях осмысленности, об условиях наличия смысла. Самим этим их статусом определен тот факт, что это представление не становится в нормальных условиях осознанным — просто потому, что оно само составляет условие формирования смысла. Название «представление» поэтому весьма условно: мы ведь только пытаемся выявить его и тем самым сделать представлением. Будут ли условия формирования смысла пред-ставлены нам, явят ли они себя, — это зависит от успеха той стратегии их выявления, которой мы следуем здесь и которую я называю «контрастным пониманием».
Вернемся к предсказанию астролога. Пора наконец разгадать его, тем более, что мы уже поняли, что подлинная загадка лежит совсем не там, где — как пытался подсказать нам автор — ее разыскивал халиф. Во всяком случае, совсем не там лежит то, что восприняли как загадку мы, — ведь еще не доказано, что и халиф видел ее именно в этом, более того, чем дальше мы продвигаемся в нашем рассуждении, тем менее очевидным это становится. Ведь все более выясняется, что дело здесь вовсе не в искусстве толкования, а в применении правильной процедуры смыслополагания, осуществление которой предшествует иносказательному (или прямому) пониманию и которая имеет место независимо от того, как именно осуществляется толкование, к каким именно переносным смыслам оно приводит (и приводит ли вообще, или выражение понимается в его прямом значении). Уже было сказано, что описывавшаяся до сих пор и отраженная на Рис. 2 процедура смыслополагания не могла привести к разгадке. Попытаемся найти ту, что дает искомый результат. Для этого вновь прибегнем к иллюстрации — наиболее эффективному способу сделать наглядным то, что прячется в словах.
1.2. Предсказание астролога и его толкование: альтернативное понимание
1.2.1. Описание логико-смысловой конфигурации
1.2.1.1. Иллюстрация
Подлинный ответ, который подразумевался словами астролога, может быть отражен следующей иллюстрацией:
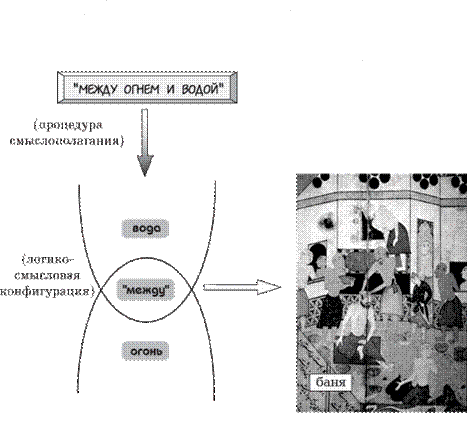
Что же сказал астролог, произнеся свои слова «между огнем и водой»? Рис. 3 подсказывает нам следующее понимание процедуры, согласно которой возможен переход от его слов к их смыслу. Оказывается, астролог сказал: «то, где огонь и вода слиты, но что не является ни огнем, ни водой как таковыми, ни соединением их как таковых, но что вместе с тем невозможно без слитости огня и воды».
Попытаемся понять суть логико-смысловой конфигурации, которая выстраивается в ходе осуществления отраженной на Рис. 3 процедуры смыслополагания.
Для этого обратим внимание на ту роль, которую играет «между» в этой процедуре. Область, полагаемая как «между», образована совпадением областей «огня» и «воды». Вопрос в том, какого типа это «совпадение» и что мы, собственно, имеем в виду, говоря о совпадении?
Предлагаемая трактовка этого понятия будет на данном шаге только гипотезой. Я не стремлюсь пока доказать, что совпадение, о котором идет речь, именно таково, как я его представляю. К этому мы подойдем лишь в конце этого исследования. Пока же можно лишь сказать, что предложенная гипотеза хорошо объясняет те факты, которые подлежат объяснению. Далее, я смогу показать, что именно эта гипотеза позволяет построить целостную, то есть единую и универсальную, стратегию понимания того, как именно выстраиваются смыслы в средневековой арабской интеллектуальной культуре.
Чтобы сформулировать и объяснить свою гипотезу, мне придется прибегнуть к словам, которые не сразу явят свой подлинный смысл читателю. Я бы хотел предупредить его об этом: вступая в область непривычного (а нет ничего более непривычного, нежели необычные для нас процедуры смыслополагания, поскольку они ответственны за принципиально-непривычное для нас формирование смысла), приходится ожидать непривычных слов, которые вовсе не выглядят как «настоящие» термины. Они еще невески, они еще не впитали в себя всю значимость стоящих за ними теорий. Они еще ничего, или почти ничего, не говорят читателю. И тем не менее без них не обойтись и, более того, их нечем заменить. Их кажущаяся «терминологическая недостаточность» является в данном случае как раз достоинством: мы сможем освободиться от давящего диктата привычных коннотаций, чтобы тем легче рассмотреть — и принять — непривычное. Мы будем вместе наполнять эти слова все большим смыслом, пока они не обнаружат вполне свое подлинное терминологическое достоинство. Ведь они отнюдь не придуманы мной, они не изобретены специально по случаю изложения понравившихся гипотез — они составляют золотой фонд собственных средств выражения теоретических положений, характерных для средневековой (и не только средневековой) арабской мысли. Замечу попутно, что такое незамечание другой культурой терминологического статуса понятий, безусловно являющихся таковыми для данной, составляет, коль скоро речь идет об исследовании арабской мысли, чрезвычайно распространенное явление. И кроме того, явление всегда симптоматичное, поскольку оно указывает на по меньшей мере возможность непонимания типа того, с которым мы имеем дело в данном случае.
1.2.1.2. Первые два члена логико-смысловой конфигурации
Понятиями, которые необходимо ввести, являются понятия «явленное» и «скрытое». Гипотеза относительно сути отраженной на Рис. 3 процедуры смыслополагания состоит в том, что возникающее в результате ее осуществления «совпадение» следует мыслить как такую конфигурацию двух смыслов, в которой один оказывается «явленным», а второй — «скрытым». «Явленное» стоит «на виду», оно как бы представлено нам, — но не «как таковое», а лишь как предполагающее свое «скрытое», которое «кроется» за «явленным». Можно сказать и так: мы открываем «скрытое» за «явленным» и после «явленного».
Явленное и скрытое, «между» которыми помещается полагаемый ими объект, не могут обладать тем же онтологическим статусом, каким обладают «огонь» и «вода» в первом примере (Рис. 2). В первом случае «огонь» и «вода» одинаково существуют, они одинаково ограничивают то, что «между ними». В нашем случае самой сутью устанавливаемого соотношения «явное-скрытое» предполагается, что ни одно из них не относится к бытию так, как к нему относятся «огонь» и «вода» в первом примере: ни одно из них не является самостоятельно существующим объектом.
«Скрытое», стоящее за «явленным» и открываемое нами непременно после «явленного» (обратим внимание на обязательность этой последовательности: она не может быть нарушена), претворено в нем. Оно имеется в «явленном» — но не как таковое, не как «то, что», на него нельзя указать как на существующий объект. Но вместе с тем и «явленное», претворившее в себе «скрытое», тем самым изменено: оно также уже не «эта вещь» «как таковая». Постольку, поскольку явленное претворяет в себе скрытое, оно и оказывается областью их совпадения, не будучи вместе с тем ни тем, ни другим «как таковыми», как «существующими объектами». Эта область их совпадения оказывается чем-то третьим в сравнении с ними. Именно эта область и является объектом, на который указывают слова «между огнем и водой».
Процедура смыслополагания, которая имеет место в данном случае, и выстраиваемая в ее результате логико-смысловая конфигурация могут быть схематично отражены следующим образом:
|
огонь |
Þ |
явленность огня |
Þ |
|
|
|
|
вода |
Þ |
скрытость воды |
Þ |
|
|
|
|
между |
Þ |
то, в чем явлен огонь и скрыта вода |
Þ |
нагретая-вода |
® |
баня |
1.2.1.3. Различение прямого и переносного значений в зависимости от процедуры смыслополагания
Теперь понятно, что в словах астролога не содержалось, собственно, той загадки, что восприняли мы, точнее, того типа загадки, что, как нам представлялось, там присутствует. Не «между кострами и рекой» и в тому подобных местах следовало остерегаться бывать халифу, а там, где явленный огонь претворен скрытой им водой. «Нагретая вода» — вот что являлось предметом, на который указывали слова «между огнем и водой». Собственно, элемент истолкования (неопределенности, гадания) состоял только в переходе «нагретая вода» ® «баня»: халиф должен был угадать, чем именно может быть «нагретая вода», а вовсе не размышлять о том, что же размещено между реально существующими «огнем» и «водой». Сугубо «астрологическим» (эзотерическим, выходящим за границы обычного понимания) был только этот переход истолкования, тогда как указание «между огнем и водой» Þ «нагретая вода» следует считать нормальным языковым указанием.
Возвращаясь к тому, о чем шла речь выше, мы можем сказать: дело вовсе не в том, в прямом или в каком-то искаженном смысле должен был халиф и мы вслед за ним понимать слова астролога. До тех пор, пока мы рассуждаем только о том, загадка ли это предсказание и в чем ее разгадка, не обращая внимания на то, что и само разгадывание загадки может осуществляться в (по меньшей мере) двух принципиально различных направлениях, которые параллельны (то есть не пересекаются, будучи вполне альтернативными), мы пропускаем самое главное. Пока мы не замечаем возможность осуществления (по меньшей мере) двух процедур смыслополагания, дающих нам параллельные логико-смысловые конфигурации, на основе которых только и строится толкование загадки («то, что между раздельными огнем и водой» ® «берег» и т.п. в первом случае, «нагретая вода» ® «баня» и т.п. во втором), мы не замечаем и весьма важного факта, открывающегося только на взаимном контрасте двух процедур смыслополагания и двух логико-смысловых конфигураций, возникающих как их результат. Он состоит в том, что то, что служит прямым значением слов «между огнем и водой» при их понимании в согласии со второй процедурой смыслополагания (то есть «нагретая вода»), является непрямым значением их, коль скоро они понимаются в соответствии с первой процедурой смыслополагания. Если не обращать внимание на различие процедур смыслополагания (а как на него обратить внимание, если существующие теории вовсе не замечают сам факт наличия таких процедур?), рассматривая значения «то, что между [раздельными] огнем и водой» и «нагретая вода» как рядоположенные значения выражения «между огнем и водой», окажется, что первое является прямым значением, тогда как второе — переносным. Именно к такому выводу приведет нас анализ ситуации, если выполнять его средствами традиционной философии и лингвистики. Но он является существенным искажением, поскольку «нагретая вода» также служит прямым значением слов «между огнем и водой». Все дело в том, что значения «то, что между [раздельными] огнем и водой» и «нагретая вода» являются не рядоположенными, когда одно из них было бы прямым, а другое переносным, но параллельными, будучи оба в равной степени прямыми значениями, но полученными в результате разных процедур смыслополагания, осуществленных в ходе понимания номинально одного и того же выражения «между огнем и водой».
1.2.1.4. Уточнение третьего члена логико-смысловой конфигурации
Вернемся к нашему рассуждению. Удачно ли выбрано выражение «нагретая вода»? Заметим, что этот найденный нами смысл должен мыслиться, согласно Рис. 3, как нечто единое: это не «вода, которая нагрета», не смысловая конструкция, созданная по родо-видовой модели, это, иначе говоря, не «вода», в которой мы различаем специфический признак «нагретости» как нечто отдельное от нее самой. Собственно, мы говорим «нагретая», желая выразить факт слитости огня и воды, такого их «совпадения», при котором вода скрыта в явленном огне. На эту «нагретость» указано, в самом деле, как на существующую, однако указано на нее благодаря указанию на «огонь», который как таковой, в границах нашего примера, не является существующим. Указание, которое мы разбираем, — это указание на «нагретость-воды». Пожалуй, говорить «нагретость-воды» в нашем случае предпочтительнее: такая форма точнее выражает обсуждаемую суть смыслообразования. Эта «нагретость-воды» и является тем простым смыслом, который образован как область совпадения (область «между») «огня» и «воды». «Нагретость-воды» как некое простое единство, не предполагающее внутри себя множественности, — вот что нам требуется выразить в данном случае. На Рис. 3 этому простому единству и поставлен в соответствие одиночный объект. Простота этого единого смысла установлена процедурой смыслополагания и составляет неотъемлемую черту логико-смысловой конфигурации, возникающей в результате ее осуществления. Нетрудно видеть, что это установление простоты единого смысла предшествует всякому содержательному его наполнению: прежде чем сказать «нагретость-воды», прежде чем извлечь из некоего семантического поля эту «нагретость», надо иметь область «между» как предполагающую именно такое слияние двух соседних областей (областей «огонь» и «вода»). Логико-смысловая конфигурация предполагает, что мы будем искать содержательную наполненность этого смысла среди «нагретости», «подогретости», «теплоты», «жара» и т.д., вовсе не обращаясь к «берегу» и тому подобным содержаниям. Как и в первом примере, логико-смысловая конфигурация, созданная процедурой смыслополагания, очерчивает (весьма жестко и определенно) ту область допустимых содержаний, которые могут вкладываться в созданный смысл.
Простота единства, устанавливаемая логико-смысловой конфигурацией для области «между», не исчерпывает логическое содержание этой конфигурации. Хотя это единство является простым внутри себя, оно все же предполагает множественность. Эта множественность, однако, полагается вне единства. «Огонь» и «вода» составляют у нас такую множественность; эта множественность полагается вне единства «нагретости-воды».
Характер такой внеположной множественности единства[8] прямо связан с отношением к бытию, которое устанавливается процедурой смыслополагания для входящих в логико-смысловую конфигурацию смыслов. Именно потому и именно постольку, поскольку «огонь» и «вода» внеположны единой смысловой области «между», служащей предметом указания для выражения «между огнем и водой», они не имеют статуса существования. Выражение «между огнем и водой» хотя и указывает на «огонь» и «воду», но не как на существующие в пределах этого выражения. И с другой стороны, они предполагаются этим выражением, но не как существующие.
Вместе с тем «нагретость-воды», смысл, служащий предметом указания выражения «между огнем и водой», также не является «существующим». Я хочу сказать, что ему не может быть приписано существование так же, как оно приписано объекту указания выражения «между огнем и водой», понимаемому согласно разобранной нами первой процедуре смыслополагания (Рис. 2). Ведь в отличие от того примера, здесь объектом указания служит смысл, на который не указано как на «то, что». Логико-смысловая конфигурация, выстраиваемая в данном случае, не включает такое указание. Указание на «то, что» (первый пример) предполагает, что служащий объектом указания смысл уже имеется как таковой; указание — лишь отсылка к тому, что «уже-там». Именно такое понимание и предполагает возможность говорить о существовании того, к чему отсылает нас указание; и, напротив, смысл «существования» (обладания-сущностью) состоит, очевидно, в возможности такой отсылки.
Таков ли в нашем случае смысл, к которому отправляют слова «между огнем и водой»? Попытаемся уловить «онтологический статус» этого объекта. На первых порах нам не обойтись без метафор; лишь позже мы сможем достичь теоретической ясности.
Можно сказать, что этот объект «не готов» как таковой; он только делается в процессе нашего указания на него. Он как бы возникает в ходе нашего указания на него и понимания его: этот смысл оказывается не готовой вещью, но процессом. В самом деле, пока что мы можем лишь сказать, что «нагретость-воды» ― это нечто, только утверждаемое в ходе нашего указания на него. Этот смысл выстраивается как особая соположенность «огня» и «воды», которые, хоть и названы прямо, тем не менее не предполагаются этим указанием как «то, что», как бытийствующие сущности. Сливающиеся и претворяющие одно другое «огонь» и «вода» в этой своей не-бытийствующей соположенности утверждают «нагретость-воды».
1.2.1.5. Описание логико-смысловой конфигурации в собственных терминах арабской теоретической мысли
Были введены три понятия: «явленное», «скрытое», «утверждение». Эти понятия, как я говорил, не изобретены мной, они входят в число фундаментальных категорий, которыми оперирует арабская традиция мысли. Это (соответственно) захир, батин, исбат. Ограничимся этим замечанием, не разбирая подробно данные понятия в окружении множества их производных, таких, как зухур «явленность», захириййа «явленность», бутун «скрытость», сабат «утвержденность», субут «утвержденность» и т.д. Впереди у нас достаточно обстоятельный разговор о том, каким образом в арабской интеллектуальной традиции действовали процедуры смыслополагания, о которых идет речь. Если я прав и найденная процедура смыслополагания действительно определена логикой смысла, которой следовала средневековая арабская культура, мы обнаружим, что названные понятия функционируют в качестве важнейших процедурных понятий; я говорю «процедурных» потому, что в них отражаются процедуры смыслообразования, осуществляемые этой культурой. Насколько это отражение адекватно, иными словами, насколько сама арабская культура отчетливо осознавала и явно, пред-ставленно формулировала эти процедуры, — вопрос другой, и нам предстоит его исследовать. Однако сам факт отражения в каком-то виде, очевидно, должен был иметь место; трудно предположить, что фундаментальные аспекты процедуры смыслополагания, даже если они (как и сама процедура) не стали предметом рефлексии, вовсе не повлияли на построение терминологии и никак не воплотились в ней. Напротив, в ходе исследования мы найдем, что именно эти понятия составляют костяк терминологии, с помощью которой культура осмысляет фундаментальные структурные аспекты собственной смыслоорганизации. Естественно, что эти понятия — не единственные в этом роде, конечно же, рядом с ними имеются и другие. Но именно эти являются наиболее глубинными собственными понятиями культуры, на основе которых строятся прочие, участвующие в описании многоразличных операций, в ходе которых осуществляется смысловывод и смыслопостроение.
1.2.2. Составляют ли «явное-скрытое» собственную и несводимую к инокультурным аналогам терминологическую пару?
Не будет неожиданным наблюдение, что терминология, отмеченная в качестве фундаментальной процедурной, непривычна. Она как бы «не дотягивает» до этого статуса фундаментальности; она, кажется, слишком легковесна и лишена какого-то действительно глубинного содержания. Из нее, иначе говоря, как будто не вытекает ничего особенно интересного; она вроде бы не содержит в себе потенции действительно производительных идей. Она, кажется, ничем особым не выделяется из массы похожих, рядом-стоящих терминов. Что еще хуже, она, кажется, не является специфической для арабской интеллектуальной традиции. В самом деле, разве противопоставление «явленности» и «скрытости», «внешнего» и «внутреннего» не встречается в традиции западной мысли? Более того, разве такое противопоставление не является просто плохо сформулированным противопоставлением явления и сущности, материального и идеального, физического и метафизического, т.д.? Разве не обсуждается в западной мысли «утверждение» и не окажется ли это понятие, гипотетически-фундаментальное для арабской традиции, лишь результатом перенесения технического термина логики и теории познания на инородную почву и придания ему несвойственного статуса? Да что там западная традиция; разве другим так называемым «восточным» традициям вовсе уж не известны подобные термины? разве, скажем, индийская мысль не рисует мир как только игру, как «майя», иллюзию, являемую нам и скрывающую за собой единство Брахмана?
Такие или примерно такие вопросы наверняка возникли у любого, кто взял на себя труд всерьез отнестись к прочитанному до сих пор. Они вполне оправданны: если бы таких вопросов не возникало, понимание чужой традиции было бы простым и беспрепятственным. Мыслители стремятся увидеть сходство различного, обнаружить общее за пестротой явлений, называя это, в зависимости от философских убеждений, сущностным, общим, инвариантом или как-нибудь еще. Сколь многие убеждены (если, конечно, устояли перед искушениями постмодернизма во множестве его трактовок), что найти такое общее предпочтительнее, что победить разноголосицу явлений в пользу сущностного единства — путь к подлинному пониманию. Да и мыслители, столь ярко блистающие в постмодернистском пантеоне, отнюдь не избегают диктата общего, отнюдь не покидают вовсе эту веками шлифуемую западной традицией позицию и, допуская безвластие общего в некоторых сферах, тем скорее склонны безапелляционно утверждать его власть в целом. Я не буду делать вид, будто свободен от точно такого же стремления обнаружить общее; я лишь убежден, что искать общее и находить инварианты в обсуждаемой нами сфере можно, только различая содержательный и логико-процедурный аспекты смыслопостроения.
Если рассматривать категории «явление» и «сущность», как они понимались в западной традиции, и пару терминов «захир “явленное” — батин “скрытое”», как они функционировали в арабской традиции, — если рассматривать их исключительно с точки зрения их содержания, не обращая внимания на то, что было описано выше как процедура смыслополагания, на то, каким образом само содержание этих понятий определено в решающей степени этой процедурой, ― тогда, в самом деле, совсем нетрудно будет найти в них очень, очень много совпадающего. Не обращая внимание на логико-смысловые аспекты этих понятий, будет совсем легко перейти от наблюдаемых «совпадений» и «схождений» к утверждению о том, что и та и другая пара понятий выражает одну и ту же «общую» интенцию понимания, но несколько различным образом, тем самым распространив столь императивную схему понимания «сущность-явление» и на рассмотрение самих этих понятий: так оказывается найдена сущность философского подхода и философского познания, демонстрирующая себя в разных явлениях. Что некоторые из этих явлений окажутся скорее вскрывающими сущность (иначе говоря, одни терминологические системы окажутся более развитыми и более приспособленными для воплощения этого общего подхода к философскому познанию), чем другие, будет лишь естественным следствием такого как будто бы найденного «общего» понимания, и не составит труда догадаться, что именно западная философская традиция окажется более «сущностной», нежели иные. Примеров такой трактовки инокультурных традиций и такого понимания методологии сравнительных историко-философских исследований более чем достаточно, и нет никакой нужды приводить примеры, — едва ли не любое исследование на эту тему может служить образцом подобного подхода.
Подобное «сведение к общему», которое мы наблюдаем сплошь и рядом, возможно только при незамечании тех содержательных различий в сравниваемых терминах (скажем, при сравнении пары «явление-сущность» с парой «захир “явленное” — батин “скрытое”»), которые определены различиями в процедурах смыслополагания, находящих свое отражение в таких терминах. В самом деле, как отделить «существенное» от «несущественного», сравнивая содержание двух понятий? Что считать решающим различием, а что лишь вариантом, которым можно пренебречь? Не имея того критерия, о котором я говорю, совсем нетрудно именно пренебречь различиями, — теми различиями, которые, однако, становятся решающими, если рассматривать их с точки зрения этого критерия. Более того, ими тем скорее пренебрегут, что эти содержательные различия выглядят «странными» для взгляда, сформированного западной традицией, они, кажется, совсем не согласуются с тем, что должно было бы мыслиться в рассматриваемых терминах, скажем, в паре «захир “явленное” — батин “скрытое”»; а раз так, они совсем легко списываются на счет «специфики восточной мысли», каковая специфика в таком случае вполне «оправданно» отбрасывается ради общего и существенного. Отметим, что уверенность нашего гипотетического исследователя, рассматривающего инокультурную традицию, в том, что ему совершенно точно известно, что должно было бы (mutatis mutandis) мыслиться в таких понятиях, неотъемлема от всего хода рассуждений, и без нее конечный результат таких рассуждений был бы недостижим. И если кто-нибудь возразит, что придуманный мной мыслитель — лишь плохая карикатура на реального философа, такое возражение я вряд ли смогу принять: ниже на весьма ярких и представительных примерах выявятся все черты именно такого подхода.
1.2.2.1. «Явное-скрытое» в отношении к истине
После этого введения пора, пожалуй, перейти к делу и сказать, каковы же решающие черты понятий «захир “явленное” — батин “скрытое”», определяемые той процедурой смыслополагания, что показана на Рис. 3.
Их можно выразить следующим образом. В паре «явленное-скрытое» ни один из членов не обладает статусом большей истинности, нежели другой. Они равно относятся к истине. Это значит, что переход от «явного» к «скрытому» не является переходом от менее истинного (или вообще неистинного) к более истинному (или подлинно-истинному)[9]. Впрочем, и наоборот: переход от «скрытого» к «явному» не уменьшает степень истинности (и не является переходом порогового значения «истина — не-истина»). Именно поэтому «явленное» — это не «явление» западной традиции, а «скрытое» — не «сущность».
Равно-значимость и равно-истинность захир «явленного» и батин «скрытого» будет продемонстрирована ниже на многочисленных примерах из истории средневековой арабской мысли. Пока мы можем рассмотреть ее и на том, с которого начали. Пытаясь описать «нагретость-воды», мы не сможем сказать, что «вода» выражает ее истинность скорее, нежели «огонь», или что переход от «огня» к «воде» будет переходом от явления к сущности «нагретости-воды». Скорее не так; скорее мы можем сказать, что только переходом от «огня» к «воде» и обратно утверждается «нагретость-воды». Сама возможность такого перехода и означает утвержденность третьего смысла, а именно, «нагретости-воды». Лишь говоря о «нагретости-воды», мы, собственно, и можем говорить, что переход от «огня» к «воде» возможен не как переход от явления к сущности, но как переход от явленного к скрытому. Для «нагретости-воды», утвержденной возможностью такого перехода, огонь и вода равно составляют ее необходимость, и ни то ни другое не может быть расценено как не-истинное или менее-истинное, ни то ни другое не может быть потому «преодолено» или «отброшено» как ступень в восхождении к подлинной-истинности.
Говоря о возможности перехода «огонь» Û «вода», мы вместе с тем нашли выражение, которое определяет понимание истинности в пределах разбираемой логико-смысловой конфигурации. Переход «огонь» Û «вода», или, в общем случае, «захир “явленное” Û батин “скрытое”», не является переходом к истинному от неистинного. И тем не менее он является переходом, в котором достигается истинность. Самой возможностью перехода «огонь» Û «вода» утвержден третий смысл, а именно, «нагретость-воды». Истинность как «утвержденность» благодаря возможности перехода «явленное-скрытое» — вот что подразумевается логико-смысловой конфигурацией, отраженной на Рис. 3.
1.2.2.2. «Явное-скрытое» и «явление-сущность»: мнимая аналогия
Если для соотношения «захир “явленное” — батин “скрытое”» принципиально, что ни один из терминов не является более истинным, чем другой, но лишь вкупе и в возможности взаимного перехода «захир “явленное” Û батин “скрытое”» они создают истинность утверждаемого ими смысла, причем это понимание распространяется не только на сами эти термины, но и на любые пары, которые могут быть описаны как находящиеся в соотношении «захир “явленное” — батин “скрытое”» (и напротив, если мы описываем пару понятий как подчиняющуюся соотношению «захир “явленное” — батин “скрытое”», мы тем самым утверждаем, что ни одно из них не претендует на статус большей истинности, чем другое, но между ними непременно возможен взаимный переход, причем возможность такого перехода утверждает некий третий смысл и, в свою очередь, утверждена этим третьим смыслом), так что наше наблюдение распространяется не только на сами эти термины, но и на все, что описывается ими, — то для соотношения «явление-сущность» (как телесное-духовное, материальное-идеальное, физическое-метафизическое, земное-небесное — примеров действия этого механизма осмысления мириады, и они охватывают отнюдь не только сферу философии) характерно как раз противоположное: переход от первого ко второму является всегда углублением нашего знания, восхождением от преходящего к постоянному, от неистинного к истинному, от определяемого к определяющему, от того, чем можно пренебречь, к подлинному и сохраняемому, таким переходом, который, будучи совершен, избавляет нас от нужды в ступени, с которой мы начали и с которой поднялись к истинному и подлинному. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что этим выражена суть понимания соотношения явления и сущности в западной традиции; конечно, выполненное описание может быть дополнено или модифицировано, но едва ли изменится по существу. Это понимание вряд ли нуждается в доказательствах, которые могли бы быть приведены здесь, — ведь доказательством его служит вся история западной мысли. Я ограничусь лишь несколькими иллюстрациями. Поскольку это иллюстрации, я намеренно обращаюсь не к центральным философским фигурам или, во всяком случае, не к их центральным философским рассуждениям. Причина этого следующая: устойчивое проявление одних и тех же интенций осмысления во второстепенных, далеко отстоящих как от центра, так и друг от друга областях философской (да и в целом теоретической) мысли гораздо показательнее в данном случае (заметим попутно, что такая логико-смысловая обусловленность аспектов культуры, не связанных генетически или каузально, и выявляет подлинную «морфологию культуры»), поскольку свидетельствует о тотальности этих интенций. А увидеть яркие примеры их проявления у столпов философии не составит труда ни для кого, поэтому я считаю возможным опустить указание на них.
В качестве первой иллюстрации возьмем небольшое произведение А. С. Хомякова о единстве церкви [Хомяков]. Поставленные в нем вопросы обсуждаются как раз с точки зрения противопоставления внешнего — внутреннему, выдвигается постулат о полноте и законченности истины в апостольских учениях (а потому Церковь — апостольская), наконец, о неизменности («фиксированности», «утвержденности») установлений Церкви. «Явленное» и «скрытое», равно как и «утвержденность», — весь комплекс терминов, которые предложено рассматривать в качестве характеризующих тот способ смыслопостроения, что составляет специфику и особое лицо классической арабской культуры, присутствует здесь. Наверное, скажет предполагаемый оппонент, дело вовсе не в «национальной» («цивилизационной», т.д.) специфике культуры, а, к примеру, в стадиальных особенностях развития общества, в том, что религиозное сознание, не важно, исламское оно или христианское, оперирует схожими категориями, которые, кстати говоря, уступят свое лидирующее место на следующей стадии развития того же общества другим категориям, соответствующим новому этапу. Этого этапа, именуемого в истории Запада Новым временем, одни цивилизации уже достигли, другие нет: дело заключается, с точки зрения моего гипотетического оппонента, в стадиальных различиях, а вовсе не в «цивилизационных» особенностях, которые я анализирую здесь как различие в процедурах смыслополагания.
Так ли это? Прислушаемся к рассуждению Хомякова и не станем спорить о словах — вникнем в суть дела.
Различение «внешнего» и «внутреннего» у Хомякова — это непременно различение двух онтологически разводимых пластов. «Внешнее» — видимое оку, «внутреннее» — «обличение невидимого», божественное. Поэтому и гносеологически эти две стороны различаются: первое постигается разумом и чувствами, второе — только верой. Нетрудно заметить, что разведение это принципиальное, и ни о какой «одноуровневости» или «равнозначности» этих двух сторон речь идти не может. Напротив, все дело в их неустранимом различии. «Неизменность» («утвержденность») — это неизменность именно внутреннего, того, что Хомяков называет «духом». Внешнее как раз может меняться, и от этого «неизменность» не терпит никакого ущерба — пока дух, внутреннее, не затронут. Качество «неизменности», «утвержденности» приписывается одному из двух элементов, а не третьему, «утверждаемому» в их взаимном переходе эквивалентности, как мы то видели, разбирая логико-смысловую конфигурацию, отраженную на Рис. 3. Коль скоро так, то и сам переход эквивалентности между этими двумя элементами в рассуждении Хомякова невозможен. Далее, и «полнота», о которой у него идет речь, есть полнота именно духа, «внутреннего», а вовсе не «внешнего», которое по самой своей сути неполно.
Понимание «внутреннего» как более истинного, нежели «внешнее», безусловно связано с трактовкой его как «сущности», противопоставляемой «явлению». Что может быть более красноречивым подтверждением очевидности такого подхода для представителей западной философской традиции, нежели название сочинения Д. Толанда «Клидофорус», данное сообразно стилю времени пространно и витиевато: «Клидофорус, или Об экзотерической и эзотерической философии, т.е. о внешнем облике и внутреннем содержании учения древних: одно — явное и общепринятое, приспособленное к ходячим воззрениям и религиям, установленным законом; другое — скрытое и тайное, предназначенное для способных и глубокомысленных, в котором сообщается подлинная Истина, лишенная всяких покровов»? В этих словах столь ясно и отчетливо заявлено безусловное разделение и соподчинение явного и скрытого как неподлинного и истинного, что вряд ли они нуждаются в комментариях. Толанд же, как будто не удовлетворяясь собственными формулировками, ссылается еще и на Парменида, слова которого берет в качестве эпиграфа, желая засвидетельствовать древность и авторитетность выдвигаемого разделения: «Душа и ум тождественны. Философии две, одна сообразно истине, другая сообразно мнению. Критерием же истины является разум» [Толанд, с. 313].
Когда Паскаль в своих «Мыслях» говорит о необходимости найти «истинный смысл» Библии, который примирил бы противоречия ее текста (два естества в Иисусе Христе, двукратное пришествие, два состояния в человеке) [Паскаль, с. 181—182], это оказывается как будто очень похожим на поиск того, что в классической арабской культуре называется «внутренним», или «скрытым» (батин); более того, развивая аналогию, мы можем подчеркнуть, что именно это «скрытое» именовалось в арабской теоретической мысли «смыслом» (ма‘нан), или «понимаемым» (мафхум). Аналогия складывается как будто весьма удачно: и там и тут «смысл» оказывается «скрытым», тем, что разыскивается и что дает основание для понимания, и если арабская культура прямо использует термин «скрытое» (батин), а Паскаль лишь говорит о необходимости «открыть смысл», дело от этого существенным образом не меняется, и мы вполне вправе заключить, что и для Паскаля этот искомый смысл «скрыт» за внешними противоречиями, которые и примиряются им. Так два категориальных ряда совпадают как будто не только по существу, но даже и номинально. Что не совпадает, так это понимание соотношения между внешним и внутренним и то, где (на стороне чего) мыслится истина в двух случаях. Для Паскаля абсолютно очевидно, что истина целиком и полностью заключена в том, что он называет «смыслом», тогда как противоречия не более чем внешние, а потому неистинные. Сама интенция его рассуждений свидетельствует об этом: он ищет, как сам говорит, «истинный смысл», в котором примирились бы противоречия; по истине противоречий нет, они, напротив, исчезают в истине, будучи внешними, неподлинными. Здесь нет того, что принципиально для арабской теоретической мысли: понимания «внешнего» и «внутреннего» как гармонично согласованных, переходящих одно в другое, где истина не лежит ни на одной из сторон, но заключена в возможности их перевода одной в другую.
А вот еще одна иллюстрация. Эразм Роттердамский пишет:
Есть в Законе у иудеев такие предписания, которые скорее обозначают святость внешне, чем выражают по существу; в их числе — праздники, субботние уставы, посты, жертвы. И есть такие, которые надо блюсти всегда, которые хороши сами по себе, а не оттого, что их приказано соблюдать [Эразм, с. 92 (курсив мой. — А. С.)].
В этих словах очень настойчиво выражена противопоставленность «внешнего» и «внутреннего», хорошего «самого по себе» и хорошего «в силу чего-то иного» (в силу приказа). Для нас важно, что эта противопоставленность выдержана по принципу дихотомии, взаимоисключения, а не взаимо-обусловленности и взаимополагания. Ведь нечто хорошо, говорит Эразм Роттердамский, либо внешне, либо по существу (само по себе), и одно никак не обусловлено другим. Далее, два противопоставления («внешне — по существу», «в силу приказа — само по себе») явно отождествляются или, во всяком случае, ставятся в подобие причинно-следственного ряда. Быть хорошим «по существу» и «самому по себе», безусловно, лучше, чем быть хорошим «внешне» и «благодаря чему-то другому». И именно потому, что нечто хорошо «по существу», оно хорошо и «само по себе», поскольку добро его заключено в собственной сущности, а не в чем-то внешнем. Такое внешнее самому предмету (как приказание в разбираемом случае) может и не иметь к нему никакого отношения и потому сообщает ему добро только внешне, не затрагивая существа дела.
Интересно, что импликации приведенного примера не ограничиваются сказанным. В мысли мутазилитов — представителей раннего калама, первого течения средневековой арабской философии, вопрос о том, хорошо ли действие «благодаря самому себе» или «благодаря причине», занимал важное место при обсуждении этической проблематики. Таким образом, не только в проявлениях западной мысли так легко увидеть и «узнать» ходы, характерные для арабской, но и наоборот: арабская мысль может продемонстрировать построения, столь удивительно «знакомые» из истории западной философии. И в том и в другом случае узнавание оказывается ложным и так легко вводящим в заблуждение именно потому, что ложность эта труднораспознаваема без того надежного критерия, который предоставляет логика смысла.
1.2.3. «Утверждаемое» как взаимный перевод «явного» и «скрытого»
Выше шла речь о переходе «огонь» Û «вода» как переходе «захир “явленное” Û батин “скрытое”» и тех его особенностях, которые определены рассматриваемой логико-смысловой конфигурацией (Рис. 3) в сравнении с отношением, которое описывается парой «явление-сущность». Теперь можно продвинуться немного дальше и вместо вопроса о переходе поставить вопрос о переводе. Что нужно, чтобы переход от одного к другому стал переводом одного в другое?
Очевидно, что для этого необходимо единство «одного» и «другого». Следовательно, наш вопрос может быть задан в такой форме: едины ли «огонь» и «вода» в каком-либо отношении?
Да, они едины в отношении «утверждаемого» ими смысла, в отношении «нагретости-воды». А именно, как «нагретость-воды» огонь является тем же, что вода, — но иначе. Это значит, что возможен не только переход от «огня» к «воде», но и перевод «огня» в «воду». Употребляя слово «перевод», я подразумеваю, что переход от одного смысла (например, «огонь») к другому («вода») является переходом эквивалентности. «Огонь» равен «воде» в некотором отношении — постольку, поскольку в «нагретости-воды», возможной только благодаря огню и воде, огонь и вода неразличимы.
Вывод, к которому мы пришли, вполне естествен с той точки зрения, что основанием эквивалентности перевода является единство («утверждаемый» в логико-смысловой конфигурации смысл, «нагретость-воды»), внеположное собственной множественности, так что элементы этой множественности оказываются равны друг другу именно через это единство и благодаря этому единству (мы можем сказать: через свое единство и благодаря своему единству, поскольку это именно их, и ничье иное, единство). Собственно, потому-то и возможно единство, что составляющие множественность элементы каким-то образом равны друг другу. Это верно для любого единства, независимо от того, каким образом, на каком логико-смысловом основании, оно достигается. Но дело именно в том, что такие основания могут быть различными, будучи определяемы разными процедурами смыслополагания. В зависимости от того, каким образом члены, составляющие множественность, равны друг другу, единство достигается на том или ином основании, а значит, и отношение единства к множественности будет разным. Так в одном случае едиными окажутся такие смыслы, которые никак не будут мыслиться как единые в другом случае. Так в одном случае само содержание понятия «единство», равно как и понятия «множественность», будет совсем иным, чем в другом. Так в одном случае отношение единства к множественности будет совершенно иным, чем в другом.
1.2.4. О процедурной предопределенности смыслового содержания
Рассуждая о соотношении смыслов, отображенных на Рис. 3, мы пришли к следующим результатам. Оказалось, что ряд категорий и поднимаемых через них проблем могут быть поняты как описание логико-смысловых конфигураций, создаваемых в ходе применения различных процедур смыслополагания, и, далее, как рассуждение о преобразованиях внутри этих логико-смысловых конфигураций (переход от одного члена к другому, установление равенства между членами, т.д.). Это означает, что существуют по меньшей мере некоторые проблемы (например, проблема единства-множественности), сама постановка и решение которых определены логико-смысловыми факторами. Те смысловые возможности, которые открываются в развитии этой проблематики на протяжении истории философии, предопределены логикой смысла.
Определенность смысла процедурой смыслополагания, иначе говоря, его внутренняя логическая определенность, открытая в ходе нашего рассуждения, требует фиксации ряда положений и постановки ряда вопросов. Сферой логики (логической определенности и объективной закономерности) традиционно считалась сфера отношений между смыслами, отношений, не зависящих от внутреннего содержания смыслов и именно в силу этого безусловно отвлекаемых от любой конкретности и составляющих собственную сферу универсальной закономерности. Мы обнаружили, что внутреннее строение смысла, то, чем оказывается тот или иной смысл (в наших примерах: чем является «между огнем и водой», чем является «берег» или чем является «баня», с какими другими смыслами они содержательно, а не формально связаны и какие другие смыслы они содержательно предполагают), также определено — во всяком случае, частично — объективной логикой, не зависящей от данной конкретной содержательности. Именно это и позволило ввести понятие «логика смысла».
1.2.5. Первое определение понятия «смысл»
Сказанное дает возможность предложить определение понятия «смысл», соответствующее духу этой работы. Я предлагаю называть «смыслом» то, для чего может быть указана фундирующая его процедура смыслополагания. Это потому «смысл», что всегда может быть показана конфигурация, определяющая его логическое (объективное, не зависящее от конкретного содержания) отношение к другим элементам этой конфигурации. Так определение смысла указывает на главное, о чем идет здесь речь: мы не свободны в своем обращении со смыслами до тех пор, пока не осознаем их принципиальную логическую определенность процедурами смыслополагания. Такие процедуры могут быть разными; на разобранном примере была продемонстрирована возможность по меньшей мере двух.
1.2.6. Зависимость смысла от процедур смыслополагания: несколько теоретических положений
Определенность смысла процедурой смыслополагания имеет по меньшей мере два следствия, касающиеся любого произвольного смысла С.
1. Мы не свободны вкладывать в С «любое содержание». То, чем является С, будет определяться не только тем, каким образом мы наделим С некой смысловой ценностью («номинальным содержанием»), но и тем, в какой процедуре смыслополагания С мыслится, понимается, функционирует. Ведь отношение С к другим смыслам определяется не только той смысловой ценностью («содержанием»), которой мы (как обычно предполагают) вольны наделять С1, С2, С3 и вообще любой Сj, но и той процедурой смыслополагания, которая конфигурирует С с С1, С2, С3 … Сj. Иными словами, то, как «ведет себя» С, определено логикой смысла не меньше (если не больше), чем приданной С смысловой ценностью («номинальным содержанием»).
2. Вопрос о том, является ли некий смысл С «тем же самым», может ставиться и решаться только с учетом процедуры смыслополагания. Это можно выразить и так: «то же самое» может быть действительно «тем же самым» только при условии, что оно понимается согласно той же самой процедуре смыслополагания, а значит, включено в ту же самую логико-смысловую конфигурацию. Быть «тем же самым» означает не просто «номинальное равенство самому себе»; для того, чтобы номинальная идентичность сопровождалась содержательным равенством, необходимо, чтобы процедура смыслополагания, определяющая содержательность, сохранялась также. «Огонь» на Рис. 2 и Рис. 3 — это не «один и тот же огонь», и то же верно для любых других смыслов, отображенных на этих рисунках.
Далее, можно сформулировать два положения, касающиеся универсальности и переводимости процедур смыслополагания:
3. Не может быть смысловых систем со смешанными процедурами смыслополагания. Если для понимания данного слова применяется определенная процедура смыслополагания, то и в понимании фразы, текста и вообще любого смыслового отрезка в данной культуре будет действовать та же процедура смыслополагания.
4. Утверждение о том, что мы имеем дело с «одним и тем же смыслом», может пониматься двояко: в своем номинальном аспекте и в аспекте, определяемом процедурой смыслополагания (см. п. 2). Вместе с тем сама возможность номинального совпадения того, что определено различными процедурами смыслополагания, а значит, не совпадает в своей логико-смысловой наполненности, ставит нас перед определенной проблемой. Наше «между огнем и водой», не меняясь номинально (оставаясь тем же самым выражением русского языка), может быть наполнено содержанием на основе по меньшей мере двух различных логик смысла. С одной стороны, это показывает, что проблема понимания — это не только и не просто проблема понимания содержания, но и, прежде того, проблема понимания логико-смысловой процедуры, это содержание формирующей. С другой стороны, это ставит перед нами следующий вопрос: может ли одна процедура смыслополагания быть переведена в другую? Как возможен перевод содержания, созданного на основе определенной логики смысла, в содержание, созданное согласно иной логике смысла?
И наконец, вопрос о соотношении между «словом» и «смыслом»:
5. Коль скоро смысл определен процедурой смыслополагания, должен ли быть найден особый способ указать на эту определенность? Ведь такая определенность совсем не заметна в слове как таковом, в его номинальном аспекте; не случайно нам пришлось прибегать к иллюстрациям, чтобы отразить этот факт определенности смысла процедурой смыслополагания и создаваемой в ее ходе логико-смысловой конфигурацией.
§ 2. Некоторые импликации логико-смысловой теории
Достигнутое таким образом понимание того, что такое смысл, позволяет рассмотреть с намеченных позиций два других вопроса. Это вопрос о переводе (и в этой связи — о понятиях «слово», «смысл», «значение») и вопрос о понимании иных (чужих, чужеродных, инокультурных) философских традиций. При кажущейся разноплановости этих вопросов их объединяет то, что оба они касаются стратегии проникновения за слово. Как узнать, что там, за той оболочкой, которая фиксирует нечто в звуке или письме? Мы видели, что переход к этому за-словью — логически членимый и упорядоченный процесс. Таким ли он предстает и в теориях, которые трактуют процесс понимания и перевода? Не будем по вполне понятным причинам останавливаться на всех подобных учениях — для этого необходимо отдельное исследование. Коснемся лишь воззрений Фреге и его последователей и поговорим о позиции Деррида и некоторых других представителей постмодернизма. Но прежде завершим разговор о том, что такое «смысл», — тем более, что все эти вопросы взаимосвязаны.
2.1. Понятие «смысл» и традиционная семантика
2.1.1. Означающее, означаемое и смысл
В недавно вышедшей книге Дж. Фодора и Э. Лепора современная ситуация в области семантики и возможности ее дальнейшего развития охарактеризованы следующим образом:
В противовес широко признанному мнению философов, в области семантики, насколько мы можем судить, практически никакие возможности на сегодняшний день не закрыты; аргументы, которые, как считается, опровергли их, совершенно, с нашей точки зрения, несостоятельны. …Холистские теории значения как будто должны быть признаны истинными, коль скоро семантические свойства существенно разделяемы (данным языковым знаком со всеми прочими. — А. С.) и различия между аналитическими и синтетическими высказываниями не существует. С другой стороны, коль скоро аргументы, приведенные в нашей книге, верны, ничто не заставляет считать семантические свойства существенно разделяемыми. Но в случае, если причиной того, что ничто не заставляет считать семантические свойства существенно разделяемыми, является тот факт, что семантические свойства существенно точечны, то… нам совершенно необходима атомистическая теория значения. Какую бы точку зрения ни занять, ситуация в современной теории значения представляется крайне шаткой [Фодор, Лепор, с. 207, 206].
С выводами, к которым приходят авторы, можно согласиться постольку, поскольку они отражают в наиболее обобщенном виде факт существования двух основных направлений в исследованиях по семантике. Первое основывается на убеждении, что значение языкового символа образуется его отношением к внеязыковым объектам. Представителями этой «атомистической» традиции семантических исследований являются, согласно нашим авторам, эмпирики — прагматисты типа Пирса и Джеймса, Венский кружок, Рассел, бихевиористы, ученые, развивающие модели семантической репрезентации информации. Другая традиция, уверенная, что значение символа («семантические свойства» языкового знака) определяется по крайней мере частично его ролью в языке, придерживается «холистских» теорий значения. Она берет начало в работах философов-фрегианцев, последователей Витгенштейна и лингвистов-структуралистов и представлена такими именами, как Дэвидсон, Куайн, Деннет, Патнэм, Рорти и др., специалистами в области искусственного интеллекта и т.д. Это направление придерживается холистского взгляда, согласно которому для того, чтобы определить значение одного символа, надо определить роль данного символа во всех возможных «языковых ситуациях», определяя тем самым весь язык [Фодор, Лепор, с. 7].
Повторю: обсуждаемая цитата из книги Фодора и Лепора интересна здесь лишь постольку, поскольку дает емкое представление о двух магистральных направлениях в семантических исследованиях. Для меня важно обратить внимание не на само содержание многоразличных семантических теорий, а на тот фундамент, на котором они все стоят. Это единство как бы не замечается нашими авторами, которые ведут речь о двух альтернативных принципах семантики, — скорее всего, за ненужностью упоминания этого очевидного единства. Но для нас будет интересно вывести его на свет. Дело в том, что как сама приведенная классификация, так и классифицируемая лингвистическая, семантическая и философская традиция независимо от различия направлений базируется на уверенности в безусловной возможности строить семантическую теорию как разговор о «значении», которое для самого теоретика выступает как некоторая готовая целостность, как некая сущность фундаментального уровня, которая как таковая далее не обосновывается, поскольку не предполагает уровней анализа, которые располагались бы глубже ее. «Означаемое» как таковое, как именно «означаемое», во всех этих теориях предстает как наличное для теоретика, как уже-готовое в этой своей функции означаемого. Чем эти теории различаются, так это решением вопроса о том, где помещается означаемое и, соответственно, прямым и непосредственным или разветвленным и опосредованным будет путь, пролагаемый от «означающего» к такому «означаемому». Соответственно, условная стрелка обозначения, связывающая означающее и означаемое, будет либо пролегать прямо от «знака» к «объекту» (или также к соответствующему ему ментальному образу), либо вести нас от «знака» к «прочим знакам» (всем или большинству) языка и уже потом — к «объектам». Но, так или иначе, вопрос о внутренней сложности этой «стрелки обозначения» в любом ее звене не ставится постольку, поскольку отсутствует представление о возможности ее просчитывания за счет исследования более фундаментального, нежели отношение означающего к означаемому, семантического уровня.
Предлагаемая мной возможность понимания того, что такое «смысл», существенно иная. Именно между «языковым знаком» и его «значением» располагается сфера, которую я назвал сферой полагания смысла. Здесь осуществляются процедуры смыслополагания, которые и определяют, «куда» направится символическая стрелка от языкового знака. В зависимости от того, какая процедура смыслополагания осуществляется, эта стрелка, идущая от языкового знака, примет то или иное направление. Поэтому значение языкового знака определяется не просто тем, как оно «установлено» и «закреплено» за этим знаком (если мы придерживаемся атомистической теории), и не просто тем, как оно «выплавляется» из многообразия возникающих в функционировании языка коннотаций (если нам по душе холистские теории значения), но еще и, если не в решающей степени, тем, как оно выстраивается в логико-смысловой конфигурации.
Эта выстраивающая смысл процедура равным образом ускользает от внимания авторов как атомистических, так и холистских теорий значения. Это проще всего заметить на примере сравнения выдвинутых мной положений с тем, как рассматривала бы поднятые вопросы репрезентационная теория. Возьмем некий «обобщенный образ» подобных теорий, не затрагивая различий между ними и рассматривая только принципы подхода к анализу соотношения между языковым знаком и значением, характерные для этих теорий.
2.1.2. Репрезентационная теория и логика смысла
2.1.2.1. Как связаны «глубинные» и «поверхностные» структуры языка, или может ли репрезентационная теория объяснить два разных понимания предсказания астролога
Здесь прямизна и простота (отсутствие внутреннего строения: стрелка соединяет две точки, знак и значение, между которыми ничего не происходит) стрелки, соединяющей «языковой знак» с его «значением», отражает тот факт, что для одних и тех же исходных условий имеются одни и те же следствия: одни и те же «поверхностные» (непосредственно-языковые) структуры ведут нас к одним и тем же «глубинным» (смысловым) структурам. Вопрос, несомненно, заключается в том, как определить «одинаковость» поверхностных структур. Будут ли языковые структуры, служившие предметом разбора на Рис. 2 и Рис. 3, признаны подобными теориями «одними и теми же» или нет? Есть ли в этих двух структурах что-нибудь, что указывало бы на такое различие, которое оправдывало бы различие в результатах (подразумеваемом смысле)? Можно ли объяснить, почему обнаруживаются различные «глубинные структуры» при переходе к ним, как представляется, от одних и тех же «поверхностных структур»?
Кажется, на этот вопрос трудно ответить утвердительно. Это трудно тем более, что речь на этих двух рисунках идет не о двух различных ситуациях, а об одной. Собственно, мы различаем ситуации на Рис. 2 и Рис. 3, пользуясь понятием процедуры смыслополагания; остается вопросом, различала ли бы их репрезентационная теория. Ведь мы говорим, собственно, об одном и том же тексте — об одном и том же буквально, как если бы астролог-предсказатель и его халиф говорили по-русски или как если бы тот арабский текст, который на самом деле был предметом их внимания, был адекватно представлен нам в русском переводе. Конечно, эти допущения как таковые могут быть подвергнуты сомнению в данном конкретном случае: астролог и халиф едва ли знали русский язык (который к тому же в их время еще и не сформировался) и уж тем более едва ли говорили на нем, а что касается адекватности перевода, то вряд ли кто-то возьмется отстаивать ее на примере любого конкретного текста, не говоря уже о ясности самого понятия. Однако никак не может быть подвергнут сомнению тот факт, что наше рассуждение не стало менее правильным оттого, что с самого начала мы не обратили внимание на некорректность этих допущений. В том-то и дело, что ситуация является именно ситуацией «как если бы»: этой некорректностью можно пренебречь. Мы смогли выстроить две стратегии понимания смысла для одной и той же языковой структуры. Обе они оказались правильными (в том понимании «правильности», которое предполагает отражение реального, более того, устойчивого процесса понимания слова в языке): первая соответствует предложенному автором пониманию, на которое вначале согласились и мы, второе — тому, которое предполагалось самим астрологом и в возможности и правильности которого мы также убедились по зрелом размышлении. Что халиф и астролог понимали эти слова «по-арабски», а автор — «по-русски», не имеет для нас пока значения, поскольку мы смогли воспроизвести понимание астролога, не прибегая к специфическим средствам арабского языка и полностью оставаясь в среде русского. Для нас важно, что можно в принципе применить две разные процедуры смыслополагания к одному и тому же языковому символу, получая для него принципиально разные значения. Ведь мы могли бы вовсе ничего не знать о времени и месте действия поведанной истории и ее главных персонажах, а значит, воспринимать ее так, как если бы она была изначально создана такой, как мы воспроизвели ее, и только такой и существовала.
Итак, оказалось, что к одной и той же языковой структуре в принципе могут быть применены по крайней мере две разные процедуры смыслополагания. Создаваемые в результате логико-смысловые конфигурации предопределяют различия в значениях, которые одна и та же языковая структура будет иметь в двух случаях. При этом эти различия определены только различием в процедурах смыслополагания, и ничем иным. Репрезентационная теория не содержит средств отражения этого различия (в этом отношении не отличаясь от прочих семантических теорий) и уже поэтому не может объяснить его.
Сказанное можно выразить и так. Для репрезентационной теории номинальная идентичность двух поверхностных структур тождественна их содержательной идентичности. Она не отличает одно от другого: если речь идет о предельном случае идентичности ― об одной и той же поверхностной структуре (как в нашем примере), не могут быть действенны никакие допущения о флуктуациях значений ввиду различия прагматических контекстов, т.п., с помощью которых в прочих случаях объясняется содержательное различие номинально идентичных единиц речи. В отличие от этого, логика смысла позволяет увидеть, благодаря чему в одной и той же ситуации, при абсолютно равных «прочих условиях» одна и та же единица речи может объективно получать разные содержания, и, далее, предоставляет в наше распоряжение средства, позволяющие «рассчитать» эти различные содержания.
Впрочем, репрезентационная теория сможет предложить гипотезу ad hoc, чтобы объяснить различие результатов на Рис. 2 и Рис. 3 при равенстве исходных условий. Для этого она прибегнет к понятию языковых синонимов. Если «между огнем и водой» равно в одном случае «полоске берега между кострами и рекой», а в другом — «бане», то три выражения — всего лишь семантические, или концептуальные, синонимы. ― Есть ли необходимость обсуждать эффективность таких объяснений?
2.1.2.2. Глубинные структуры и смысл, или как можно мыслить единство языковой способности человека
Понятия «глубинных структур» (deep structures) и «поверхностных структур» (surface structures), равно как тезис о том, что последние представлены реальным языком, а первые существенно едины для всех людей, принципиальны для теорий Хомского и его последователей, на них основана «порождающая грамматика». Принципиально тот же подход характерен, кстати говоря, и для одного из авторов, высказавших заинтересовавшее нас мнение о современных перспективах развития семантики. Дж. Фодор характеризует себя как психолингвиста, отмежевывающегося от философских подходов как недостаточно учитывающих психологическую реальность. Он видит процесс мышления как исчисление (computational process), в котором совершается переход от «глубинных структур» к «поверхностным». «Порождающая семантика» описывает переход от первых ко вторым [см., например, Фодор]. Вдохновленные подобными положениями лингвисты в свое время весьма активно пытались обнаружить «минимальную грамматику» реальных языков — набор грамматических правил, которые непременно присутствуют в любом языке[10] и которые и должны бы соответствовать «базовым правилам» (basic rules) хомскианских теорий. Интересно, что фактическая неудача этой программы не обескуражила по-прежнему многочисленных приверженцев предложенного Хомским понимания языка. Но дело не только в том, что трудно найти эмпирическое подтверждение положению об общечеловеческих единых правилах выражения первоосновных смыслов и смысловых конструкций. Дело также и в теоретической неочевидности этого тезиса.
Мы видели, что одни и те же «поверхностные» структуры могут оказаться результатом разных «глубинных» структур и что, следовательно, взаимно-однозначное соответствие между «словами» и «значением» установить нельзя, поскольку установление такого соответствия зависит от логико-смысловой конфигурации, в которой формируется смысл слова. Вопрос, который следует задать сейчас, касается тезиса об «одинаковости глубинных структур». Оправдано ли допущение о единстве «базовых структур» всех языков? Положение о существовании процедур смыслополагания, в ходе которых выстраиваются логико-смысловые конфигурации, ставит под сомнение и этот тезис. Если разные языки воплощают разные процедуры смыслополагания, единство «базовых структур» принципиально невозможно, поскольку «базой» выражения смысла в данном языке служит именно процедура смыслополагания.
Тезис о единстве базовых структур выражения смысла был выдвинут в контексте обсуждения и в самом деле поразительного феномена общечеловеческой способности к овладению языком. Все люди, видимо, способны в детстве овладеть любым языком, а в зрелом возрасте выучить любой язык. Люди, далее, способны понимать любые, в том числе и прежде не встречавшиеся им, языковые конструкции известного им языка, если те имеют смысл. Вкупе эти положения и наводят на мысль о том, что способность к языку врождена человеку и обща для всех людей и что выражается она в общем для всех представлении о том, что осмысленно, а что нет. Это общее и единое представление, согласно Хомскому, может быть выражено в наборе правил, который общ для всех языков, а правила преобразования этого единого «ядра» в различные языковые структуры позволяют получить многообразие средств выражения внутри одного языка, равно как и многообразие разных языков. Можно добавить к этому, что удивительный феномен возможности перевода с одного языка на другой безусловно подтверждает тезис о некоем глубинном единстве способа смысловыражения, объединяющем всех людей и все языки, — без такого единства перевод был бы просто невозможен.
Итак, феномен способности к овладению любым языком, понимания любых структур известного языка, если они осмысленны, и перевода между любыми языками не может не быть признан свидетельствующим о действительном единстве способа смыслообразования и смысловыражения. Репрезентационные теории считают, что этот единый способ смыслообразования может быть зафиксирован в явно выраженных и конкретных, законченных положениях. Говоря «законченных», я подразумеваю, что эти положения имеют вполне определенное содержание, причем это содержание, как предполагается, выражено ясно, полно и недвусмысленно. Поэтому возможна формулировка «базовых правил», определяющих «глубинные структуры» языка. Поэтому же для авторов теорий машинного перевода аксиоматично допущение, что смысл языковой структуры (например, предложения) языка А может быть, во-первых, явно зафиксирован на некоем общем для всех языков метаязыке Б и затем переведен в соответствующую структуру языка В. Я не говорю сейчас о возможных потерях на этапах перевода АÞБ или БÞВ, равно как и о проблемах, связанных с построением метаязыков и их принципиальной незаконченностью; меня интересует лишь общая для обсуждаемых теорий убежденность в том, что «смысл» языковой конструкции может быть отражен в конкретно-содержательных, зафиксированных положениях. Удивительна та настойчивость, с которой принимающие это допущение авторы отказываются замечать, кажется, вполне очевидную вещь. Она состоит в регрессии в бесконечность, на которую они де-факто вынуждены согласиться. Если «смысл» языковой конструкции выражен как конкретно-содержательное положение, также имеющее языковую природу, то и это положение, чтобы быть понятым, должно иметь свой «смысл». Но это означает, что отсылка к такому выражению «смысла» языковой структуры вовсе не переводит нас на уровень выше (или, если угодно, «глубже»), нежели анализируемый, но представляет собой лишь переформулировку одной структуры в другую, оставляющую нас на том же уровне не-достигнутого смысла. Такие переформулировки не позволяют перейти к смыслу, они по-прежнему оставляют нас в том положении, когда смысл остается для нас обозначенным, но никак не достигнутым.
Именно поэтому, вполне соглашаясь с тем, что отмеченные феномены безусловно указывают на общечеловеческое единство способа смыслообразования, я никак не могу согласиться с уверенностью в том, что этот единый способ может быть выражен в конечных зафиксированно-содержательных положениях, с уверенностью, которая, кстати, в этом отношении мало чем отличается от многовековой философской веры в единство человеческого разума, отраженное, в частности, в зафиксированных и общепризнанных положениях логики. Смысл может быть подсказан нам как выстроенность — и даже, скорее, как выстраиваемость. Процессуальность «смысла» предполагается самим понятием «процедура смыслополагания». Зафиксированный смысл перестает, собственно, быть смыслом — он становится чем-то другим, он становится тем, для чего должна быть указана процедура перехода к его «смыслу». Смысл — это способность к выстраиванию своей связанности. Эта способность и улавливается процедурой смыслополагания. Лишь переходя от фиксированности смысла к этой его способности осуществить свою процессуальность, мы действительно переходим на другой уровень и спускаемся от «поверхности» языка к обосновывающим его процессам полагания смысла.
Говоря о смысле как о выстраиваемости, я лишь по видимости воспроизвожу положение, характерное для холистских теорий значения. Дело в том, что я стремлюсь зафиксировать не содержание значения, но лишь способность выстраивать это значение, причем утверждаю, что эта способность может быть выражена логически. Вопрос о соотношении между способом выражения этой способности и выражением фиксированного значения будет нас интересовать в будущем.
Отмечу также, что, отказываясь от тезиса о возможности зафиксировать единство общечеловеческого способа смысловыражения в конечных и конкретно-содержательных текстах (не важно, представлены ли эти тексты наборами правил, списками базовых значений, конкретными «представлениями смысла» тех или иных языковых структур или еще как) в пользу представлений о логике смысла, мы тем самым не лишаем себя возможности дать объяснение названным феноменам обучения, понимания и перевода. Напротив, такое объяснение становится гораздо более удовлетворительным. Если мы принимаем, что эти феномены объясняются общечеловеческой способностью к языку, то для того, чтобы согласовать это положение с очевидным многообразием языков, придется признать, что эта «способность к языку» не зависит ни от какого конкретного языка, а значит, является способностью к языку вообще. Трудность выработки понятия «язык вообще», в том числе и в названных лингвистических теориях, вполне очевидна. Но дело в том, что объяснять упомянутые феномены способностью к языку вовсе не обязательно: это-то допущение и является произвольным.
Вместо этого я предлагаю следующее. Не следует ли нам вместо того, чтобы говорить: «Человек имеет врожденную способность к языку, которая реализуется только как владение конкретным языком (русским, английским, арабским, т.д.)», — сказать: «Человек имеет врожденную способность к Х, которая реализуется ― в частности ― как владение конкретным языком (русским, английским, арабским, т.д.)»? Под Х я понимаю «способность смыслообразования», которая ближайшим образом может быть опознана нами как способность к различным процедурам смыслополагания. Что эти процедуры, хотя и определяют, видимо, конкретный язык, имеют тем не менее вне-конкретно-языковую природу, было с достаточной очевидностью продемонстрировано. Избегая упоминания о «языке-вообще», мы лишь увеличим объясняющую силу гипотезы Хомского, но вместе с тем и весьма существенно изменим ее, предложив вместо «глубинных структур», сущностно единых для всего человечества, рассматривать процедуры смыслополагания, способность к которым едина, но реализация может быть различной.
2.1.2.3. «Да/нет»-дихотомия и связка «быть»: оправданны ли допущения репрезентационных теорий
Отметим в заключение, что репрезентационные теории, описывая «базовые структуры» языка, принимают, как правило, без обсуждения по меньшей мере два допущения, имеющие логическую природу. Я имею в виду дихотомический (часто именно строго-дихотомический, так удачно иллюстрируемый значками «+» и «-») характер проводимых классификаций и представление об очевидной универсальности и фундаментальности связки «быть»; эти два тезиса, кстати говоря, достаточно тесно увязаны между собой[11]. Поскольку глубинные структуры имеют предположительно универсальный характер, это автоматически означает распространение подобных представлений об универсальности и на данные логические операции. Ниже мы будем говорить о том, как может быть установлена связь между формально-логическими тезисами и положениями логики смысла. Здесь лишь отметим, что репрезентационные теории, не переходя в описании языковой реальности на иной уровень, нежели непосредственно составляющий предмет их внимания, могут только принимать, но никак не объяснять, подобные формально-логические тезисы, произвольно имплицируя их универсальность «для всех времен и народов».
Неплохой иллюстрацией такого подхода может служить труд Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы», в котором речь идет о наидревнейшем состоянии языка — о реконструируемом авторами «индоевропейском языке», праязыке современных (равно как и мертвых) индоевропейских языков. Вторая часть книги открывается «семантическим словарем» индоевропейского языка. Он должен показать смысловое строение важнейших для человека индоевропейской культуры (повторим, реконструируемой авторами) смыслов. Даже беглого взгляда на структуру словаря достаточно, чтобы понять: она построена по классической родо-видовой схеме, где все «общие понятия» (живое, одушевленное, т.д.) образуют иерархическое дихотомическое древо, а конкретные понятия (волк, заяц, т.д.) выступают в качестве низших видов. Замечателен и всеохватывающий характер этой схемы: она универсальна для того, что авторы реконструировали как смысловой состав гипотетического состояния культуры.
Здесь невозможно привести целиком текст семантического словаря; но это и не нужно, поскольку авторы сами суммировали логику построения смыслов в трех таблицах, которые я и воспроизвожу [Гамкрелидзе, Иванов, с. 468, 481, 484].
Все «живое» делится на «одушевленное-неодушевленное», включающее внутреннее подразделение на животный и растительный мир:
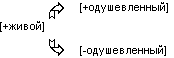
«Одушевленное», далее, делится на «диких» и «не-диких»; деление «не-дикого» представлено на следующих схемах:
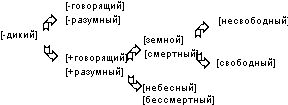
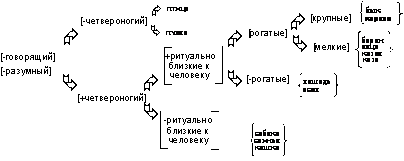
Как видим, весь смысловой состав индоевропейской культуры, реконструируемой авторами, оказывается выстроенным целиком по родо-видовой дихотомической логике. Тотальность этой схемы замечательна; смыслы протокультуры уже обнаруживают, если верить авторам, ту строгую логику, которая позже будет открыта Аристотелем.
Таким образом, репрезентационные теории в части построения «лексикона» (а «лексикон» — одна из двух важнейших определяющих «глубинной структуры» наряду с «базовыми правилами») уже пропитаны представлением об общепринятости некоторых логических представлений, в частности, представлений о дихотомии. С этой точки зрения, можно быть либо огнем, либо водой — но в данной репрезентации словаря невозможно представить некую семантическую единицу как то и другое и как утверждаемое тем и другим.
Отчетливое концептуальное выражение этой же позиции встречаем у А. Вежбицкой, которая включает отрицание «нет» в число общечеловеческих безусловно ясных концептов:
Конечно, слова различаются от языка к языку, но фундаментальные врожденные элементарные значения остаются теми же. Например, во всех языках есть слово, которое означает НЕТ (отрицание), как в высказывании «Я не делал этого» (в русском не, в немецком nicht, в мангап-мбула som) [Вежбицкая, с. 172].
«Нет» поэтому оказывается для А. Вежбицкой семантическим примитивом (см. также Глава I, примеч. 23). Мы будем говорить в Главах II и III более подробно о том, что значение отрицания «нет» никак не может быть признано несводимым и изначальным, что оно, напротив, носит скорее комплексный характер: для целого набора понятий понимание одного зависит от понимания всех остальных, они определяют друг друга и варьируются все вместе, и отрицание входит в такой набор. Я, следовательно, буду оспаривать этот тезис с двух точек зрения: в плане возможности найти неизменяемый и несводимый атомарный смысл; в плане возможности считать «нет» таким интуитивно ясным концептом.
2.1.3. Оправдана ли парадигма «знак-означаемое»?
Семантика и семиотика (семиология, сигнифика) настолько прочно стоят на фундаменте парадигмы «знак-означаемое», настолько древним и традиционным представляется этот фундамент и настолько обширным здание возведенных на нем наук и проделанных исследований, что никто как будто даже не помышляет о том, чтобы подвергнуть сомнению это — кажущееся столь прочным — основание. Но не одна ли инерция почтения удерживает от этого? Не только ли нежелание усомниться в оправданности столь многих наработок заставляет двигаться по проторенной дороге? Не одна ли трудность помыслить альтернативу этой парадигме служит причиной ее безграничного воцарения?
Для раннего (и не только раннего, конечно) Витгенштейна характерна уверенность в возможности знака. Уверенность в возможности знака значит: уверенность в том, что мы можем произвольно устанавливать соответствие между выбранным нами «предметом» (будущим знаком) и объектом действительности.
Но что же, собственно, значит в факте наличия знака чего-то? Или: что является собственно значимым в ситуации обозначения?
Объект, обозначенный знаком, вовсе неизвестен нам; только через знак он и становится предметом нашего оперирования. Будь иначе, обладай объект смыслом, мы не нуждались бы в знаке (в таком знаке, о котором здесь идет речь) для того, чтобы ввести его в свой обиход. Объект входит в круг нашего обсуждения только как обозначенный — как «нечто-обозначенное».
Знак — произволен [см. Витгенштейн 1994, 3.322], уж он-то вовсе ничего не говорит сам — а только указывает-на: на неизвестный нам объект.
Остается — связь, то есть «факт означивания». Согласись мы с тем, что связь между знаком и означаемым значима, то есть является смыслом, который мы способны обсуждать, это неизбежно вовлекло бы нас в коллизии парадокса самовключения. Ведь тогда саму эту связь надлежало бы исследовать как «обозначаемое», и регресс в бесконечность стал бы платой за такое признание. Поэтому и связь знака с означаемым не есть значимое:
То обстоятельство, что нечто подпадает под формальное понятие в качестве его объекта, не может быть выражено предложением. Но это показывается самим знаком этого объекта. (Имя показывает, что оно обозначает объект, числовой знак, что он обозначает число и т.д.) [Витгенштейн 1994, 4.126].
Как оно показывает? Просто мы знаем, что оно «обозначает то-то и то-то»; но откуда пришло это знание?
Кажется, мы попадаем в герменевтический круг:
Значения простых знаков (слов) должны быть нам объяснены, чтобы мы их поняли. — Но достигается понимание с помощью предложений [Витгенштейн 1994, 4.026];
однако предложение
понимают, если понимают его составные части [Витгенштейн 1994, 4.024].
Вспомним теперь, что Витгенштейн называет предложением
знак, с помощью которого выражается мысль [Витгенштейн 1994, 3.12],
причем
знак-предложение составляется так, что его элементы, слова, соотносятся друг с другом определенным образом [там же].
Витгенштейн уверен в возможности элементарных знаков; при этом всё описывается с помощью предложений, построенных как связанность таких знаков. Но кто объяснит нам, что суть знаки?
Понимание должно, конечно, предшествовать установлению значения; но что тогда остается от самой теории, оперирующей представлениями о знаке и означаемом? Не грозит ли ей вырождение в метафорическое и бесконечное — в силу принципиального отсутствия четкости — плавание по волнам этого неуловимого для нее процесса понимания и осмысления, только благодаря которому и возможны знак и означаемое[12]?
Гуссерль употребляет слово «смысл», дабы указать на усматриваемую пытливо-гениальным умом внутреннюю, на поверхности не лежащую, хотя и совершенно очевидную после того, как она открыта, суть вещей и явлений. Так, естествоиспытатель ставит массу опытов; их словесное описание, конечно, будет набором слов, имеющих свое значение, каковое значение очевидно для всех владеющих языком. Но если это описание пройдет сквозь горнило гениальной интуиции, та откроет в нем смысл — суть, вполне ясную и объективно-очевидную, но ставшую таковой только после того, как она была показана вне ясного-для-всех «значения»[13].
«Смысл», как этот термин употребляется Гуссерлем, скорее приближается к тому, чтобы раскрыть суть того загадочного понимания, которое должно предшествовать установлению «значения». Лейбниц мечтал упростить такое прозрение смысла, оказывающееся доступным гениальному уму, формализовав его и превратив в ars inventiva[14]. То, о чем идет речь в логико-смысловой теории, и оказывается по сути дела попыткой такой формализации, ― хотя предпринимается она на основаниях, отличных от тех, которые считал верными Лейбниц.
2.1.4. Словарный аргумент
Рассуждая о ситуациях обозначения, проиллюстрированных на Рис. 2 и Рис. 3, я стремился показать, что понятие «значение» не может служить фундаментом объяснения того, как слова сообщают нам свой смысл (как они сообщают нам, что сказано). Напротив, само «значение» является результатом исполнения некоторых процедур, которые состоят в принятии определенных допущений относительно искомого смысла. В этой связи интересно и в то же время необходимо разобрать еще одно возможное возражение, которое исходит из традиционного понимания «значения» и стремится сохранить традиционное представление о том, как слова «обозначают» объекты своей референции. Это возражение я называю «словарным аргументом».
Сравнив Рис. 2 и Рис. 3, нетрудно возразить: все дело просто в том, что слово «между» имеет в числе прочих значение «соединять», или «вместе», или «рядом». Этим, и только этим, объясняется то различие пониманий одной и той же вербальной структуры, которое отражено на этих двух рисунках. Совершенно не нужно вводить какие-то диковинные предположения и выдумывать «логику смысла», когда дело объясняется давно известным лингвистике фактом многозначности слов. Этот аргумент сохраняет привычные схемы мышления, следуя вместе с тем императиву применения «бритвы Оккама» и избегая введения не просто лишних понятий, но и лишних областей теоретизирования.
В самом деле, не является ли сам факт слияния «огня» и «воды», столь красочно отраженный на Рис. 3 как «логико-смысловая конфигурация», просто значением слова «между»? И не следует ли считать, что слово «между» имеет таким образом два значения: одно — «разъединение» и «отграничивание», то есть «разведение», что и представлено Рис. 2, а другое — «соединение», «сведение», представленное на Рис. 3? Такое предположение, по-видимому, ставит все на свои места, поскольку находит два «объективных» значения для слова «между», проводя искомую прямую стрелку обозначения от этого слова к самому действию (к своему «объекту») разведения или сведения двух соседних предметов, тем самым объясняя различие между Рис. 2 и Рис. 3, сохраняя традиционные постулаты теорий значения и избегая ненужных допущений логико-смысловой теории. Это объяснение становится и вовсе убедительным, когда мы обнаруживаем в арабско-русском словаре (а ведь история написана по-арабски) для слова байна «между» второе значение, которое и оказывается не чем иным, как «вместе». Кроме того, «словарный аргумент» хорошо согласуется и с представлением о том, что «наше» понимание загадочности слов астролога (см. Глава I, § 1.1.1. Предсказание) было изначально правильным и загадка и в самом деле заключалась именно в словах «между огнем и водой»: «между», оказывается, имеет неочевидное, или во всяком случае не вполне очевидное значение, так что слова арабского астролога были двусмысленны точно так же, как был двусмыслен полученный царем Филиппом оракул (см. Глава I, примеч. 6). Это подтвердит уютное представление о том, что во все времена и у всех народов можно найти проявления одних и тех же общечеловеческих закономерностей мышления[15]. Напомню, что я как раз настаивал на том, что само выражение «между огнем и водой» не является двусмысленным, что благодаря иной, нежели привычная для нас, процедуре смыслополагания возможно его понимание как прямого и однозначного обозначения. Словарный аргумент, таким образом, затрагивает самую суть обсуждаемой здесь теории, и ответить на него совершенно необходимо.
Ответ этот заключается в следующем. Я не возражаю против тех данных, которыми оперирует этот аргумент, но выражаю сомнение в том, что он способен распорядиться ими как следует. Ведь независимо от того, ведем ли мы речь о «разъединении» огня и воды (понимание слова «между» в первом значении) или их «соединении» (второе значение), мы должны решить — подсознательно, конечно же, то есть интуитивно почувствовать, получить интуитивное представление, — имеем ли мы дело с действительно-существующими смыслами «огонь» и «вода», над которыми и производятся операции соединения или разъединения и которые, что самое важное, в таком соединении или разъединении ведут себя именно как таковые, как действительно существующие «огонь» и «вода»[16], или же в этой операции их соединения с ними происходит нечто, в результате чего они перестают быть такими действительно-существующими смыслами. От этого, и именно от этого (а не от самого факта наличия в словаре значения «соединять» для слова байна), зависит, что мы получим в качестве значения для «соединения огня и воды». Именно это ускользает от внимания защитников словарного аргумента. Словарный аргумент применим к той области, которая лежит вне (или, если угодно, выше) того уровня, с которым имеет дело логико-смысловая теория, а потому на самом деле подпадает под ее действие и должен быть проверен на состоятельность ее средствами. Однако такой проверки он не проходит: «соединение огня и воды» будет разным в разных логиках смысла, потому что само соединение осуществляется по-разному. То, что происходит с соединяемыми смыслами, определяется не тем, имеем мы или нет значение «соединять» для того или иного слова, а только тем, как конфигурируются соединяемые смыслы — то есть тем уровнем анализа, на котором работает логико-смысловая теория и которого не достигает словарный аргумент.
Суммируем сказанное. Описывая «наше» понимание (см. Глава I, § 1.1. Предсказание астролога и его толкование: «наше» понимание), мы принялись разгадывать «между огнем и водой», считая, что двусмысленность может скрываться только в «огне» и «воде». Между тем «огонь» и «воду» следовало понимать как раз в прямом значении; двусмысленность если и содержалась в этом предсказании, то только в том, каким образом истолковать «соединенность огня и воды». Но эту двусмысленность мы могли заметить только после того, как нашли, что и «между» употребляется здесь в своем непосредственном, прямом значении. Что же мешало нам увидеть это? Только ли и просто ли незнание того, что арабское байна имеет значение «в соединении», а не только «в разделении»? Нет. Дело здесь в другом: в том, каким образом достигается это «соединение» и чем оказывается тот смысл, который возникает как «соединение» двух других. Я потому и говорю, что дело не может быть сведено к сравнению «словарных значений» слов, поскольку сами словарные значения являются не более чем словами, которые должны быть поняты; но поскольку номинально одно и то же слово («соединение», которое номинально, или «словарно», тождественно байна) передает различные процедуры формирования смысла, дающие разное содержание, мы и получаем конфликт пониманий.
Таким образом, словарный аргумент, предлагающий нам «другое значение» для слова «между», все же не просто отправляет нас к своему «предмету референции» (действию «соединения»), но и необходимо предполагает утверждение о действительности двух объектов, соединяющихся в третий и сохраняющих свою действительность в этом соединении. В прошедшее время много говорили о том, как язык способен поведать нам о «тайнах бытия»; но он, кажется, способен поведать нам и о том, как бытие становится тайной и почему оно предстает в некоторых культурах как абсолютное основание. «Мы» с интенциями «нашего» понимания не готовы принять утверждение о «соединении огня и воды» — просто потому, что так «не может быть», потому, что фундаментальные допущения, составляющие логику смысла, не позволяют признать это выражение осмысленным. Любому нетрудно проверить это на собственном восприятии; но, дабы соблюсти объективность, приведу и литературный пример того, как культура, строящая свои смыслы согласно допущениям, отраженным на Схеме 2, «соединяет» огонь и воду.
Петр ощутил удар. Начала воды и огня наполнили его и, равные по мощи, слились. Ощущая в себе скрытую энергию взрыва, Петр возмущенно поднялся, посмотрел на пьяных коллег. Они спали, зная за собой силу, не проверяя результатов последнего выпада. Петр вышел, хлопнув дверью.
На улице был вечер и легкая пурга. Петр поежился, достал из кармана пачку сигарет, спички. «А спички-то у меня откуда? Спер, наверное, у этих гадов». Петр закурил. Легкая искорка оторвалась от кончика сигареты, полетела прямо в лицо. «Допрыгался», — вспомнил утро Петя. Искра ударила Петра в лоб, нарушила равновесие воды и огня, прожгла сквозь мозг аккуратный туннель [Никитин].
В этой повести, написанной в стиле фэнтези, а потому говорящей о мире, законы которого устанавливает сам автор, — в этой повести соединившиеся огонь и вода остаются таковыми, остаются существовать, поскольку иначе отсылка к ним окажется невозможной; это тот глубинный уровень, на котором выстраивается сама осмысленность и над которым не властна власть фэнтези, тот уровень, который одинаково относится и к фэнтези и к соцреализму: слова осмысляются, то есть выстраивают свой смысл, по определенной процедуре, следуя определенной стратегии, и как бы ни различались жанры литературы (и вообще любые образчики нашей речи) с точки зрения содержательной, они все должны быть осмысленными, должны иметь смысл, а потому должны не различаться с точки зрения процедуры образования их смысла. Вот и здесь огонь и вода, слившись (то есть именно «соединившись»), тем не менее не «испаряются», продолжают существовать до тех пор, пока не исчезнут вместе с обозначившим их словом: быть смыслом слова здесь значит «существовать». «Взрыв», аннигиляция, уничтожение «слившихся» воды и огня задержаны только фантазией автора и разрешены жанром, они, однако, только отложены, но непременно произойдут: объектом, к которому отсылают нас «слившиеся вода и огонь», оказывается кучка пепла, покрывающая оставшуюся от героя одежду и обувь. Соединение двух противоположных стихий в данной логике смысла — это путь к уничтожению, а не возникновению третьего объекта.
Это не значит, конечно, что приведенное в арабско-русском словаре значение «соединять» для слова байна «между» неправильно. Это значит лишь, что сам факт наличия в словаре этого значения никак не объясняет образование смысла, придаваемого слову, — поскольку само это значение нуждается в таком объяснении. Оно ведь не более чем производно от представленной на Рис. 3 процедуры смыслополагания; но как таковое, как именно «значение», оно никак не открывает нам тех допущений, что обосновывают логико-смысловую конфигурацию (и что отражены на Схеме 3), в которой смысл «соединение» образуется и получает содержание, соответствующее этим допущениям.
2.1.4.1. Семантические свойства слов как производные от процедур смыслополагания
Это позволяет сделать следующий вывод. Фундаментальность процедуры смыслополагания в отношении значения подсказывает, что «семантические свойства» не являются как таковые ни собственно «разделяемыми», ни собственно «точечными». Они могут быть поняты и так и этак: дихотомичность предлагаемой Дж. Фодором и Э. Лепором перспективы дальнейшего развития семантики ложна. Скажем, в логико-смысловой конфигурации, отраженной на Рис. 3, семантическое свойство «огня», конечно же, разделяемо с «водой», а на Рис. 2 — нет. Свойства разделяемости/точечности производны от применяемой процедуры смыслополагания и строящейся на ее основе логико-смысловой конфигурации.
2.2. Логико-смысловая и семантическая эквивалентность: проблемы предикации и перевода
Расстанемся на время с несчастным халифом и его придворным астрологом, чтобы, расширяя горизонт знакомства с классической арабской культурой, ввести в него несколько новых примеров; при этом мы по-прежнему останемся в сфере обыденного языка, не переходя к философской речи. Это позволит кратко повторить положения, подробно рассмотренные до настоящего времени, подытожить их и одновременно убедиться в их действенности за пределами того примера, в ходе анализа которого они были сформулированы. Не ограничившись повторением сказанного, я покажу, что одна и та же процедура смыслополагания может быть отражена в разных словах и, напротив, одно и то же слово может указывать на разные процедуры смыслополагания. Это станет развитием представления о первичности процедур смыслополагания в отношении значений, формируемых в результате их осуществления, и в то же время продолжит рассуждение, которым был начат ответ защитникам словарного аргумента.
2.2.1. «Между водой и глиной» в двух логиках смысла
К числу известных положений исламской мысли принадлежит тезис о предвечном избрании Мухаммеда пророком. Он подтверждается и известным хадисом: Кунту набиййан ва ’адам байна ал-ма’ ва ат-тин. Его принятый в отечественной литературе перевод звучит так: «Я был пророком, когда Адам был между водой и глиной».
2.2.1.1. «Наше» понимание слова «между»: синтетическое суждение
Этот перевод претендует, в соответствии с установками одной российской школы арабистики, на буквальность, а потому — точность. Он, правда, не слишком понятен: что «Адам был между водой и глиной», должно бы по идее означать, что он не был «ни тем ни другим». Ни тем ни другим, но — чем-то третьим, неким существом, подвешенным, или, напротив, мечущимся между двумя крайностями, водяной и глиняной. Так можно разрываться, например, «меж долгом и призванием», не исполняя одно и предавая другое; находиться «меж небом и землей», уже оторвавшись от второй, но еще не достигнув первого, и т.д.
Не будем повторять всего, что было сказано выше, при анализе выражения «между огнем и водой». Вместо этого, отсылая читателя к проделанному там анализу, перейдем сразу к выводам: действие процедуры смыслополагания, благодаря которой выражение «Адам был между водой и глиной» становится для нас осмысленным, состоит в том, что «вода» и «глина» являются двумя действительно-существующими смыслами (в принятом здесь понимании «действительного существования» смысла — см. Глава I, примеч. 7), тогда как «Адам» помещается, опять-таки в качестве самостоятельного и отличного и от «воды», и от «глины» объекта, на некоторой разделяющей их области. Если эта процедура смыслополагания и не осознается нами, она все равно имеет место, и мы можем уловить ее след в том ощущении «странности», которое производит приведенный перевод: нам приходится насторожиться и, предприняв усилие, заставить себя вообразить, как «Адам был между водой и глиной» может быть понято не в прямом, но в каком-то переносном значении.
Заметим, что столь неестественно звучащая для нас фраза является, если рассматривать ее в кантовской классификации, синтетическим суждением.
2.2.1.2. Словарный аргумент для «между»: аналитическое суждение
Попытаемся теперь построить перевод, используя уже знакомый словарный аргумент. Приняв, что слово «между» имеет значение «вместе», «соединяя», мы узнаем, что Мухаммед был пророком тогда, когда Адам «соединял воду и глину», «соединял», конечно, не в том смысле, что, скажем, сидел и смешивал их, но — сам был их соединением. При такой трактовке перевод перестает казаться странным и воспринимается как нормальная фраза, выстроенная по правилам русского языка. Однако успех достигнут лишь по видимости, и странность перевода, устраненная на номинальном уровне, по-прежнему пребывает на уровне содержания. Ведь Адам, собственно, всегда соединяет в себе воду и глину, поскольку создан из них, и так сказанная фраза не сообщает ничего сверх «я был пророком тогда же, когда и Адам», вовсе не утверждая первичности избрания Мухаммеда и его абсолютного предшествования всем пророкам, начиная с первого из них.
Наш перевод, в котором Адаму как субъекту предицируется свойство соединять воду и глину, является тем, что Кант назвал аналитическим суждением a priori, поскольку выражает вечное и неизменное свойство Адама быть результатом смешения воды и глины. Но вовсе не это было сказано в арабской фразе: в ней выражено не соотношение двух вечных истин типа «S1 есть P1, а S2 есть P2», но тот факт, что высказывание «S1 ― P1» («Мухаммед — пророк») было верным уже тогда, когда S2 («Адам») вообще не обладал существованием. Но об этом — о том, что «Адам не существует», — вовсе не идет речь в том варианте перевода, который мы построили благодаря применению словарного аргумента. И хотя этот перевод является правильной фразой русского языка, он не соответствует тому, что сказано в оригинале.
2.2.1.3. Понимание «между» в альтернативной логике смысла
Отметим интересный факт: два разобранных варианта перевода оказались синтетическим и аналитическим суждениями. Если ни то, ни другое не выражают адекватно того, что сказано в арабской фразе, то чем может быть искомый правильный перевод? Ведь дело не в том, что мы не обладаем значениями отдельных слов или не способны удачно подобрать нужные эквиваленты; дело в том, что в обоих случаях мы строили саму мысль так, что она промахивалась мимо цели, не выражая существа дела. Как исправить положение?
Начнем с пословного разбора интересующей нас фразы.
Буквальный перевод, полученный подстановкой слово в слово, звучал бы так: «Я был пророком, а Адам между водой и глиной». Сравнивая это предложение с первым вариантом перевода («Я был пророком, когда Адам был между водой и глиной»), мы заметим два отличия.
Не подлежит сомнению, что арабское ва («и»), переданное у нас как «а», означает не только пространственную, но и временную совместность, а потому не станем возражать против замены «а» Þ «когда», произведенной в разбираемом псевдобуквальном переводе. Но что касается второго отличия, то с его оправданностью мы вряд ли так легко согласимся. Первый вариант перевода (фраза «Я был пророком, когда Адам был между водой и глиной») содержит еще одну замену, а точнее, подстановку, допустимость которой мы поставим под сомнение. Это подстановка Æ Þ «был»: «был» добавлено в русский текст по сравнению с арабским оригиналом.
Но против чего же здесь возражать? Разве эта связка не универсальна, разве она не «просто восстановлена» здесь для того, чтобы предложение «нормально звучало»? Разве смысл хоть в чем-то изменен? Разве не является, наконец, «Адам» подлежащим этого предложения, субъектом, которого связывает с его предикатом как раз не что иное, как copula «быть»?
Против этих доводов как будто нечего возразить. И тем не менее факт остается фактом: мы не смогли построить правильный перевод, следуя пути, возможность и даже необходимость которого как будто очевидна.
Как поступить в данном случае?
Прежде всего отметим, что анализируемый пример сложнее того, который был рассмотрен первым. Говоря о предсказании астролога, мы разбирали единичную логико-смысловую конфигурацию. То, с чем мы имеем дело сейчас, представляет собой предикацию «Адаму» некоего смысла, выстроенного аналогично тому, что был предметом нашего рассмотрения в первом случае. Наша фраза оказывается, таким образом, усложнением того примера: у нас не просто смысл, выстроенный в согласии с той же логико-смысловой конфигурацией («между водой и глиной» выстраивается как смысл так же, как «между огнем и водой»), но этот смысл предицирован другому («Адаму»). Дело, следовательно, не только в том, чем именно, каким смыслом является «между водой и глиной», но и в том, каким образом «Адам» отождествляется с этим смыслом. Трудность, с которой мы столкнулись, пытаясь перевести арабскую фразу, может иметь причиной и тот и другой момент. Попытаемся понять, в чем именно тут дело.
Мы уже знаем, каким образом выражение «между водой и глиной» должно быть понято в соответствии с требованиями логико-смысловой конфигурации, вытекающими из той логики смысла, что характерна для классической арабской культуры. Поэтому скажем сразу, что «между водой и глиной» означает не просто соединение воды и глины, а нечто, что не является ни собственно водой, ни собственно глиной, но — чем-то третьим, претворившим в себе эти две субстанции. Если бы речь не шла об «Адаме», можно было бы сказать, что это, например, «раствор»; однако для благозвучности используем выражение «замешенная-глина», которое будем писать через дефис, подразумевая, что оно обозначает нечто единое, что уже не является ни глиной, ни водой, с помощью которой та замешена, но чем-то третьим.
Предположим, что именно это понимание является верным. Разрешена ли тем самым наша проблема? Напомним, что, согласно предположению, испытанное нами затруднение (когда мы не смогли перевести арабскую фразу ни аналитическим, ни синтетическим высказыванием) могло быть вызвано двумя моментами: 1) неправильной трактовкой самого выражения «между водой и глиной» и 2) использованием связки «быть» как самоочевидной. Избавились ли мы от этой трудности, устранив сомнения относительно первого пункта?
Перевод теперь будет звучать так: «Я был пророком, когда Адам был замешенной-глиной»; вместо дословной подстановки «между водой и глиной» мы ставим слово «замешенная-глина», которая является действительным переводом арабского байна ал-ма’ ва ат-тин, и сохраняем связку «быть», следуя пока что гипотезе о самоочевидности и самооправданности такого восстановления связки. Стала ли наша фраза подлинным переводом арабского Кунту набиййан ва ’адам байна ал-ма’ ва ат-тин?
«Я был пророком, когда Адам был замешенной-глиной» означает на самом деле: «…когда Адама как такового еще не было, а вместо него была замешенная-глина». Именно так мы понимаем русскую фразу — и именно это подразумевается в арабской. Адекватность перевода, кажется, наконец достигнута. Отметим, однако, два обстоятельства.
2.2.2. Анализ межъязыкового перевода
Первое. Мы смогли построить адекватную русскую фразу только после того, как правильно поняли выражение «между водой и глиной». Это правильное понимание было достигнуто благодаря применению логико-смысловой теории. До того как мы прибегли к ее помощи, наши варианты перевода, оказавшиеся аналитическим и синтетическим суждениями, были принципиально неадекватными.
Второе. Достигнутый адекватный перевод не является, по-видимому, ни аналитическим, ни синтетическим суждением; скорее это то, что Витгенштейн называл игрой языка. Слова «…когда Адам был замешенной-глиной» скрывают то, что они на самом деле говорят; нам приходится домысливать то, что в них подразумевается. Перевод, повторим, остается адекватным, поскольку в условие адекватности вряд ли стоит включать совершенный комфорт слушателя, которого переводчик в таком случае обязан вовсе избавлять от необходимости прислушаться к переводу и хотя бы слегка его «переварить». Скорее такое условие — назовем его условием комфортности перевода — следует включать в число признаков не просто адекватного, но хорошего перевода. Что является в нашем случае таким условием комфортности?
Пожалуй, перевод будет восприниматься без усилий с нашей стороны, если мы добавим слова «только» или «еще»: «Я был пророком, когда Адам был только замешенной-глиной»; «Я был пророком, когда Адам еще был замешенной-глиной». Дело в том, что такое добавление указывает на временную разделенность «Адама» и «пред-Адама»: подлинного Адама, которому может быть приписано существование (не приписывается в действительности, но в принципе может быть приписано), и того, что только когда-то будет Адамом, но сейчас Адамом не является. Это добавление, таким образом, выражает самую суть того, что сказано в арабской фразе: Адам не был, но было то, что когда-то потом стало Адамом.
Как уже говорилось, добавление связки «быть» в выстраиваемый вариант перевода представляется с точки зрения традиционных лингвистических теорий само собой разумеющимся и безусловно оправданным. Действительно ли это так; действительно ли использование этой связки не нуждается ни в каких оправданиях и не предполагает никаких оговорок? Не послужит ли замеченное условие комфортности перевода (добавление слов «только» или «еще») своеобразным намеком на ответ?
С одной стороны, для нашего мышления связка «быть» безусловно оказывается самоочевидной и тривиально восстанавливаемой или, наоборот, устраняемой из высказывания, причем такие трансформации совершенно не меняют его смысл. С этой точки зрения неудивительно, что в достигнутом адекватном русском переводе фигурирует эта связка. Как еще мы могли бы выразить мысль на нашем языке, если эта связка неотъемлема от нашего мышления?
Если это очевидно, то совсем не очевиден следующий шаг, который обычно делают вслед за этим, ошибочно полагая, что коль скоро для нашего мышления эта связка совершенно очевидна и тривиальна, то и для мышления вообще верно то же самое. Основанием такого вывода является представление о едином общечеловеческом характере мышления, во всяком случае, правильного мышления (здравого мышления, здравомыслия). Это же, кстати говоря, служит основанием представления о формальном характере связки «быть», которая как будто лишена собственного содержания, каковое целиком сводится к ее функции — связывать субъект и предикат, так что, если в силу особенностей конкретного языка те связаны и без явного упоминания связки, она просто подразумевается и потому может восстанавливаться. В нашей арабской фразе связка как раз не упомянута. Коль скоро мы достигли адекватного русского перевода, в котором имеется связка «быть», значит ли это, что и в арабской фразе сказано именно это и что и там подразумевается та же связка?
Я только ставлю здесь этот вопрос; к подробному разбору проблемы связки, ее характера и отношения к логикам смысла мы перейдем в Главе II. Здесь же замечу, что, если мы можем выразить мысль, заключенную в арабской фразе (эта мысль нам известна в силу многочисленных выполненных самой арабской культурой переформулировок: Мухаммед был пророком до всех пророков, то есть до первого из них, Адама), собственными средствами русской фразы, это еще не значит, что мы сказали это так же, как это сказано в арабской фразе. Сказать то же не значит сказать так же. Речь, конечно, не о таком так же, которое состоит в использовании тех же чисто языковых средств: такого так же при переводе с языка на язык не бывает никогда, поскольку любое слово в любом языке обладает уникальными коннотациями, не воспроизводимыми никогда на языке перевода. Говоря о так же, я имею в виду другое. Я имею в виду саму логику высказывания; то, что улавливается в понятии «логико-смысловая конфигурация».
2.2.2.1. Понятие «то же иначе»
Если бы мы не смогли сказать на русском языке то же, что сказано на арабском, мы бы констатировали принципиальную непереводимость между этими двумя языками. Если бы мы сказали это то же — так же, мы бы могли констатировать принципиальную логико-смысловую эквивалентность двух языков. Но если мы говорим то же — но не так же, это означает, что мы говорим то же иначе. Вопрос об этом иначе, о его характере, сути и способе выражения и будет нас теперь интересовать.
Мы видели, что, передав арабскую фразу как «Я был пророком, когда Адам был только замешенной-глиной», мы построили не синтетическое и не аналитическое высказывание. Мы смогли передать арабскую фразу с помощью некоторой как-бы-формы, которая по видимости воспроизвела структуру переводимой арабской фразы, но оказалась адекватным переводом только в силу того, что за этой видимостью мы сумели разглядеть (благодаря своему «языковому чутью») подлинное высказывание, этой видимостью скрытое. Отмеченное условие комфортности перевода безошибочно указывает на то, что такое подлинное высказывание действительно стоит за видимой формой, как и на то, что мы воспринимаем это подлинное высказывание, слыша внешнюю форму, в которой оно выражено.
Зафиксировав это, поставим такой вопрос. Внешняя форма нашей русской фразы по видимости воспроизводит структуру арабской. Она, иными словами, воспроизводит ее субъект («Адам») и ее предикат («замешенность-глины», выражение, которое мы считаем эквивалентом для байна ал-ма’ ва ат-тин), восстанавливая связку «быть» (что обычно считается тривиальным и безусловно возможным). Если структура русской фразы столь точно соответствует структуре арабской, причем структура эта необыкновенно проста («S есть P») и в этой своей очевидной простоте как будто не может не претендовать на статус одной из общечеловеческих форм мышления, — если это так, то является ли и арабская фраза столь же внешней по форме, столь же скрывающей свое подлинное содержание, столь же требующей условия комфортности для перехода к своему подлинному содержанию? Является ли она, таким образом, ни синтетическим, ни аналитическим высказыванием в строгом смысле этого слова?
Нет. Арабская фраза не является игрой в той же мере и так же, как обсуждаемая нами русская. Она выстраивает свое значение «напрямую», без необходимости открыть за видимостью что-то подразумеваемое и существенно отличное от сказанного. Так же она и понимается.
Сказав это, мы сталкиваемся с существенной трудностью. Мы говорим о том, как арабская фраза выстраивает свое значение и как она понимается по-арабски. Но этот текст написан по-русски, и, высказав тезис о прямом выстраивании значения арабской фразы, я должен это прямое выстраивание значения продемонстрировать средствами русского языка. Однако до сих пор мы говорили о том, что достигнутый русский перевод, хотя и является адекватным и даже комфортным, не улавливает того, что интересует логико-смысловую теорию и о чем мы хотим говорить сейчас. Какой же образ действий следует избрать в этой ситуации, — избрать ради того, чтобы средствами русского языка высветить ускользающее от него логико-смысловое строение арабской фразы?
Предложим русский перевод, который будет логико-смысловым эквивалентом арабской фразы, а затем рассмотрим и само понятие «логико-смысловая эквивалентность», и то, каким образом она достижима для высказываний, выстроенных в разных логиках смысла.
Итак, мы говорили, что «Я был пророком, когда Адам был замешенной-глиной» означает на самом деле: «…когда Адама как такового еще не было, а вместо него была замешенная-глина». Выделенные курсивом слова — то, что стоит на месте связки «быть», то, что скрывается за ней. Есть ли возможность выразить эту мысль с помощью тех же субъектов, что участвуют в этой фразе, выстроив их в иной связанности так, чтобы нам не понадобилось прибегать к подобного рода «заглядываниям» за слово?
Мы можем сказать по-русски: «глина была замешена», добавив — «глина была замешена для Адама». Мы получим тогда в качестве перевода: «Я был пророком, когда была замешена глина для Адама». Придаточное предложение, которое и интересует нас сейчас, является синтетическим суждением, которое обладает теми преимуществами, что: 1) представляет собой адекватный перевод арабской фразы, 2) в своем прямом звучании является комфортным переводом и не требует дополнительных средств для достижения комфортности (адекватность и комфортность совпадают) и 3) представляет собой прямую форму высказывания, не скрывающую за своим внешним видом никакой иной подлинности, нежели прямо выраженная в словах. Заметим, что в новой фразе связка «быть» выступает в полноте своих функций: она и указывает на существование «глины», и выполняет предикативную функцию, сообщая о том, что с этой глиной случилось.
2.2.2.2. Синтетические и аналитические высказывания в разных логиках смысла
Сравним теперь арабскую фразу и так построенный перевод. Примем в качестве истинных два тезиса относительно арабской фразы: 1) в арабской фразе употреблена другая связка (не важно, выражена ли она явно или только восстанавливается) и 2) арабская фраза представляет собой правильно построенное синтетическое высказывание, в котором «Адаму» приписывается некий предикат. Конечно, мы не можем сейчас убедиться в правильности этих тезисов: придется отложить доказательство до следующей главы, которая обсуждает вопрос о связке и ее роли в образовании логико-смысловой конфигурации согласно релевантной для классической арабской культуры логике смысла. Однако, поскольку в этом параграфе следует обозначить в общих чертах горизонт логико-смысловой теории, есть смысл уже сейчас указать на некоторые следствия, вытекающие из рассмотренных положений, откладывая лишь их подробное доказательство, но не саму формулировку.
Сравнение арабского оригинала и такого русского перевода («Я был пророком, когда была замешена глина для Адама») приводит нас к следующим выводам:
1. Правильно построенные синтетические суждения в разных логиках смысла могут иметь разные субъекты (соответственно, разные предикаты). Поскольку эти два суждения эквивалентны (они говорят одно и то же), такая трансформация оказывается условием эквивалентности того, что сказано иначе (суждения сформулированы в разных логиках смысла, использующих разные связки).
2. В том случае, если мы просто воспроизводим структуру суждения, созданного в одной логике смысла, средствами высказывания, создаваемого в другой логике смысла, то есть сохраняем субъект и предикат высказывания, заменяя связку между ними (ведь в разных логиках смысла используются разные связки), мы, вероятно, изменяем статус высказывания, получая вместо (например) синтетического высказывания некое другое, лишь по форме являющееся синтетическим.
Таким образом, только иначе позволяет сохранить то же, когда мы говорим, используя средства иной логики смысла. Высказывание «Я был пророком, когда была замешена глина для Адама» является тем же иначе для высказывания Кунту набиййан ва ’адам байна ал-ма’ ва ат-тин.
Трактовка правильности перевода как субстанциально-смысловой эквивалентности: точка зрения традиционной семантики
Взглянем теперь на описанный процесс поиска правильного (адекватного и комфортного) перевода с точки зрения репрезентационной теории языка. Оригинал и перевод представляют собой — и это очевидно — разные «поверхностные структуры» двух языков, арабского и русского. Но если две разные поверхностные структуры являются на самом деле одним и тем же высказыванием (поскольку в них сказано одно и то же), это с точки зрения репрезентационной теории должно означать, что их глубинные структуры совпадают[17]. Но как репрезентационная теория может проложить путь от одной и той же глубинной структуры к столь существенно различным поверхностным структурам языка, в которых не совпадают ни субъекты, ни предикаты, ни даже связки (о чем речь впереди), но в которых употреблены одни и те же слова? Я не вижу, чтобы эта теория обладала такими средствами, разве что исключительно ad hoc.
Точно так же и с фрегианской точки зрения мы, считая перевод адекватным, должны будем сказать, что в нем сохранено значение, хотя могли измениться смыслы. Но, если нас спросят, каким образом это «одно и то же значение» может получить разные выражения, фрегианская теория предложит в качестве ответа нечто наподобие пирсовского понимания значения знака или системы знаков как их переформулировки в другую систему знаков. То значение, которое с фрегианской точки зрения остается неизменным при правильном переводе, должно быть выражено какой-то третьей фразой, которая будет равным образом переформулировкой и арабского оригинала, и русского перевода. Более того, эта фраза, выражающая значения оригинала и перевода как эквивалентные, должна фактически предшествовать переводу, поскольку, по самой логике фрегевской мысли, мы не можем сформулировать правильный перевод, пока не постигли значение оригинала. Но совершенно очевидно, что, если нам требуется сформулировать значение оригинала в какой-то другой фразе, это можно сделать одним из трех способов. Такая фраза будет высказана либо на языке оригинала, либо на языке перевода, либо на каком-то третьем, естественном либо искусственном, языке. Ни в одном из этих случаев задача установления эквивалентности оригинала и перевода решена быть не может, потому что, прежде чем установить такую эквивалентность благодаря той формулировке значения оригинала, которой мы предположительно достигли одним из трех случаев, мы должны установить эквивалентность самой этой формулировки фразе нашего оригинала, — если, конечно, не будем ссылаться на априорную очевидность такой эквивалентности, что вряд ли может позволить себе серьезная теория. Ведь как иначе мы можем узнать, что действительно сформулировали значение фразы оригинала? Но тогда и для установления эквивалентности оригинала и сформулированного нами его значения придется проделать то же самое, то есть построить новую формулировку, равно отражающую значение оригинала и значение первой формулировки его значения. И так далее. Регресс в бесконечность никогда не позволит достичь цели: перевод, опирающийся на фрегевский критерий правильности, просто не может состояться.
Принципиальная неудача хомскианского или фрегевско-пирсовского подхода имеет общее основание: мысля в этом направлении, мы в обоих случаях исходили из возможности, а скорее даже необходимости построить некое единое выражение многообразия оригинала и перевода. Эти теории, иначе говоря, видят то же как просто то же, как субстанциально-идентичное то же, и стремятся обнаружить возможность идентичной формулировки такого то же либо просто постулируют подобную возможность[18]. Однако найти такую идентичность не получается. В отличие от этого, я говорю о то же иначе, об инаковом то же, лишь благодаря своей инаковости сохраняющем свою тожесть. Для меня смысл, который является одним и тем же в оригинале и переводе, не субстанциален, а потому, в отличие от разделяемого традиционными семантическими теориями заблуждения, не должен представлять собой нечто одинаково выраженное и как вот-эта-одна-вещь относящееся к оригиналу и переводу. Смысл не субстанциален, а выстраиваем. Его выстраивание происходит в ходе создания логико-смысловой конфигурации. В разных логиках смысла возможны, а точнее, необходимы разные логико-смысловые конфигурации. Это значит, что смысл будет тем же, если выстраивается по-разному (в разных логико-смысловых конфигурациях) в разных логиках смысла.
2.2.2.3. Логико-смысловая эквивалентность как «то же иначе»
Так мы приходим к понятию логико-смысловой эквивалентности. Смысл может считаться тем же в разных логиках смысла, только если он выстроен взаимно иначе, так, что логико-смысловая конфигурация одной логики смысла соответствует логико-смысловой конфигурации другой логики смысла. Содержательное то же неизбежно имеет в качестве своего коррелята номинальное иначе языковых структур (то, что было бы названо различием поверхностных структур языков). Но это иначе не просто лексическое, когда мы вместо арабского тин имеем русское «глина» с вытекающими из такой замены различиями коннотаций или вместо арабского ва — русское «когда», имеющее существенно не совпадающую с оригиналом область значений. И не просто грамматическое, когда на месте неупомянутой в арабском оригинале связки в русском стоит «была». Это иначе, хотя и выражено вербально, тем не менее не охватывается этими традиционными лингвистическими категориями. Ведь разница между оригиналом и переводом с точки зрения их вербальной формы состоит в том, что те же самые слова в них играют каждое другую грамматическую роль: лексический состав оригинала и перевода совпадает, грамматические структуры также совпадают (мы в обоих случаях имеем структуру «S copula[19] P»), но каждое слово стоит в переводе на иной по сравнению с оригиналом позиции. Такое иначе является следствием различия логик смысла, в которых выполнены два высказывания.
Это необходимо, но еще не достаточно для достижения логико-смысловой эквивалентности. Ведь ясно, что само иначе может достигаться по-разному. Чтобы сохранялась логико-смысловая эквивалентность, инаковость должна оказаться не просто инаковостью, но инаковостью, сохраняющей то же. Собственно, именно это и мыслится в понятии то же иначе: содержательно тот же смысл, выстроенный с помощью иных процедурных средств. В силу различия логик смысла различие процедур (то, что я называю иначе) оказывается необходимым. На номинальном уровне это иначе отражается как различие словесного строения фраз оригинала и перевода. Однако нам необходимо ввести дополнительное условие для иначе, чтобы получить то же иначе.
Описание межъязыкового перевода как трансляции логико-смысловых конфигураций
Таким условием будет условие взаимной переводимости логико-смысловых конфигураций двух фраз. Взаимную переводимость логико-смысловых конфигураций разных логик смысла мы будем называть «трансляцией».
Возьмем русское выражение «…была замешена глина» (это часть нашего перевода) и сравним ее с арабским байна ал-ма’ ва ат-тин (букв. «между водой и глиной»). С точки зрения того, что было только что сказано, русская фраза является трансляцией арабской. Логико-смысловая конфигурация, созданная согласно релевантной для классической арабской культуры логике смысла (байна ал-ма’ ва ат-тин «между водой и глиной»), переводится в предикативное высказывание, созданное согласно «нашей» логике смысла: «…была замешена глина». Такая трансляция оказывается разворачиванием смысла, в котором происходит его приращение: мы получили субъект-предикатную конструкцию со связкой между ними как трансляцию логико-смысловой конфигурации, в которой эти члены отсутствуют. Одновременно, если рассматривать целостные фразы арабского оригинала и русского перевода, произошло сжимание смысла: «Адам», служивший субъектом арабской фразы, превратился в русской в часть субъекта, став его спецификацией («глина для Адама»). Раз так, то и исчезла связка, связывавшая в арабской фразе субъект и предикат, а вместо нее в русской появилась своя, но связывающая уже другие субъект и предикат. Все эти трансформации наступили одновременно: дело не обстоит так, что изменение статусов субъекта и предиката стало, скажем, результатом изменения связки, или наоборот. Мы не говорим о причинно-следственных отношениях, которые связывали бы элементы двух фраз, являющихся трансляцией друг друга. Скорее все эти трансформации наступают одновременно и все вместе являются результатом осуществляемой трансляции.
В такой трансляции одной фразы в другую происходит сжимание и раскрытие смысла, сопровождающие друг друга, за счет перехода из одной логики смысла в другую. Предлагаемый критерий логико-смысловой эквивалентности избавляет от необходимости искать субстанциально-идентичное выражение эквивалента оригинала и перевода, о которую разбиваются построения упомянутых традиционных семантических теорий. То, о чем идет речь, скорее соотносимо со «складчатостью» смысла, о которой говорит Ж. Делёз, интерпретируя Лейбница [Делёз 1998 (а)]. Но если Делёз стремится уйти от идеи преформизма, которая неизбежно сопровождает построения Лейбница в области семиотики (и не только в ней), то он все же не дает отчетливой формулировки того критерия, о котором говорю здесь я. Смысл, конечно, может быть стягиваем и сжимаем, — но не так, как то виделось Лейбницу, мечтавшему построить линейно-иерархическую пирамиду понятий-знаков, сгущающих смысл нижестоящих и вбирающих их в себя. Смысл скорее складчат — но и не так, что складка включает в себя другие складки или производит их из себя, как мы читаем то тут то там у Делёза. Складки смысла, если уж использовать этот образ, полностью перетекают одни в другие. Материя смысла пере-складывается. Это пере-складывание, это изменение драпировки и было названо мною трансляцией.
О формализации трансляции
Можно ли далее уточнить сам механизм трансляции? Здесь мы подходим к вопросам, которые пока не должны затрагивать, поскольку эта книга посвящена исследованию строения единичных логико-смысловых конфигураций. Разработка проблемы перевода одних логико-смысловых конфигураций в другие, равно как и формализация логико-смысловой трансляции является делом будущего. Но уже здесь и сейчас разобранный пример дал нам общее представление о том, в каком направлении будет продвигаться эта работа.
Отличие трансляционной идентичности от пирсовского понимания значения
Если содержательное то же двух высказываний, как я утверждаю, сохраняется благодаря их логико-смысловому иначе, причем каждое из них является для другого тем же иначе благодаря возможности логико-смысловой трансляции одного высказывания в другое, так что такой критерий адекватности перевода может быть назван критерием трансляционной идентичности, то в чем его отличие от известного критерия значения системы знаков как ее перевода в другую систему знаков? Не сводится ли выдвигаемая здесь точка зрения к знаменитому пирсовскому положению, и не является ли таким образом то, что здесь названо логико-смысловой теорией, лишь переформулировкой одного из вариантов традиционной семиотики?
Это в самом деле было бы так, если бы не одно обстоятельство. Пирсовский критерий приравнивает значение одной системы знаков к ее переформулировке в другую систему знаков, никак не объясняя, каким образом эта другая система знаков может быть получена. Этот критерий на самом деле не является формальным: мы непременно должны знать, что вторая система знаков и в самом деле выражает суть того, что подразумевается под первой, чтобы признать вторую значением первой. В самом деле, что может помешать нам произвольно приравнять любые две знаковые системы, как не это интуитивное и априорное знание? В отличие от этого, логико-смысловая теория открывает внутреннее устройство процесса выстраивания значения, — процесса, который обычно бывает скрыт от нашего сознания. Она выводит на свет то, что остается в тени интуитивной априорности для традиционной семиотики.
2.2.3. Совпадают ли логико-смысловая и семантическая эквивалентности, или философские основания логики смысла
Поставим в заключение такой вопрос: говорят ли русская и арабская фразы одно и то же? Является ли одним и тем же смысл, с одной стороны, «Я был пророком, когда была замешена глина для Адама», а с другой — Кунту набиййан ва ’адам байна ал-ма’ ва ат-тин (букв. «Я был пророком, а Адам между водой и глиной»)?
Вопрос этот может показаться навязчивым повторением того, с чего начался разговор в этой части работы и вокруг чего постоянно вращается наше рассуждение. Но не будем спешить отмахиваться от этого возвращения как назойливого воспроизведения одного и того же. Как ботаник не устает вновь и вновь разглядывать все тот же лист под микроскопом всякий раз, как возвращается с полевых исследований с новыми образцами растений, чтобы лучше понять то же, с чего начал, в свете новых собранных им данных, — так и нам стоит вновь и вновь возвращаться к тем интуициям, которые руководят движением нашей мысли, чтобы лучше рассмотреть их, отчетливее сформулировать, еще более прояснить как будто ясные, а на самом деле обманчивые в своей кажущейся однозначности понятия. В самом деле, мы уже как будто решили, что арабская фраза и ее русский перевод представляют собой содержательное то же, но в силу различия в логиках смысла иначе сказанное. Мы сказали, далее, что гарантией сохранения этого то же при условии иначе выступает возможность взаимной трансляции между двумя высказываниями, — трансляции, которую я понимаю как строгий и поддающийся формализации перевод одного из них в другое. И все же понятие содержательной тожести остается скорее смутным предчувствием, нежели ясной категориальной осознанностью.
Мы существенно продвинемся к такому ясному осознанию, если зададимся вопросом о соотношении названных двух формул: одно и то же и то же иначе.
В них воплощена суть понимания эквивалентности, с одной стороны, в традиционных семантических теориях (эквивалентность как субстанциальная идентичность), а с другой стороны, в логико-смысловой теории (эквивалентность как трансляционная идентичность). В первом случае эквивалентность понимается объективно. Во втором случае — процессуально. Мы уже знаем, что арабская и русская фразы относятся друг к другу как то же иначе. Спрашивая, сказано ли при этом в арабской и русской фразе одно и то же, я спрашиваю, совпадает ли объективная и процессуальная эквивалентность, — эквивалентность, как она видится традиционной семантикой, и эквивалентность с точки зрения логико-смысловой теории.
Заметим, что этот вопрос не имеет отношения к тому, будут ли две фразы признаны переводом друг друга. Вряд ли есть сомнение в том, что и традиционная семантика наряду с логикой смысла будет недолго колебаться, прежде чем высказаться по этому поводу положительно. Не будет ошибкой сказать, что и любой хороший переводчик без всякой теории перевел бы арабскую фразу именно той русской, к которой мы в конце концов пришли, а любой хороший редактор согласился бы с таким переводом.
Поэтому я задаю вопрос не просто о том, могут или не могут две фразы быть признаны переводом друг друга. Скорее его следует сформулировать так: не обнаружим ли мы при более внимательном рассмотрении такие расхождения в самом философском основании понимания мира и отношения слова к миру, которые и объяснят нам различие двух подходов (традиционно-семантического и логико-смыслового) к признанию эквивалентности фраз? Не будет ли различие между объективным и процессуальным ее пониманием, различие между формулами одно и то же и то же иначе, следствием неустранимого расхождения в понимании того, каким образом внешний мир предстает для нас и, следовательно, как может мыслиться его тожесть?
Этот вопрос оправдан не только стремлением рассмотреть все существенные следствия из выдвинутых положений, насколько мы их можем сейчас увидеть, но также и тем, что разговор об импликациях логико-смысловой теории был бы принципиально неполным, если бы не была затронута эта, наиболее существенная сторона дела. Речь о теории логики смысла так и останется незаконченной, пока не будет указано основание, которое скрепляет все основные положения этой теории и объясняет в конечном счете ее главную интенцию. Вместе с тем такое указание облегчит понимание высказываемых здесь взглядов — как в каждом отдельном пункте, так и в их целостности.
Когда мы говорим, что две фразы говорят нам одно и то же, мы подразумеваем, что они объективно эквивалентны. Они, иначе говоря, отправляют нас к одному и тому же объекту. Не важно, обладает ли этот объект реальным существованием, или он только в принципе может существовать, или даже в принципе не может существовать: так или иначе, он остается вот-этим объектом. Как вот-этот объект, он и может приравнивать две фразы, которые называются в таком случае эквивалентными постольку, поскольку отправляют нас к нему.
Чтобы подобная теория работала, необходимо представление о пред-заданности такой объектности любому акту говорения и осмысления. Сколько бы современные теории ни твердили о невозможности точно установить значение слова или фразы, сколько бы ни вели речь о возникающих исключительно в акте общения значениях, исчезающих тотчас после его истечения или даже раньше, — значение, сколь бы мимолетным и нестойким оно ни было, все же остается в любом случае предваряющим в своей данности описание акта общения или акта возникновения значения. Я хочу сказать, что для теории, сколько бы она ни говорила о летучести значения, — для самой теории, как она описывает это значение, оно остается чем-то принципиально внешним и предзаданным, чем-то весьма солидным — тем, что не пускает внутрь себя, не допускает до тайны своего выстраивания. Поэтому теория может лишь выловить такое готовое значение, предъявить его нам, а затем убрать со сцены, — но никогда не показывает, как оно возникает; разговор о его летучести не переходит в разговор о его выстраиваемости, оставаясь констатацией внешнего признака значения.
Конечно, устойчивость таких построений не случайна. Слово — знак представления, того отпечатка, что оставлен в нашей душе либо вещью, либо идеей. Именно поэтому объектный критерий эквивалентности отправляет нас к вот-этому объекту как единому значению приравниваемых фраз. Если основания такого взгляда отчетливо сформулированы во всяком случае Аристотелем, то они вместе с тем вряд ли существенно изменились до нашего времени. Как симптоматично в этом плане сообщение Вяч. Вс. Иванова, который в своем обзоре истории семиотических учений пишет, как бы связывая эпохи единой нитью вплоть до нынешнего времени, что
Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложивший принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней, который вновь привлек внимание исследователей в последние годы. В посвященной этому вопросу рукописи «Герменевтика», законченной им в 1918 г., Шпет напоминал о мыслях Августина в его «De Doctrina Christiana». В этом сочинении Августин начинает с разделения учений, которое, по Шпету, и должно быть положено в основу классификации наук. Всякое учение относится, согласно Августину, к вещам или знакам, но вещи изучаются посредством знаков. Вещью в собственном смысле называется только то, что не применяется для обозначения чего-либо другого, т.е. что не является знаком. Одна и та же вещь может выступать то как знак, то собственно как вещь[20].
Даже в своих наиболее приближенных к герменевтике вариантах семиотика не избегает парадигмы «означающее-означаемое», не задаваясь вопросом о том, каким образом возможно, и возможно ли, проникновение в ту область, которая их связывает, и, далее, исследование этой области и открытие ее определяющего характера по отношению как к знаку, так и к означаемому.
Таким проникновением не является, как это может показаться, и известная теория кодировки значения знака. Так, рассуждая о том, что Пирс называл «иконическим знаком», и критикуя положение Морриса, интерпретировавшего идею Пирса о «натуральном сходстве» между таким знаком и означаемом в том смысле, что иконический знак обладает свойствами своего означаемого, Умберто Эко показывает неудовлетворительность позиции Морриса и предлагает собственную трактовку, состоящую в том, что
иконические знаки не «обладают свойствами объекта, который они представляют», но скорее воспроизводят некоторые общие условия восприятия на базе обычных кодов восприятия, отвергая одни стимулы и отбирая другие, те, что способны сформировать некую структуру восприятия, которая обладала бы — благодаря сложившемуся опытным путем коду — тем же «значением», что и объект иконического изображения [Эко, с. 126].
Однако суть понятия «код», как он используется У. Эко или другими учеными, состоит в том, что кодировка специфична для группы знаков, образующих определенный класс; в принципе ничто не мешает ей оказаться специфичной даже для отдельного знака. Кодировка остается поэтому внешней и столь же объектно-предзаданной возникающему значению, как и само значение — означающему. Специфичность не позволяет объяснить значение как формирующееся закономерно, независимо от конкретности кодировки; код сам обладает значением, знание которого критично для его расшифровки.
При таком понимании слово всегда зависимо от пред-стоящей ему объектности, сколько бы ни опосредовать эту конечную отсылку к объекту. И так или иначе, эта зависимость дает о себе знать; проявляется она и в том аспекте теорий, который трактует вопрос об эквивалентности высказываний. Такая эквивалентность и устанавливается как отсылка к одной и той же объектной данности — к чему-то, что как вот-это одинаково предстоит двум фразам в качестве объекта отсылки. Поэтому представление о субстанциальной идентичности как основании эквивалентности оказывается неустранимым моментом этих теорий, сколь бы ни различались они в деталях, — до тех пор, пока они стоят на фундаменте представления об объективной пред-заданности мира.
Одним из второстепенных, но от этого не менее убедительных свидетельств этого положения вещей является безусловное неверие в оправданность солипсизма при столь же безусловной меньшей теоретической оправданности любых несолипсических философских систем и мировоззрений. Нежелание признать теоретическую неоправданность представления об объективном пред-стоянии нам мира имеет основанием безотчетную парадигмальную уверенность в том, что может быть только так и иной взгляд был бы бессмыслицей. Философское мышление менее всего бежит от парадоксов, и оно может, наверное, вечно восхищаться парменидовским единством бытия, находя все новые ответы на вопрос о том, как же оно возможно. Но оно брезгливо отворачивается от серьезной попытки развить солипсизм, — потому что это никуда не ведет, потому что это слишком «странно».
Я говорю это не потому, что излагаемые здесь взгляды составляют манифест солипсизма. Как раз наоборот. Солипсизм — прямой коррелят веры в объектную пред-заданность мира. Без второй нет и первого. То, о чем говорит логико-смысловая теория, не совпадает с солипсизмом, как не совпадает и с верой в объектную предзаданность мира.
Суть критерия смысловой эквивалентности, который я назвал процессуальным и который выражается формулой то же иначе, состоит в том, что значение слова выстраивается всякий раз в ходе процедуры его формирования и понимания, не важно, остается ли это выстраивание неосознанным (как это обычно бывает) или может быть схвачено рефлексивно (как то позволяет сделать логико-смысловая теория). Оно выстраивается — как бы из ничего, из ничего в том смысле, что это выстраивание не становится результатом какого-то механического процесса, который можно мыслить подобно обработке материала; у смысла нет того, что служило бы ему чем-то вроде материальной причины.
Следующий шаг состоит в том, чтобы признать, что в разных логиках смысла выстраивание того, что традиционно называется «значением», происходит согласно различным процедурам смыслополагания; это и подразумевается словом иначе. Далее, две взаимно инаковые процедуры полагания смысла, в ходе которых выстраиваются два субстанциально различных значения (два значения, которые будут признаны различными, то есть не представляющими одно и то же, с точки зрения объектного критерия эквивалентности), оказываются идентичными с точки зрения выстроенного в них смысла (что подразумевается словом то же нашей формулы), если две такие процедуры допускают взаимный перевод. Вот здесь мы наконец и подходим к тому наиболее существенному, что отличает логико-смысловую теорию от традиционных семантических и семиотических учений. Этот существенный момент заключается в том, чем оказывается «то же» для логико-смысловой теории. Оно оказывается не объектом, не субстанциальным вот-этим, а возможностью переформулировки вот-этого в вот-то.
Идентичность вот-этого с точки зрения логико-смысловой теории состоит, таким образом, не в том, что вот-это остается вот-этим, сохраняясь субстанциально. Вот-это сохраняет свою идентичность, только будучи транслируемо в вот-то. Более того, именно такая трансляция раскрывает смысл вот-этого; без этого перехода в другое оно бы оставалось, если можно так выразиться, недоосмысленным.
В одном из романов Г. Гессе его герои ведут такой разговор:
— Мне кажется, что лепесток цветка или маленькая букашка на тропинке могут поведать куда больше, чем все книги целой библиотеки, — сказал он однажды. — Буквами и словами многого не скажешь. Иногда пишу я какую-нибудь греческую букву, например тета или альфа, и стоит чуть-чуть повернуть перо в сторону, как буква вдруг возьмет да и вильнет хвостом и превратится в рыбу, и тут уж невольно вспомнишь обо всех ручьях и реках земли, о прохладе, о влаге, о гомеровском океане и о водах, по которым ступал апостол Петр… А иногда буква превращается в птицу, распускает хвост, расправляет крылья, разливается веселой трелью и улетает прочь. Но ты, верно, не очень-то высокого мнения о таких буквах, Нарцисс? А я скажу тебе: этими буквами писал Бог свое творение.
— Я очень высокого мнения о них, — отвечал Нарцисс печально. — Это волшебные буквы, ими можно заклинать всех демонов. Для занятий же наукою они, конечно, не годятся. Дух любит все прочное, обладающее формою, ему угодно, чтобы он мог положиться на свои знаки; он любит сущее, а не пребывающее в становлении, действительное, а не возможное. Он не потерпит, чтобы омега превращалась в змею или птицу [Гессе, с. 70—71 (курсив мой. — А. С.)].
Хотя мысль Гессе движется в пределах традиционной оппозиции «ставшее-становящееся», его слова вслед за его интуицией проникают куда дальше. Они могут служить иллюстрацией излагаемых здесь взглядов: то, что лежит глубже оппозиции «знак-означаемое», то, что было названо мною «смыслом», является собою — только будучи другим, и не может сохранить свою идентичность иначе, нежели превращаясь в другое. Хотя смысл становится, это такое становление, которое не может быть противопоставлено ставшему, установленному, как это обычно понимают.
Вернемся к нашему примеру. Вот-это и вот-то в нем представлены двумя фразами, арабской и русской. Эти две фразы отправляют нас к разным объектным структурам, к разным, проще говоря, состояниям мира. В первой, арабской (Кунту набиййан ва ’адам байна ал-ма’ ва ат-тин букв. «Я был пророком, а Адам между водой и глиной») объектность представлена наличием Адама, помещаемого между водой и глиной; во второй, русской («Я был пророком, когда была замешена глина для Адама») эта объектность представлена наличием «раствора» (замешенной-глины), подготовленного для лепки Адама. Что эти две объектные ситуации различны, мне представляется вполне очевидным. И тем не менее они эквивалентны. Арабская и русская фразы имеют тот же смысл, но они отправляют нас к разным объектам. Это значит, что критерий эквивалентности как объектной идентичности нас здесь подводит.
Можно сформулировать этот вывод так: логико-смысловая и традиционная семантическая эквивалентность не совпадают. То, что является одним и тем же с точки зрения логики смысла, кажется различным с точки зрения критерия субстанциальной идентичности, явно или молчаливо принимаемого традиционной семантикой. Что традиционным теориям именно кажется различным то, что на самом деле является идентичным, мы можем вполне надежно заключить по тому, что даже и традиционные теории вряд ли найдут аргументы против признания наших двух фраз хорошим переводом друг для друга, — но вряд ли смогут, рассуждая последовательно, признать их эквивалентными. Сама наша способность улавливать смысл, которая проявляется в удивительной возможности перевода с языка на язык, утверждает эквивалентность двух фраз. Эта способность глубже того уровня, на котором работают семантика и семиотика с их «знаком», «означаемым» и «значением». К этой способности, а точнее, к тому уровню действительности, что открыт для этой способности, и обращается логико-смысловая теория.
Сказанное означает, что мир не предстает для нас как фиксированная и пред-заданная нашей способности улавливать смысл объектность. Такая объектность — фикция, созданная проскальзыванием нашего восприятия и нашего мышления над тем процессом, в котором создается мир как осмысленность (или осмысленность как мир). Имея дело только с результатом, мы имеем дело с подобной объектностью. Заглядывая в сам процесс, мы видим выстраиваемость-мира и осмысляемость-мира. Мы видим мир как смысл.
Означает ли отказ от веры в объектную представленность мира необходимость принять альтернативную точку зрения, заняв позицию солипсизма? В самом деле, если мир, как считает логико-смысловая теория, выстраивается для нас как смысл, причем он имеет смысл только в своей транслируемости-в-другое, то есть в своей инаковости, значит ли это, что такая осмысляемость и такая инаковость должны быть признаны целиком результатом собственной активности субъекта, не зависящим ни от чего внешнего, — активности, никакая действительная корреляция которой с чем-то иным в отношении самого субъекта никак не может быть твердо установлена, но представляется только предметом веры?
Мир, с точки зрения логико-смысловой теории, предстает для нас не как данная нам объектность, а скорее как возможность-трансляции. Если спросить: «что такое вот-это?», логико-смысловая теория скорее всего ответит: «вот-это — возможность трансляции в вот-то». Но это не та возможность, которая мыслится как принадлежащая некоторой ставшей сущности, возможность, благодаря которой ставшее может обрести способность становления и превратиться в другую сущность, перестав быть первой. Такое понимание ничем не отличалось бы от традиционной философской трактовки «возможности», которая сохраняет оппозицию становящегося и ставшего, не важно, какой степени диалектического единства достигала бы эта оппозиция. То, о чем у нас речь, следует мыслить иначе. Если вот-это — возможность трансляции в вот-то, это значит, что мы можем говорить о вот-этом лишь постольку, поскольку оно для нас имеется как вот-то. Это не значит, что вот-это — потенциально вот-то; это значит, что вот-это и вот-то обладают одним и тем же статусом, они, так сказать, одновременны и одинаковы. Когда буква, по словам героя Гессе, вдруг вильнет хвостом и превратится в рыбу, она от этого не перестанет быть буквой. Более того, только будучи буквой и рыбой одновременно и одинаково, она и заставит нас вспомнить «обо всех ручьях и реках земли»; она, иначе говоря, предстанет во всей полноте своей идентичности, только сполна явив свою транслируемость. Буква и рыба — то же иначе, точно так же, как «Адам между водой и глиной» и «глина, что была замешена для лепки Адама». Но если букве в тексте Гессе достаточно «вильнуть хвостом», то нам все же было бы интересно узнать, как и благодаря чему она способна это сделать и чем, собственно, такое «виляние» является.
Если то, что мы считаем данной-объектностью, на самом деле является возможностью-другого, или транслируемостью-в-другое, то сама эта возможность-трансляции вовсе не составляет чистую активность субъекта и не подпадает под ее власть. Но дело и не обстоит так, что реализация этой возможности совершенно вне власти субъекта. Скорее следует сказать: мир предзадан нам — лишь как возможность; реализация этой возможности остается нашей прерогативой.
Помимо веры в объектную предзаданность мира и противостоящей ей точки зрения солипсизма есть и позиция субъективного идеализма. Однако то, о чем говорит логико-смысловая теория, не совпадает вполне и с этой позицией. Хотя наиболее близкой мне представляется точка зрения Фихте, тем не менее его размышления, к сожалению, лишь по видимости исходят из самодовлеющей активности смыслопостроения, характерной для Я. То, что Фихте называет «столкновением с не-Я», остается для него неустранимым условием даже первого шага, выводящего за пределы чистого Я к какой-то внешней ему содержательности. Но это не-Я не может не быть в общем-то тем же, что предзаданный объектный мир, — только лишенным всякой содержательности, предстающим как бы глухой стеной, ограничивающей активность Я. То, что лежит между Я и не-Я, столь же не вскрыто в философии Фихте, как не замечено и традиционными семантическими и семиотическими построениями, а его «Ясное, как солнце, сообщение…» остается прекрасным манифестом грандиозной программы смыслопостроения, — манифестом, так и оставшимся неисполненным, более того, в таком виде и неисполнимым.
В заключение несколько замечаний.
1. Мы выяснили, что логико-смысловая и семантическая (в ее традиционном понимании) идентичность не совпадают. Поэтому было установлено, что арабская и русская фразы являются трансляцией друг друга, но отправляют нас к разным объектам. Однако это совсем не то, что подразумевает гипотеза языковой относительности Сепира-Уорфа[21], которая, к примеру, сообщает, что для англичанина нет «голубого» и «синего», а есть только «blue», или, во всяком случае, для него нет «голубого» и «синего» так, как они есть для русского. Эта гипотеза вряд ли может ответить на возражение, суть которого состоит в том, что англичанин, возможно, просто не выражает «голубое» и «синее» так, как их выражает русский: привязанность к лексическим единицам приводит к зыбкости всех построений, выходящих за их пределы, поскольку между он выражает это и это есть для него все же сохраняется разница[22]. В отличие от этого, мы точно знаем, что объект, к которому отправляют нас две фразы, различен в двух случаях — и тем не менее тот же. Он тот же — иначе.
2. Разговор о то же иначе остался бы метафорой, если бы не следующее обстоятельство. Я говорю, что то же иначе означает, что два объекта, будучи трансляцией друг друга, одновременно имеются для нас. Но я не говорю, что они оба есть. Если бы оба объекта, относящиеся друг к другу как то же иначе, мыслились как выстроенные с помощью одной и той же связки, будь то в ее непосредственной или гипостазированной функции («глина есть замешенная для Адама», «глина есть»; «Адам есть между водой и глиной», «Адам есть»), нам ничего не оставалось бы, как встать на путь метафор, иносказаний и смутных образов. Нам оставалось бы лишь «виляние хвостом», превращающее одно в другое, поскольку путь к строгому обсуждению в таком случае был бы надежно закрыт. Мы не можем признать, не нарушая оснований нашей рациональности, что две разные объектные ситуации могут одновременно быть. Теперь, кстати говоря, вполне проясняется причина, по которой мы вынуждены говорить, что в том варианте арабской фразы, который представляет собой ее воспроизведение средствами русского языка благодаря подстановке слово в слово и как будто очевидному восстановлению связки, эта связка употреблена не в своем прямом значении: «Адам есть» как раз означает на самом деле «Адам не есть». Мы увидим в следующей главе, что иметься объект может по-разному, и «быть» — только один из возможных вариантов. Допустимы и другие, столь же фундаментальные, как «быть», — но иные, чем оно. Эта инаковость и создает возможность нашего иначе.
3. До сих пор мы вели речь о сложных структурах («между огнем и водой», «между водой и глиной»). Мы говорили, что установление денотата таких словесных структур не является тривиальной операцией присваивания значения, но опосредуется логико-смысловыми процедурами, которые и определяют, какое значение получит означающее. Касается ли это только сложных структур? Обстоит ли, иначе говоря, дело так, что в описанных процедурах смыслополагания участвуют некие «простые смыслы», которые и проходят процесс сополагания, трансформации, т.д., но сами, как таковые, являются твердыми единицами значения, теми самыми значениями, которые присваиваются означающему прямо и непосредственно, а если это присвоение значения и опосредуется чем-то, то не более чем остенсивным определением? Имеет ли, таким образом, логика смысла дело только с операциями над «простыми значениями», не затрагивая самих этих значений, как бы получая их готовыми извне, — или же то, что верно для сложных структур, верно и для единичных слов?
Задаваемый вопрос важен для того, чтобы уточнить пределы приложимости логико-смысловой теории. Одним из ярких направлений современных лингвистических исследований является выявление «семантических примитивов», представленное, в частности, исследованиями А. Вежбицкой. Интересно и то, что эти исследования были начаты не в последнюю очередь исходя из потребности понять, каким образом может быть осуществлен перевод некоторых текстов, например, текста Библии, на те языки, в которых отсутствуют необходимые и центральные для этого текста смысловые единицы. Стратегия решения этого вопроса состояла в том, чтобы выявить фундаментальные семантические примитивы, из которых, как из кубиков, можно было бы складывать необходимые для перевода смысловые структуры или искать наиболее близкие соответствия. Безусловно, эта стратегия построена на все том же некритическом принятии посылки о совершенной тождественности процедур связывания смысловых единиц в разных культурах, которую мы обсуждали до сих пор и ложность которой выявили[23]. Но правильно ли само представление о наличии смысловых примитивов? Могут ли в принципе быть выявлены «атомы смысла», или для любого смысла верно то же, что верно для сложной структуры, и любой смысл образован в результате осуществления процедур смыслополагания?
К этому вопросу мы и перейдем теперь. При этом я продолжу исследование оправданности представления о переводе как опирающемся на эквивалентность значений двух фраз. Если в истории об избрании Мухаммеда, предваряющем вылепление Адама, мы анализировали две фразы, опираясь на правильный перевод на русский язык конструкции арабского языка со словом «между», то теперь мы расширим горизонт рассмотрения, поставив вопрос о том, достижим ли такой правильный перевод при следовании предпосылкам, которые принимаются традиционными семантическими теориями. Мы вернемся к предсказанию астролога и посмотрим, можно ли получить значение «нагретость-воды» из арабского байна ан-нар ва ал-ма’, основываясь на представлении о том, что слово может иметь простое объектное значение.
2.3. Смысл и смысловой континуум
Я говорил, что рассматриваю историю о предсказании астролога так, как если бы она была изначально сочинена на русском языке. Однако на самом деле мы имеем дело с переводом, и теперь можно задать вопрос о том, оправдан ли тот перевод на русский язык, с которым мы имеем дело.
В каком плане следует понимать этот вопрос об оправданности?
Поскольку и та и другая процедуры смыслополагания, о которых шла речь, принципиально применимы к одной и той же словесной конструкции и не зависят жестко от языковой материи, можно поставить вопрос следующим образом. Должны ли мы перевести арабскую фразу байна ан-нар ва ал-ма’ как «между огнем и водой», тем самым предполагая возможность той процедуры понимания, которая отражена на Рис. 2, или же, коль скоро считаем, что слова байна ан-нар ва ал-ма’ следует понимать в соответствии с процедурой, отраженной на Рис. 3, то должны каким-то образом в самом переводе подсказать необходимость применения такой процедуры?
Каким образом, однако, такая необходимость может быть подсказана, если процедура смыслополагания имеет вне-конкретно-языковую природу, а значит, хотя для того или иного языка (а точнее, для культуры, использующей этот язык) и характерно применение этой или той процедуры смыслополагания, тем не менее конкретный язык не содержит в своем строении ничего такого, что жестко и однозначно предопределяло бы применение именно этой, а не той процедуры смыслополагания?
Как же в таком случае вообще может ставиться вопрос об «адекватности перевода»?
2.3.1. Возможна ли референция к простому объекту?
Фреге выдвигает следующее требование к переводу с языка на язык. Правильный перевод сохраняет «значение» (reference), хотя может терять «смысл» (sense); он, иначе говоря, сохраняет свое отношение к объекту, теряя субъективные «впечатления». Тем самым перевод, по мысли Фреге, передает то же самое, но в иной форме.
Что означает, что слова отправляют нас к «одному и тому же»? Чем, собственно, является «объект», отсылка к которому предположительно сохраняется при том, что Фреге называет правильным переводом? Атомистическая теория значения верит в возможность установления однозначного соответствия между словом и объектом, холистская теория значения растворяет «объект референции» в бесконечном множестве последовательных референций к «другим словам», которым, однако, в конечном счете все же приходится отсылать нас все к тем же «объектам». И та и другая теории так или иначе все же верят в «простоту» объекта (объект предстоит означающему его слову как некая целостность) и возможность «прямой» отсылки к нему (объект как значение слова не выстраивается, но лишь ставится в соответствие как уже-готовый).
Представление о возможности сохранить «значение» при переводе с языка на язык отправляется в конечном счете от представления о том, что по меньшей мере некоторые слова ясно и недвусмысленно отсылают нас к столь же ясным и недвусмысленным объектам, например, «Венера» или «вода». Любые сложные случаи обозначения могут быть проанализированы через сведение в конечном счете к таким простым единицам обозначения. Только если исполнима подобная программа, можно говорить и о принципиальной возможности сохранения «значения» в переводе.
Такую возможность я и ставлю под сомнение, спрашивая о том, действительно ли 1) имеются такие «простые» случаи обозначения и 2) может ли целостное значение предложения или выражения быть понято через анализ его отдельных «простых» элементов. При этом мы начинаем как раз со сложного случая обозначения (анализируемое нами выражение) и затем ставим вопрос об оправданности представления о «простых» референциях.
Дело в том, что в нашем случае референция (отсылка к «значению»), как мы убедимся в ходе следующего анализа, не может быть сохранена при правильном переводе с языка на язык при том понимании перевода, который обычно принимают. Это значит, что мы не можем получить из байна ан-нар ва ал-ма’ такое выражение русского языка, значением которого было бы то же, что является значением этого арабского выражения («нагретость-воды»), никаким разрешенным в теориях, использующих понятие «значение», способом (никаким преобразованием арабских слов в русские). Все разрешенные в них преобразования протекают вне области стрелки обозначения ®[24], тогда как нам требуется именно то, что может повернуть эту стрелку, то есть то, что совершится как бы внутри ее.
В самом деле, теория, объясняющая процесс перевода и основывающаяся на понятии «значение», позволяет нам действовать следующим образом. Мы можем присвоить каждому из слов «между», «огонь», «вода» некоторое значение. Поскольку мы переводим с другого (арабского) языка на русский, нам разрешается присваивать чужим словам любое значение, лишь бы оно оказалось «подходящим». Так мы и поступим.
Наш случай очень прост, поскольку анализируемое выражение включает всего четыре слова. Примем гипотезу о том, что оно состоит из таких «элементов», которые имеют простые лексические и грамматические (выраженные аналитически или флективно, это не важно) значения[25], которые очевидны и ясны для человека, знающего оба языка. Это значит, что подобный переводчик может установить взаимное соответствие слов арабского и русского языков через одинаковость их «значений». Результатом установления соответствия русских и арабских слов через установление тождества их значений будет следующая таблица:
|
байна |
Û |
между |
|
нар |
Û |
огонь |
|
ва |
Û |
и |
|
ма’ |
Û |
вода |
Заметим, что установление этих переводческих соответствий оказалось возможным потому, что для любой строчки Табл. 2 верен переход [арабское слово]«[значение]«[русское слово]. Запись [арабское слово]Û[русское слово] является лишь сокращенным вариантом записи такого перехода. Иначе говоря, перевод (знак Û) с арабского языка на русский или наоборот совершается и удостоверяется благодаря тому, что и арабские и русские слова отправляют нас к одним и тем же значениям (знак взаимного обозначения «). Сами же значения, то есть объекты, на которые указывают слова, в нашей таблице, естественно, не указаны.
Теперь русский перевод арабского выражения байна ан-нар ва ал-ма’ должен получиться из правой колонки при добавлении туда тех грамматических значений, которые специфичны для русского предложения и которые вместе с тем соответствуют определенным грамматическим реалиям арабской фразы. Так, мы придаем словам «огонь» и «вода» необходимые падежные окончания, достигая таким образом «грамматического перевода» арабской фразы.
Если фрегевская теория отражает суть дела, этот перевод должен оказаться правильным, хотя и утеряет, вероятно, специфические для арабского языка коннотации слов нар или ма’ либо приобретет те, что свойственны русским «огонь» и «вода».
Получающаяся в результате применения такой стратегии русская фраза «между огнем и водой» не становится, однако, переводом байна ан-нар ва ал-ма’ именно с точки зрения требования Фреге сохранить «значение», не обращая внимания на «смысл». Русская фраза, иначе говоря, никогда не обретет правильное значение «нагретость-воды», если мы будем следовать такой стратегии перевода. Прежде чем настаивать на этом выводе, посмотрим, не ошиблись ли мы на каком-то шаге, приписывая значения словам; попытаемся вновь применить словарный аргумент, о котором шла речь выше.
Переводы нар Þ «огонь», ма’ Þ «вода», ва Þ «и» как будто не вызывают подозрения; да и, собственно, как подсказывает нам Рис. 3, не в этих переводах как таковых заключается суть дела. Нам остается рассмотреть перевод байна Þ «между». Теория значения, на которой основывается словарный аргумент, подсказывает нам: «между» в данном случае имеет значение не «посередине, отделяя одно от другого», а «вместе, соединяя одно с другим», «складывая». Кажется, такое присвоение значения спасает ситуацию. Заметим, что мы именно «присваиваем значение» слову «между»: мы как бы берем из некоего хранилища готовое значение и «закрепляем» его за данным словом. Нас совершенно не интересует, откуда взялось это значение на таком складе, как оно туда попало, как мы там нашли его и кто позволил нам его взять, ни что вообще собой представляет этот склад, ни, наконец, из чего «сделано» взятое нами значение. Мы можем не обращать внимания на все эти вопросы, пока остаемся в пределах теории значения и действуем согласно ее инструкциям.
Итак, «между» будет у нас означать «совместно», «складывая». Но действительно ли ситуация спасена? Действительно ли мы получаем таким образом референцию, отраженную на Рис. 3, вместо той, что отражена на Рис. 2?
Мы получили: «между огнем и водой» означает «там, где огонь соединяется с водой». Стало ли нам проще понять эту фразу? Понять, не зная настоящего ответа? Кажется, каждый может проделать мысленный эксперимент и сказать: нет, стало еще хуже. Если огонь соединится с водой, не станет ни огня, ни воды. Да и где же он с ней соединяется? Мы получили «значения», «смысл» которых стал нам еще менее понятен. Какой вещи соответствуют эти значения, да и каков смысл фразы, можем теперь спросить мы, пользуясь фрегевскими терминами?
Подчеркнем, что наш анализ еще раз показал, что в данном случае бессилен «словарный» перевод, в котором «между» будет заменено на «вместе» (в конечном счете просто потому, что и «вместе» будет пониматься различно в двух логиках смысла). В самом деле, имеем ли мы возможность отослать к «значению “вместе”», избегая процедурного выстраивания самого значения «вместе»? Разве «вместе» чем-то отличается в этом отношении от «между»?
Вопрос можно поставить и так.
Действительны ли предпосылки рассмотренного вопроса, то есть: в самом ли деле можно сказать: «нар имеет ту же референцию, что “огонь”», если представлять себе такое приравнивание референций через некий общий знаменатель, которым будет выступать объект (или, если его нет, мысль, которые в этом плане одинаково объективны)?
Иначе говоря, не касается ли нар и ма’ ровно то же, что касается байна ан-нар ва ал-ма’: не является ли референция нар столь же не такой, как референция «огня», а значит, и в этом случае мы не имеем права говорить о наличии референций, но обязаны говорить о выстраивании смыслов в результате процедур смыслополагания (которые могут оказываться разными для двух случаев)? Действительно ли возможны «простые» значения, или любое значение столь же процедурно-определяемо, как значение целого выражения, бывшего предметом нашего анализа? Не является ли простота значения фикцией, скрывающей его логико-смысловую определенность? И не должны ли мы обращать внимание не на референции, которые устанавливаются задним числом и скрывают процесс выстраивания смысла, поскольку нивелируют его и покрывают завесой, прочерчивая на его пространстве сплошную линию, а на то, каким образом смысл выстраивается, видя тем самым в «смысле» — «смысловую историю»?
2.3.2. Как складывается смысл целостного высказывания, или достаточно ли понятий лексического и грамматического значений для описания смысла?
Заданные вопросы имеют, конечно же, отношение к фундаментальным понятиям семиотики. Для Пирса и дальнейшей традиции семиотических исследований принципиально представление о возможности перевода одних знаков в другие при сохранении (mutatis mutandis) значения. Даже сама оговорка о том, что значение сохраняется приблизительно, предполагает своего рода очевидность истинного и подлинного смысла того, что «обозначено» знаками; сравнивая с этой очевидностью результат знакового преобразования, мы и можем судить о приблизительности. Знание такого подлинного и истинного смысла считается интуитивно гарантированным.
Р. Якобсон в «Работах по поэтике» [Якобсон 1987] говорит, что перевод не предполагает замену одних языковых знаков другими по отдельности; переводчик обычно, говорит он, заменяет одно целостное высказывание на другое целостное высказывание. Почему, однако, это происходит? Очевидно (это следует из самого смысла того, о чем говорит Якобсон), что целостные выражения эквивалентны иначе, чем отдельные слова, в них входящие. Очевидно, эквивалентность (или, что в данном случае то же самое, неэквивалентность) целостных выражений возникает как результат [не]эквивалентности процедур соположения смыслов, фиксируемых отдельными словами. Когда мы имеем целое (а именно, высказывание), его целостный смысл — это смысл, возникший в конфигурации смыслов отдельных входящих в него слов. Конфигурация смыслов — вот та «прибавка» к смыслу частей, которая и делает целое целым. Понятно, что это такая «добавка», которая не при-кладывается к основной части (отдельные смыслы отдельных слов), а трансформирует (переплавляет) их.
Именно эта трансформация в конфигурировании и интересует меня.
Дело в том, что такая «добавка», такая трансформация не сводится к тому, что в семиотических и лингвистических исследованиях называется грамматическими отношениями между словами. Как правило, именно к понятию грамматического значения прибегает лингвистика для того, чтобы указать на «добавку смысла», возникающую в осмысленной фразе в сравнении с отдельным осмысленным словом. Подробно обсуждаемая Р. Якобсоном работа Боаса «О грамматическом значении» [см. Якобсон 1985, с. 231—238] показательна в этом отношении. Проблемы взаимной переводимости-непереводимости рассматриваются и решаются через призму тех «грамматических значений», которые наличествуют или отсутствуют, а точнее, обязательны либо факультативны в грамматиках любой пары сравниваемых языков. При этом совершенно справедливо подчеркивается, что всякая информация, грамматически нерелевантная для языка перевода, но присутствующая как грамматическое значение в языке оригинала, может быть аналитически, с помощью специальных слов, добавлена в перевод. Идеи переводимости-непереводимости (рассматриваемые в этом грамматическом аспекте), безусловно, имеют отношение к молчаливо принимаемой посылке о наличии (возможности наличия и «чувствования») того истинного смысла, который и будет критерием сравнения двух грамматик (двух систем грамматических значений).
Поскольку в отдельных языках грамматика не идентична, понятно, что и совокупность грамматических значений в произвольно взятой паре языков может различаться. Логически закономерно заключение о том, что поскольку язык отражает мышление, а мышление в его подлинном выражении (при всей сложности определения этой подлинности) едино для всего человечества, то и «подлинная» грамматика также обязана быть единой для всех языков. Дело не меняется оттого, что в данном случае вместо слова «подлинная» для определения такой грамматики может использоваться слово «всеобщая»: именно в ней оказывается отражен тот минимум информации, который делает сочетание слов осмысленной фразой. При этом, что важно для нас здесь, такая осмысленность одинакова для всех языков и может быть сформулирована как «значение», то есть нечто, объективно предзаданное фразе любого языка, имеющее законченное и объективное выражение и в этом смысле пред-стоящее любой возможной фразе на любом языке. Грамматическое значение должно быть, по самой своей сути, осмысленным само по себе, независимо от желания воспринимающего субъекта: как отсылка к внешнему объекту в принципе кладет предел спорам вокруг лексического значения слова, так и здесь отсылка к неким объективно сформулированным грамматическим значениям должна составлять общий и единый базис понимания фраз на любом языке. (Такое понимание сути минимальной грамматики предполагает возникновение проблемы единого языка ее описания, языка, который уже стоял бы в равном отношении к двум языкам, языку оригинала и языку перевода, и был бы понятен независимо от них, возможность чего совершенно неочевидна; однако я здесь не вдаюсь в эту проблему.)
Подобная «всеобщая грамматика» и служила бы «общим знаменателем» при сравнении грамматики языка оригинала и языка перевода; ее наличие очевидным образом связано с тем, что Фреге называет сохранением «значения» при адекватном переводе, а отмечаемая им допустимая потеря «смысла» связана в том числе и с несовпадением реальных грамматик двух языков. Как известно, ученые, преданные идее такой грамматики, считали, что есть минимальный набор грамматических значений (субъект, объект, т.п.), который, во-первых, встречается в той или иной форме в любом языке и, во-вторых, необходим и достаточен для выражения любого смысла. Очевидно, эти два требования взаимосвязаны; именно потому, что таких «грамматических значений» (наряду с «лексическими», естественно) достаточно для того, чтобы выразить всякий смысл, они и присутствуют в любом языке, и именно поэтому они всегда необходимы. Остальные грамматические значения (которые в зависимости от того или иного языка непременно присутствуют в его языковых формах, но не являются обязательными с точки зрения выражения смысла) как бы факультативны; если их нет в конкретном языке, эта недостача может быть компенсирована аналитически, и недостающие значения будут выражены таким образом и на этом языке. Определяя универсальную минимальную грамматику, Э. Сепир писал:
Каковы же те безусловно необходимые значения, которые должны находить свое выражение в речи, для того чтобы язык удовлетворительно выполнял свое назначение служить средством общения? …Во всяком вразумительном суждении должно быть выражено по крайней мере два корневых понятия, хотя в исключительных случаях одно или даже оба могут пониматься из контекста. И далее, должны быть выражены такие реляционные значения, которые прикрепляют конкретные значения одно к другому и придают суждению его законченную, типовую форму [Сепир, с. 94—95].
«Корневые понятия», или обладающие «конкретными значениями» слова — это единицы лексики, прямо относимые к объектам внешнего мира независимо от их участия в той или иной фразе; это то, что, по выражению Э. Сепира, «прикрепляет» фразу к реальным объектам реального внешнего мира. Мы здесь, естественно, не обсуждаем вопрос о статусе понятия «реальность» в этом контексте. Для нас скорее представляет интерес тот факт, что Э. Сепир не питает никакого сомнения в том, что «прикреплять» слово к объекту внешнего мира можно в принципе неким единственно возможным образом, и в силу его единственности, а значит, и универсальности хорошая теория не просто имеет право, но даже и должна не обращать на него внимания (как физика не обращает внимания на универсальные силы). Что такое «прикрепление» оказывается выраженным в конечном счете связкой «быть», является только естественным выражением этой общепринятой веры. При этом совершенно не имеет значения, что такое «быть» оказывается в реальной фразе модифицировано тем, что Э. Сепир называет «реляционными значениями», и хотя функции последних шире, нежели только модификация этого «быть», они тем не менее никак не ставят под вопрос его оправданность. Согласно Э. Сепиру, имеется пять разновидностей «реляционных значений»: референция[26] (определяющая, что является первым, а что вторым субъектом высказывания, то есть от кого на кого направлено действие), модальность, личные отношения (субъектность-объектность персонажей высказывания), число и время. Идея Э. Сепира, настойчиво подчеркнутая в его работе, состоит в том, что ни в каком реальном языке невозможно обойтись без этих грамматических значений, не важно, выражены ли они отчетливо или вычитываются из контекста: сообщение осмысленно только при их наличии. Оборотной стороной этого утверждения о необходимости таких значений является, как говорилось, и утверждение (чаще всего подразумеваемое, в силу его очевидности) об их достаточности для формирования осмысленной фразы, а тем самым и универсальности[27]. Заметим, что, как это хорошо видно из изложения Э. Сепира и нашего анализа, наличие лексического значения (в его терминологии — «корневые понятия», «конкретные значения») уже включает в себя — правда, неявно — предположение об универсальности принципиального способа отсылки к объекту внешнего мира. Как бы ни был этот способ модифицирован модальностями, что и выполняют, в частности, «грамматические значения», глагол «быть» остается его неизменным выразителем[28].
Безусловно, понятие «грамматическое значение» близко связано и с идеей совершенной независимости синтаксических структур, которые остаются осмысленными независимо от потери собственного смысла всех входящих в предложение слов. Как писал Л. Теньер, признаваемый сегодня историками лингвистики основоположником структурного синтаксиса,
не сводимый ни к логике, ни к психологии, синтаксис должен найти свой собственный закон в самом себе. Синтаксис автономен [Теньер, с. 53].
Относя семантику, или содержание мысли, целиком к области логики и психологии, он оставляет за новой наукой совершенно самостоятельную и независимую область формы ее выражения. Независимо от конкретно-лингвистических успехов этого направления, структурный синтаксис все так же уверен в универсальной оправданности понятий «значение» и «означаемое», в способности теории разделить выражение и содержание, в отсутствии того, что лежит между знаком и означаемым и учет чего принципиален для понимания формирующейся осмысленности знака.
Вернемся к нашей теме. В конечном счете при учете всех отмеченных факторов в лингвистике предполагается нахождение формы равнозначного для любых двух языков выражения значения высказанных на них фраз: так вычлененная лингвистами информация оказывается как будто неким третьим универсальным языком, к которому и сводится любая произвольная пара реальных языков, а точнее, сделанных на них высказываний. Что при этом собственно лингвистические представления тесно смыкаются с семиотическими, если не опираются на них, только естественно. Не случайно Р. Якобсон замечает, что
равнозначные высказывания на двух языках, но прежде всего и главным образом — интерпретация понятий посредством эквивалентных выражений, как раз и является тем, что лингвисты называют «значением» и что соответствует семиотическому определению значения символа как его «перевода в другие символы» [Якобсон 1985, с. 236],
ссылаясь при этом на классическое определение значения знака Пирсом[29].
Вопрос, который я хотел бы поставить, звучит так: является ли грамматика принципиально достаточным средством для того, чтобы описать все необходимое для смыслополагания? Довольно ли грамматических категорий для отражения смыслополагания (формирования и понимания смысла в логико-смысловых конфигурациях) или же сами эти категории должны быть поняты с точки зрения логики смысла? Самодостаточны ли термины «грамматическое значение» и «лексическое значение»; точнее, достаточны ли они для того, чтобы описать процедуру смыслополагания, или сами нуждаются (в случае каждого конкретного языка или каждой крупной группы языков) в том, чтобы быть исследованными с точки зрения смыслополагания?
Задавая этот вопрос, я лишь спрашиваю (в иных терминах), является ли референция фразы суммой референций отдельных слов при учете синтаксических соотношений между ними. Сводится ли, иначе говоря, значение фразы к значению составляющих ее слов и грамматических (синтаксических) отношений между ними? Не обнаруживаем ли мы во фразе чего-то, что не может быть уловлено фиксацией этих значений? Не остается ли что-то принципиально вне этих способов схватывания смысла? Сводится ли передаваемое фразой к определенным значениям отдельных слов, которые соотносятся между собой так, как то предполагается их синтаксической ролью? Действительно ли достаточно подставить в глокая куздра бодланула куздренка значения слов, чтобы понять смысл фразы, поскольку грамматические значения нам понятны и в такой формулировке? Точнее, универсален ли пример глокой куздры? Соотносятся ли слова между собой только благодаря тому, что обладают (наряду с собственными лексическими) грамматическими значениями? Нет ли существенно иного класса отношений, — существенно иного потому, что эти отношения не могут быть классифицированы ни как лексические значения слов (и потому невозможен словарный аргумент, утверждающий, что «байна имеет значение “вместе”»), ни как грамматические отношения между словами («и» как перечисление, как указание на однородные предметы; «между» как то, что в примере о глокой куздре считалось бы грамматическим значением — но не оказывается таковым)? Иначе говоря, если «между» не является словом, устанавливающим грамматическое значение, но также и не есть такое слово, которое становится ясным после определения его словарного значения, — то чем оно является?
Вопрос, таким образом, сводится к следующему. Достаточно ли понятий «лексическое значение» и «синтаксис» («связь», «структура», т.п.) для того, чтобы выразить все требования, необходимые для соблюдения принципа композициональности, или, напротив, чтобы оспорить его? Этот принцип, признаваемый большинством современных семантических учений и теорий значения, состоит в том, что значение (иногда также и смысл) целого полностью определяется значением его частей и их структурой, то есть тем, как они образуют целое. В нашем случае речь идет о значении целого выражения. В соответствии с принципом композициональности оно должно было бы формироваться как синтаксическое преобразование значений его отдельных частей. Если перевод имеет целью сохранить значение, то для достижения адекватного перевода должно быть достаточным: 1) передать лексические значения частей выражения, а затем 2) связать их синтаксически так же, как они связаны в языке оригинала. Рассматривая выше возможные способы перевода арабского байна ан-нар ва ал-ма’ «между огнем и водой» на русский, я показал, что такая стратегия перевода не дает искомого результата. Это означает, что, если мы хотим сохранить принцип композициональности, нам придется признать существование особого типа отношений, — такого, который не сводится к тому, что в традиционной семантике понимается как значение отдельных частей целого и их структурная связь.
К такому же выводу приводит попытка понять значение выражения как область его истинности. В соответствии с этим критерием перевод будет адекватным (сохранит значение) в том случае, если область истинности оригинала и перевода будет одной и той же. Поскольку в данном случае верны допущения наивной семантики, можно интерпретировать этот критерий как требование отсылки к одной и той же реальной ситуации, к одному и тому же состоянию внешнего мира. Но в том-то и дело, что это требование, кажется, никак не может быть удовлетворено: то, что представляется с «нашей» точки зрения загадочным и непонятным (неясно, к чему отправляют нас слова «между огнем и водой», их референт — это неопределенная область, предмет предположений), оказывается отчетливым для альтернативной процедуры понимания (те же слова имеют ясный и определенный референт, «нагретость-воды» — см. Глава I, § 1.2.1.3. Различение прямого и переносного значений в зависимости от процедуры смыслополагания).
Это значит, что сама процедура установления истинности выражения как определения его значения оказывается неопределенной. Это легко понять, если задаться вопросом, почему в двух случаях одно и то же выражение отправляет к разным состояниям внешнего мира. Отвечая на этот вопрос, нам придется признать, что в двух случаях заданы разные функции, устанавливающие соответствие объектов внешнего мира переменным нашего выражения. Вопрос, следовательно, в том, почему в двух случаях действуют разные интерпретирующие функции и почему адекватный перевод нашего выражения оказывается, таким образом, невозможным.
Этот вопрос прямо адресует нас к центральной теме этого исследования. Вот как можно переформулировать его: имеет ли «между» некое значение, которое может быть зафиксировано и объективировано как определенное содержание, или же оно лишь подсказывает нам, как мы должны обойтись с управляемыми им смыслами, и уже расположение этих смыслов мы принимаем за значение «между»? Является ли «между», иными словами, обычным языковым знаком, обладающим денотатом (или во всяком случае десигнатом), или это «процедурное понятие», нечто, что подсказывает процедуру обращения с другими знаками? И если верно второе, то не является ли переход к значению знака чем-то, что совершается после такой процедуры и на ее основе, будучи лишь упрощенным, очень упрощенным ее выражением? И далее, не является ли любое простое значение чем-то, что лишь «стягивает» в себе процедуру смыслополагания, которая «вложена» в него и «заключена» в нем, — хотя и не так, как более сложные выражения заключаются в более простых знаках у Лейбница, и не совсем так, как мог бы таиться смысл в делёзовских «складках»?
2.3.3. Интуиция пространственно-временных отношений как предельное основание осмысленности
Вот что я отвечу на этот вопрос: «между» в нашем примере — слово, принадлежащее особому классу слов, способных выражать процедуру смыслополагания. Речь идет о более фундаментальном уровне, нежели отражаемый терминами «лексическое» и «грамматическое» значение.
Тот факт, что речь идет о слове «между», не случаен. Оглянемся, чтобы охватить пройденное единым взором. Когда мы говорим, что 1) для перевода «между» оказывается несостоятелен словарный аргумент, что 2) помимо лексических и грамматических значений, слова во фразе передают что-то еще, некий иной тип осмысленности, который не сводится к этим двум типам значения, и что 3) любой смысл оказывается столь же не простым, как и сложная словесная конструкция, а его видимая простота — лишь следствие незамечания нами сложной процедуры его полагания, которая вписывает этот смысл во всеобщий смысловой континуум, — эти три положения имеют одно и то же основание и ведут к одним и тем же выводам. Когда словарный аргумент сообщает нам, что «между» надо понять не как «разъединяя», а как «вместе», «соединяя», то, дабы он достиг своей цели, эти «вместе» и «соединяя» должны оказаться для нас простыми и ясными значениями, которые мы легко осознаем и присвоим арабскому байна, подставив их в русскую фразу перевода. Такая стратегия, в самом деле, оказывается как будто успешной достаточно часто, когда речь идет о других словах, — но не в этом случае. Мы чувствуем, что слова «вместе» и «соединяя», будучи подставлены в перевод вместо арабского байна, продолжают контрастировать с тем пониманием, которого нам хотелось бы достичь; они по-прежнему не дают искомого значения «нагретость-воды». Не дают потому, что заставляют оперировать другими смыслами (в данном случае смыслами «огонь» и «вода») таким образом, что принципиально не позволяют получить такое значение. Это «заставляют оперировать» я и выражаю в понятии «логика смысла»: речь идет об интуициях, которые заставляют нас, независимо от нашего осознания или неосознания их, оперировать смыслами так-то, а не иначе и получать такой-то, а не иной результат. В нашем случае «соединить» огонь и воду, оставаясь в пределах русского языка и его логики, можно по-разному, и разными могут быть «огонь» и «вода», но неизменным останется одно: эти две противоположные субстанции, будучи таковыми, уничтожат друг друга. Само понятие соединения (или «вместе», или, наконец, то, что мы можем помыслить как их синонимы, например, «и») пробуждает в нас определенные интуиции и заставляет мыслить как соединяемое, так и сам процесс соединения и его результат в границах определенных допущений. Именно эти границы и служат предметом внимания логики смысла, и они-то ускользают от внимания традиционных теорий, выстраивающих себя согласно парадигме «означающее-означаемое». Характер этих допущений и их следствия и интересуют меня сейчас.
Как уже говорилось, в разных логиках смысла вот-это (например, наши «огонь» и «вода») имеется для нас различным образом, причем «быть» составляет только один из возможных вариантов. Интуиция, о которой идет речь, заставляет воспринять в русской фразе смыслы «огонь» и «вода» как именно такие, которые «суть», для которых «быть» составляет их модус наличия для нас. И уже следствием этого оказывается ощущаемая нами в русской фразе невозможность так «соединить» огонь и воду, чтобы они вместе произвели «нагретость-воды».
Но что мы, собственно, подразумеваем, когда говорим о «соединении» (напомним, это то значение, которое словарный аргумент советует нам принять для слова «между») огня и воды? В чем суть интуитивного представления, которое и лежит, как я предполагаю, в основании того, что модусом наличия для «огня» и «воды» в русской фразе оказывается «быть»? Рассматривая это «соединяя» (или «вместе» ― напомню, мы назвали такие понятия процедурными) ближе, мы замечаем, что оно говорит нам о том, каким образом одно наличествует одновременно с другим и в одном пространстве с другим. Оно определяет, иначе говоря, пространственно-временные характеристики того, о чем идет речь.
В каком смысле, однако, можно говорить об этом «определяет»?
Конечно, значение «соединяя», которое мы вслед за защитниками словарного аргумента считаем эквивалентом арабского байна, определяет не акцидентальные пространственно-временные характеристики. Оно не сообщает нам, что огонь и вода соединились на третьем этаже соседнего дома вчера в полдень, когда перелившийся из кастрюли соседа суп едва не загасил горевший под ней газ. Оно говорит о чем-то совершенно другом. Оно подсказывает нам, что «соединяемые» огонь и вода остались сами собой, оказавшись в одном пространстве одновременно, и должны были повести себя в соответствии со свойственными им чертами: вода шипела и испарялась, заливая огонь, а огонь грозил потухнуть, одолеваемый водой. Соединение противоположных субстанций привело к взаимному уничтожению — и не могло не привести, иначе никакого «соединения» бы не было. Что огонь и вода противоположны, мы знаем независимо от нашего представления о значении слова «соединение». Но что противоположные субстанции уничтожат друг друга, соединившись, каким-то непосредственным образом входит в наше знание слова «соединение», — потому что мы неизбежно представляем себе соединение как сохранение субстанциальной идентичности при совмещении пространственно-временных характеристик. Это не означает, что огонь и вода или любые две другие соединяемые вещи останутся сами собой в соединении, что они сохранят свою субстанциальную идентичность в соединении. Как раз наоборот, они могут ее изменить или потерять. Но только — после и в результате соединения. Сам же акт соединения будет протекать так, как он определен при условии субстанциальной идентичности соединяемого. Ведь только потому, что огонь и вода остаются собою, входя в акт соединения, они уничтожают друг друга; только потому, что хлор и натрий остаются сами собой, когда начинают соединяться, они образуют хлорид натрия. Так само соединение — то, как оно будет протекать и к каким результатам приведет — определено, с одной стороны, представлением о субстанциальной идентичности соединяемого, а с другой — конкретными свойствами соединяемых субстанций. Но чтобы последние проявили эти свойства в соединении, они должны оставаться сами собой, когда начинают соединяться.
2.3.4. Почему неудачен «словарный аргумент»: предельные интуиции смыслополагания не могут быть отражены как значения
Но что из сказанного является действительно ясным, априорно схватываемым и артикулируемым значением слова «соединять»? Что, иначе говоря, словарный аргумент предлагает нам поставить вместо арабского байна? Как правило, мы — когда наша мысль выстраивается в пределах русской фразы — не высказываем явно всех названных посылок о свойствах вещей, оказывающихся одновременно в одном пространстве. Один из современных толковых словарей русского языка дает в качестве первого значения для слова «соединить» — «составить из многого одно целое, объединить, слить воедино». «Слить многое в одно целое» — совсем не плохое выражение, отражающее наше понимание слова «соединить». Мы можем согласиться с защитниками словарного аргумента в том, что мы так воспринимаем слово «соединять» и, следовательно, интуитивно (то есть неосознанно) примем это в качестве значения слова байна, подставляя вместо него «соединять» в русский перевод. Но в том-то и дело, что вместе с этим значением, которое мы осознаем или, во всяком случае, способны артикулировать, если нас об этом спросят, или в случае затруднения почерпнуть знание об этом значении из словаря, — вместе с этим значением мы принимаем для арабского байна и все те не осознаваемые явно посылки, о которых было сказано выше и которые неизбежно сопровождают — пока мы, повторяю, мыслим в пределах русской фразы — это как бы непосредственно схватываемое значение слова «соединять».
2.3.5. Взаимная инаковость пространственно-временных интуиций, влекомых «тем же» значением слова в разных логиках смысла
Зададим теперь такой вопрос. Являются ли эти представления, присоединяемые нами к слову «соединять» с его значением «слить многое в одно целое», единственно возможными?
Следующее разъяснение поможет лучше понять, что стоит за этим вопросом. Когда словарный аргумент сообщает нам, что мы правильно переведем арабское байна, если подставим вместо него в русской фразе «соединять», он опирается в числе прочего и на тот факт, что в арабских толковых словарях значение «соединять» также фигурирует среди значений слова байна. Если быть до конца точным, там фигурирует слово джам‘ (поскольку словарь арабско-арабский), которое стандартно переводится на русский язык словом «соединять». Вот в этом факте словарный аргумент находит, как ему представляется, свое решающее подтверждение: сама арабская культура истолковывает слово байна как джам‘, которое нормативно переводится как «соединять», а значит, и нам надо переводить байна словом «соединять».
Это было бы в самом деле так, если бы представления, добавляемые нами к слову «соединять» с его значением «слить многое в одно целое», были в самом деле единственно возможными. Но это не так. Арабское байна предполагает иные представления о том способе, благодаря которому соединяемое наличествует для нас и благодаря которому становится возможным акт соединения. Это значит, что арабское байна предполагает иную интуицию пространственно-временного соотношения «соединяемого», нежели русское «соединять». Именно эта интуиция и схватывается в той логико-смысловой конфигурации, которая, как я предполагаю, выстраивается согласно процедурам смыслополагания, характерным для классической арабской культуры. Однако этот способ пространственно-временного соположения соединяемого остается вне сферы того, что традиционная теория называет «значением». Она не содержит средств, которые позволили бы отослать к этой интуиции пространственно-временного соположения и каким-то образом артикулировать ее.
2.3.6. Общий недостаток современных словарей значений
А между тем значение слова «соединять» решительным образом зависит от этой интуиции. Суть дела можно выразить так: само слово «соединять», которое словарный аргумент предлагает нам принять как эквивалент для джам‘, — само это слово должно быть осмыслено, само оно не является простым и ясным значением, но вытягивает за собой сложные интуиции пространственно-временного соположения соединяемых вещей. Если эти интуиции различны для джам‘ и «соединять», эти два слова не являются эквивалентами; но эта неэквивалентность никак не может быть замечена, пока мы остаемся в рамках традиционных теорий значения, поскольку максимум того, что они могут сделать, — это предложить нам некое другое «значение», которое должно было бы объяснить нам, «что же значит» слово «соединять» или слово джам‘; но такие отсылки к новым и новым значениям ничего не решат, поскольку каждое такое значение в свою очередь будет нуждаться в том, чтобы быть понятым, — а для этого необходимо указать на то, на что указывает логико-смысловая теория и что остается невидимым для традиционной теории, присваивающей означающему готовое значение.
Помимо прочего, из этого следует, что слово «соединение», сказанное по-русски, и слово джам‘, сказанное по-арабски (и как будто, как это зафиксировано в словарях, означающее именно «соединение», то есть эквивалентное русскому), на самом деле означают разное. Однако это их различие не может быть уловлено на уровне словаря, во всяком случае, на уровне тех словарей, которые существуют сейчас и которые фиксируют «готовые» значения слов, не обращая внимания на то, как такие значения выстраиваются. Это никак нельзя ставить в вину нынешним словарям и их составителям, поскольку они основываются в конечном счете на имеющем философскую природу представлении о единстве человеческого разума, для которого процесс осмысления по сущности един (коль скоро речь идет о здравом рассудке и правильном мышлении), хотя может различаться по форме. Это единство «по сущности» и составляет основание для прямого приравнивания значений в разных языках постольку, поскольку последние представляют собой разные «формы» этого единого процесса: сущностно единое осмысление слова джам‘ и слова «соединение» выражается, с этой точки зрения, в двух разных формах, арабской и русской, которые таким образом эквивалентны. Но если это не вина современных словарей, то тем не менее — их существенный изъян. Не просто не отражая тех представлений, которые в действительности предполагают разное и параллельное (не пересекающееся, но одноуровневое) осмысление «одного и того же» слова, но принципиально игнорируя саму возможность увидеть такое разное осмысление, поскольку они не позволяют обратиться к тому пласту действительности и мышления, на уровне которого это различие возникает, эти словари закрывают путь к тому, что логико-смысловая теория делает предметом своего внимания. Но разве не может это положение дел быть исправлено? Разве нельзя представить себе такой словарь, который не давал бы готовые значения для включенных в него слов, а показывал бы, каким образом эти значения выстраиваются? Мы бы имели тогда словарь не значений — а смыслов[30].
2.3.7. Влияние неосознанности предельного основания смыслополагания на отчетливость любого рассуждения
Представления, добавляемые к русскому слову «соединять» с его значением «слить многое в одно целое» и к арабскому слову джам‘ с точно таким же значением «слить многое в одно целое», являются различными. Но это различие означает и решающее различие в содержательном наполнении слов «соединять» и джам‘. Между тем номинальное, «словарное» значение этих двух слов совпадает — оно может быть выражено как «слить многое в одно целое». Не сталкиваемся ли мы здесь с чем-то очень важным, что сводится к следующему: когда заходит речь о «значении» слова, это значение так или иначе, на том или ином шаге, но оказывается в конечном счете выражено с помощью слов. Мы верим, что на каком-то шаге надо остановиться, чтобы сказать: вот оно, значение обсуждаемого слова; мы должны принять, что схватываем смысл слов, с помощью которых выражено обсуждаемое значение, непосредственно и ясно. Если речь идет о равных значениях двух слов, как у нас речь идет об одном и том же значении слов «соединять» и джам‘, то это равное значение опять-таки будет выражено с помощью какого-то слова или набора слов, которые нам и предлагают интуитивно схватить и принять как ясно осознаваемые; в данном случае это будет выражение «слить многое в одно целое», в котором и представлено «равное значение» слов «соединять» и джам‘.
Неудовлетворительность такого способа передачи знания о значении слов, кажется, совершенно очевидна. Остается только удивляться, как столь многие теоретики, ратующие за ясность и четкость мышления и стремящиеся к абсолютной строгости доказательства любых выдвигаемых положений, мирятся с такой вопиющей неопределенностью в самом фундаменте искомой ясности, в том, что должно служить основанием для четкости доказательств: в процедуре понимания смысла употребляемых нами слов. Ведь даже если мы и не имеем ничего лучшего в нашем распоряжении, нежели отослать к как-будто-ясности содержательного наполнения того или иного выражения, считая его значением для обсуждаемого слова, это не может служить оправданием замалчивания той неопределенности, с которой мы таким образом сталкиваемся. В самом деле, что представляет собой культура, как не океан слов, употребленных по тому или иному поводу, в том числе и для фиксации ясного и определенного знания? А между тем само основание этой ясности оказывается столь зыбким и шатким, что стоит только всерьез задуматься об этом, чтобы увидеть, что всякое рассуждение, как будто претендующее на строгость, в конечном счете зиждется на отсылке к совершенно неартикулируемому, и в этом смысле неясному и несхватываемому «значению» слов. Однако это «значение» участвует в построении осмысленности на любом этапе рассуждения и на любом уровне его сложности: можно представить себе, сколь неопределенными на самом деле оказываются якобы строгие рассуждения. Стоит, повторю, задуматься об этом, чтобы увидеть, что следует восхищаться тем, что разные культуры все же как будто понимают друг друга, нежели удивляться тому, что они такого понимания подчас лишены. И не следует ли в такой ситуации посвятить свои усилия прежде всего выведению на свет того, что стоит за этой смутной «очевидностью значения»? Не стоит ли направить их на то, чтобы по крайней мере попытаться сделать ясной скрывающуюся за словами интуицию, входящую на самом деле в смысловую ткань наших рассуждений на любом их уровне, хотя и скрытую привычкой употреблять слова в их «очевидном значении»? Именно к этому и стремится логико-смысловая теория. Она ставит целью показать, как выстраивается то, что становится потом «значением» слова.
2.3.8. Недостаточность философского анализа, не учитывающего процедурную обусловленность содержания категорий
Если джам‘ и «соединять» означают «слить многое в одно целое», но при этом не означают одно и то же, то потому, что и «сливать многое в одно целое» можно совершенно по-разному. Однако эта разница выходит за пределы того, что улавливается как «значение» слова, — она имеет дело в конечном счете с пространственно-временными интуициями соположения вещей. Если джам‘ и «соединять» означают на самом деле разное, хотя это их на самом деле разное значение выражается одной и той же словесной формулой «слить многое в одно целое», то потому, что иметься как множественное и иметься как единое, превращаться из множественного в единое и полагать множественность единого можно по-разному. Естественно, «по-разному» не в том смысле, в каком единое Парменида отлично, скажем, от единого Плотина. Сколь бы ни были различны понимания единства в истории западной философии, все они выстраиваются внутри определенного «рамочного» представления о том, чем в принципе может быть единство и как в принципе оно может полагать свою множественность: содержательно-различные разработки проблемы единства и множественности строятся в пределах и, более того, на основе этого единого понимания. Единство это всегда чувствуется философской традицией; можно сказать, что оно и создает традицию. Не случайно Ж. Делёз говорит, что
всегда существовало только одно онтологическое предположение: Бытие однозначно. Всегда была лишь одна онтология, онтология Дунса Скота, дающая бытию лишь один голос. Мы говорим Дунс Скот, потому что именно он сумел возвести единое бытие на самый высокий уровень тонкости, заплатив за это абстракцией. Но от Парменида до Хайдеггера возникал тот же голос, эхо которого образовывало развертывание однозначного. Один голос создает гул бытия. Нам нетрудно понять, что Бытие, будучи абсолютно общим, не становится из-за этого родом… [Делёз 1998 (б), с. 53]
Такое единство, собственно, и создает преемственность внутри традиции и возможность диалога. Все эти соображения, кажется, тривиальны, и если я все же решаюсь обременять ими читателя, то лишь для того, чтобы сказать вслед за этим: на самом деле не менее тривиально, но гораздо менее привычно и другое положение. Такое единство и такая преемственность существуют только внутри одной традиции; другая традиция, также говоря о единстве и множественности, о тождестве и различии, говорит о них по-другому, — но «по-другому» не содержательно, а процедурно, то есть выстраивает понимание этих проблем на других процедурных основаниях.
Это различие лежит глубже той как будто ясной осознанности значений слов «множественность» и «единство», на которых, как нас уверяют традиционные теории, только и может строиться их употребление, в том числе и в философском рассуждении. Поэтому тот, кто останавливается на этой ясной осознанности значения (которая неизбежно будет сохраняться при всех многообразных вариациях конкретного содержания, наполняющего категорию «единство» или категорию «множественность» в тех или иных философских системах внутри одной традиции), лишает себя возможности видеть другие основания тех же проблем — возможность выстроить те же проблемы иначе. Что это обедняет философию, должно быть очевидным. Когда сегодня так много говорят о «диалоге», в том числе о диалоге культур и философий, диалог этот понимается как взаимное общение разных позиций, представляющих собой различающиеся в содержательном отношении интерпретации той или иной проблемы, выстроенные на одном и том же основании, — иначе диалог просто, как обычно считают, не может состояться. Мы оказываемся в данном случае перед тем же различием пониманий одно и то же и то же иначе, о котором шла речь выше, — но уже в другом преломлении, в аспекте возможности реального философского диалога и столь модного ныне тезиса о глобализации в ее разных проявлениях, в том числе и в виде пресловутой глобальной цивилизации XXI века. Если такая глобализация будет мыслиться как основывающаяся на принципе одно и то же, она сведется к нивелировке всех цивилизаций под логику смыслополагания, характерную для той, что технически и материально господствует над миром. Только если такая гипотетическая глобальная цивилизация будет основываться на принципе то же иначе, она может надеяться не утерять подлинного основания многообразия человеческой культуры.
2.3.9. Параллельность формальных логик как отражение параллельности логик смысла
К этому аспекту мы еще вернемся ниже, завершая эту главу. Теперь же попытаемся более отчетливо представить себе, во-первых, каковы те пространственно-временные интуиции, что конституируют характерную для классической арабской культуры логику смыслополагания и находят свое воплощение в характерном для нее способе построения логико-смысловой конфигурации, и, во-вторых, как они связаны с тем модусом наличия вещи, который предполагается этой логикой.
Обратимся вновь к Рис. 3; я буду предполагать, что читатель держит его перед глазами, чтобы сделать рассуждения более наглядными.
На этой иллюстрации мы видим, что «огонь» и «вода» и здесь «слиты воедино», — но так, что как субстанциальные они остаются за пределами их единства, созданного таким «соединением». Само же, так сказать, место их соединения, само их единство таково, что не является ни тем ни другим субстанциально, — и только за счет этого огонь и вода, две противоположности, способны не уничтожать друг друга, соединившись. Это означает, что само «соединение» устроено здесь иначе. На эту инаковость и указывает формула то же иначе, а возможность такой инаковости служит предметом внимания логико-смысловой теории.
Какого типа эта инаковость? В самом деле, я говорю, что эта инаковость не содержательная, но процедурная; есть ли возможность указать что-то в материале самой культуры (философии или других областей теоретического знания), что соответствовало бы этой процедурной инаковости (или: отражало бы ее)? Пусть это отражение будет не прямым — ведь то, на что обращает внимание логико-смысловая теория, не становилось до сих пор предметом рефлексивного рассмотрения. Но хотя бы каким-то образом эта инаковость должна давать о себе знать. Каким же?
Коррелятом закономерностей, улавливаемых логико-смысловой теорией, оказываются те представления, что в западной традиции зафиксированы в виде формально-логических аксиом. Эти аксиомы прямо отражают представления культуры о том, что рационально, а что нет, что допустимо, а что абсурдно, как может быть выстроено понятие и как оно может соотноситься с другими понятиями, а как не может. Такие аксиомы считаются свойственными любому здоровому и правильному мышлению; они, иначе говоря, носят, согласно этой точке зрения, общечеловеческий характер, а отход от них означает отход от принципов логического мышления вообще. Именно поэтому эти аксиомы считаются чисто формальными, и в силу этого своего максимально общего характера способными схватить любое содержание; иначе говоря, они полагаются универсальными.
Но если то, что здесь сказано, верно, то такие аксиомы должны оказаться лишь частным выражением частной логики смысла, а не отражением общечеловеческой способности логического и правильного мышления. Они, иначе говоря, оказываются лишь культурно обусловленным вариантом логически правильного мышления. В другой культуре возможно не менее логически строгое — и не менее соответствующее природе разума и природе вещей и мира — мышление, которое, однако, будет опираться на иной набор формально-логических аксиом.
Не это ли мы обнаруживаем при исследовании принципов теоретического мышления в классической арабской культуре? Закон исключенного третьего, закон противоречия и, как естественный коррелят, закон тождества действуют для этого мышления, — но в иной формулировке. Эта иная формулировка допустима, не менее строга и не менее, если угодно, логична, чем аристотелевская редакция[31], — как геометрия Лобачевского не менее геометрична, чем евклидовская. Доказательство и демонстрация этого факта логической инаковости теоретического мышления классической арабской культуры, в силу чрезвычайной важности этого тезиса, должны быть проведены без спешки и потому занять немало места. Частично эта работа была выполнена на основе сравнения представлений о пространстве, времени и движении в античной и арабской мысли, где эти представления исследовались именно в логико-процедурном ключе (как выстраиваются понятия), а не просто с точки зрения их содержания (что входит в понятия)[32]. Частично она проделана в Главе II этой книги, где материал арабской теоретической мысли подробно рассмотрен в том числе и с этой точки зрения. В значительной мере она остается также и делом будущего, — постольку, поскольку описание всего релевантного материала требует значительных усилий и времени, а также, главным образом, в силу того, что в этой книге я, как уже говорилось, ограничиваю рассмотрение пределами единичной логико-смысловой конфигурации, а поэтому исследование проявлений инаковости формально-логического мышления в мыслительных операциях, в которые вовлечены сложные структуры, образованные несколькими логико-смысловыми конфигурациями, приходится отложить до другого случая.
Подчеркну еще раз, что рассматриваемая проблематика носит комплексный характер. Понимание характера (способа процедурного выстраивания) единства, множественности, равенства, противополагания, равно как и связки в ее функциях предикации и фиксации наличия вещи, — все эти стороны взаимоувязаны, хотя вряд ли зависят друг от друга как причины и следствия. Они, если можно так выразиться, находятся как бы на одном уровне, и если уж искать зависимость, то скорее всех их вкупе — от той интуиции пространственно-временных отношений, которая лежит в их основе и прочувствованием, промысливанием, а затем и проговариванием которой они являются. Для наших «огня» и «воды», дабы они повели себя так, как то предполагается логикой смысла, лежащей в основании классической арабской культуры, и смогли «соединиться» так, как то отражено на Рис. 3, — для них пространство и время должны быть устроены каким-то особым образом. В самом деле, соединившиеся огонь и вода должны остаться как таковые за пределами своего соединения, но и вместе с тем — соединиться там, где их как таковых нет. И только потому, что соединение их является соединением не их как вот-этих, как субстанциальных, в этом соединении и образуется нечто, что не является ни огнем, ни водой, чем-то, что как будто даже принадлежит к другому классу, нежели огонь и вода как таковые («нагретость-воды») и что имеется как результат их соединения, — несмотря на раздельное пребывание огня и воды за пределами этого соединения. Дело обстоит так, как если бы пространственно-временные характеристики огня и воды как субстанциальных и как соединившихся не совпадали; как если бы их соединение наличествовало для нас каким-то другим образом, нежели они сами вне этого соединения. Будь иначе, мы бы неизбежно получили прямое противоречие привычным законам аристотелевской логики. Но инологичность означает не отрицание данной логики; в том-то и дело, что инологичность, реализуя принцип то же иначе, выстраивается как параллельная логика, не отрицающая данную, но и не совпадающая с ней.
Такая параллельность возможна только как комплексная инаковость. Если противоположности иначе относятся друг к другу, если они способны соединяться, не уничтожая друг друга, то не потому, что эта логика отрицает закон «А не есть не-А», а потому, что, используя иную, нежели «быть», связку, она иначе фиксирует и наличие «А», и способ его отношения к «не-А»[33].
2.3.10. Невозможность простоты объекта как следствие параллельности логик смысла
Чтобы «огонь» и «вода» могли участвовать в таких отношениях, чтобы они могли, оставаясь сами собой за пределами области своего совпадения (соединения), в то же время совпадать, образуя нечто третье (заметим: они совпадают, не совпадая, и это противоречило бы аристотелевской формальной логике, но не обязательно противоречит иной формально-логической системе аксиом, построенной на иной связке), — не должны ли они оказаться не атомарными? Не должны ли они проявлять свою внутреннюю сложность, участвуя в таких отношениях? Говоря, что «огонь» вряд ли может остаться атомарным смыслом, участвуя в этих отношениях, я не хочу сказать, что он должен оказаться как бы сложенным из двух или нескольких частей, одна из которых остается за пределами области совпадения огня и воды, а другая попадает в эту область. Такое представление по-прежнему не выводило бы нас за пределы привычного мышления о вещи через представление о ее бытии: две такие части были бы. Сложность смыслов «огонь» и «вода» следует мыслить как-то иначе. Это — сложность такого рода, что «огонь», как будто и выступая в качестве простого объекта референции, объекта, к которому мы можем отослать и простое представление о котором мы можем вызвать у себя или у другого, тем не менее всегда может явить свою способность перейти во что-то другое. Любой смысл постольку смысл, поскольку он является возможностью иного, поскольку он способен транслировать себя в иное, — и лишь постольку он осмыслен. Эту способность как будто простые «огонь» и «вода» вдруг являют нам, образуя логико-смысловую конфигурацию, в которой их соединение дает что-то третье, что-то, что и оказывается реализацией этой их способности к трансляции.
2.3.11. Сомнение в формальном характере понятий пространства и времени и в формальном характере формальной логики
Об этом говорилось и прежде; теперь мы можем увидеть основание этой возможности — тот уровень, на котором разные логики смысла находят свое единство. Это уровень их общего языка. На этом уровне оказывается возможной трансформация и способа представленности смысла для нас (то, что фиксируется связкой), и способа его отнесения к другому смыслу (предикативная функция связки). Это уровень пространственно-временных отношений, в которых участвует данный смысл: их изменение и влечет за собой его трансляцию в иное. Пространство и время, даже если считать их априорными формами полагания вещи, не единообразны. Понятия пространства и времени, которыми мы обычно оперируем, не являются, вопреки Канту, чисто формальными. Эти понятия еще не формальны: они предполагают альтернативные себе представления.
Сказанное имеет и другое следствие. Если иная логика смысла представляет собой основание для формулировки системы формально-логических аксиом, не совпадающей с аристотелевской, то это значит, что и та и другая не являются совершенно формальными. Поскольку аристотелевские аксиомы не являются вполне формальными, поскольку они не лишены содержательного момента, они годны не для любого содержания: они пред-формируют то содержание, с которым могут работать. Это касается всех моментов формулировки аксиомы: связки, утверждения и отрицания. Если возможна иная формализация логики, опирающаяся на иную связку, то связка «быть» не является чисто формальной, она глубоко содержательна: она предполагает определенные условия формирования смысла. Это проявляется в том, как относятся друг к другу противоположности, а значит, какими являются «А» и «не-А». С этой точки зрения «А» и «не-А» не представляют собой алгебраические абстрактные значки, в которые вместо «А» может быть подставлено любое содержание, причем для этого содержания были бы верны те же закономерности, что верны для самих «А» и «не-А». И отрицание («не-А»), и утверждение («А») глубоко содержательны — постольку, поскольку они предполагают бытийствующие «А» и «не-А», такие, для которых верна связка «быть». Коль скоро так, то вовсе не любое содержание может подпасть под эти «А» и «не-А», а только то, что сформировано согласно логике смысла, для которой смыслы наличествуют как «бытийствующие». Поэтому я и говорю о комплексном характере инаковости при трансляции между логиками смысла: само отрицание («не-») в разных логиках смысла оказывается иным, равно как и его противоположность — утверждение.
Поэтому иная логика смысла говорит нам об ином состоянии того же мира, об ином состоянии той же вещи.
2.3.12. Ощущение, понятие и смысл
Ч. Пирс начал свою статью «О новом списке категорий» словами:
Это сочинение опирается на уже установленную теорию, согласно которой функция понятий состоит в сведении многообразия чувственных впечатлений к единству и обоснованность понятия состоит в невозможности свести содержание сознания к единству без введения этого понятия [Пирс 2000].
Догматизм позитивистской веры в возможность «свести» чувственное восприятие к единству понятия разделяется сегодня не столь уж многими, а его постмодернистская критика кажется весьма убедительной [см. Делёз 1998 (б)]. Но и то и другое, и вера и ее критика, были бы невозможны без одной, безусловно разделяемой обеими сторонами уверенности: мы обладаем средством сравнить наши чувственные восприятия и наши понятия. Только при этом допущении можно утверждать возможность сведения первого ко второму, как это делает Ч. Пирс, или усомниться в этом, как это делает Ж. Делёз. Но ни та ни другая сторона не показывает нам, каким образом возможно такое сравнение. Категориальный разрыв, трагическая дисконтинуальность требует прыжка от ощущения данной вещи к понятию о данной вещи, не важно, подводится ли эта вещь и масса ей подобных под общее понятие или нет: ведь само утверждение о том, что «многообразие восприятий не охватывается единым понятием о вещи», требует, чтобы у нас было такое единое понятие и чтобы мы имели принципиальную возможность каким-то образом вкладывать все многообразие наших восприятий в это единое понятие (как это делает Пирс) и только благодаря такому «вкладыванию» убедиться, что оно туда полностью никогда не вмещается (как это делает Делёз). Это перепрыгивание весьма напоминает тот скачок от знака к его значению, который заставляют нас совершать традиционные семиотические теории. Как позитивистская (и не только позитивистская, конечно) эпистемология, так и традиционная теория значения стоят на одном и том же фундаменте: на представлении о возможности перебросить мост от чувственного восприятия к понятию. А точнее, на уверенности в том, что такой мостик уже наличествует и мы можем располагать им к своему удобству, сравнивая то и другое и решая, подходят они друг другу или нет. Эту уверенность сполна разделяет и постмодернизм, а потому его представление о собственной противопоставленности картезианско-просвещенческой парадигме явно преувеличено: он не отказывается от главного, что составляет самую суть этой парадигмы и что роднит нововременной этап развития западной философии с предшествующими.
В конечном счете и там и тут нам предлагают принять и поверить, что понятийное (будь то чистое понятие в мысли или слово, фиксирующее его), с одной стороны, и внеположное нам и нашим понятиям — с другой, фундаментально однородны, поскольку без такой однородности невозможно было бы свести одно к другому и вообще поставить вопрос об их сводимости. Фундаментальная неоднородность Я и не-Я должна, таким образом, соседствовать с фундаментальной однородностью, соединяющей собственное Я (понятие) и получаемое им от не-Я (ощущение). Допустимость такого соседства может быть только предметом доброй веры. Если вера в это и является единственной панацеей от бессмыслицы солипсизма, то в этом еще не заключается оправдание того основания, на котором ей приходится себя выстраивать. И вряд ли стоит принимать ее столь уж безоговорочно: а вдруг это основание окажется не меньшей бессмыслицей, чем та позиция, против которой оно направлено? К тому же верить в наличие чего-то внеположного нашему Я — одно, а верить в возможность сведения восприятий предметов внеположного нам мира к нашим понятиям — совсем другое. Для избежания солипсизма довольно первого и совсем не требуется второго; но до сих пор обычаем было смешивать эти два шага.
Понятие сводит к единству множественность чувственных восприятий, говорит Пирс. Что такое сведение мыслится как нахождение общего для частного, вряд ли приходится сомневаться; да и критики подобных редукционистских программ рассматривают эти два ряда, единое-множественное и общее-частное, как синонимичные. Как если бы единство для множественного всегда могло быть только чем-то общим, вбирающим в себя частное, как бы поглощающим его и заключающим внутри себя. Сомнение в возможности этого и выражает Делёз, когда говорит, что несколько разных птиц вовсе не подпадают под общее понятие «птица», что повторение не может быть сведено к частным вариациям общего понятия. Тем самым как будто должно быть заявлено, что единство множественного недостижимо, что множественность несводима к единству, — во всяком случае так, как то мыслится в рамках пирсовской программы. Однако Делёз говорит о единстве бытия как единстве означаемого (см. выше): такое единство мыслится как единство внеположного нам мира, иметь единое понятие о котором для нас — по меньшей мере большая проблема, коль скоро это единое, дающее нам множественные чувственные восприятия, не подпадает под общее представление о нем. Насколько понятие «смысл», вводимое в этой работе, способно разрешить эту трудность, речь более подробно пойдет в конце Главы III и в Заключении, хотя этот вопрос служит по меньшей мере фоном всех размышлений.
2.3.13. Понятие смыслового континуума и перевод
Рассуждения в разделе 2.3 были начаты с вопроса: исполнима ли программа Фреге; возможен ли адекватный перевод с языка на язык, основывающийся на сохранении значения (референции) слов как отсылки к простому объекту? Или сама процедура присвоения значения должна каким-то образом быть «переплавлена», чтобы слова в тексте перевода смогли обладать правильным значением, тогда как простая подстановка слов, как будто обладающих теми же «простыми» (в данном случае — предметными, вещными) значениями, и их связывание согласно требованиям грамматики языка перевода не дает в переводе нужного значения? Отвечая на этот вопрос, мы убедились, что получить правильное значение «нагретость-воды» из арабской фразы байна ан-нар ва ал-ма’ нельзя до тех пор, пока мы не окажемся как бы «внутри» самой процедуры присваивания значения словам.
Но чем же в таком случае будет перевод, — если он возможен?
Чем может быть перевод? В чем, иначе говоря, мы можем надеяться обнаружить эквивалентность двух фраз, если это невозможно на уровне готовых значений, будь то лексических или грамматических?
Не будет ли перевод попыткой — приоткрыть ту бесконечную внутреннюю сложность любого смысла, даже такого, который обычно предполагается «простым»? Приоткрыть ее, показывая, как этот смысл «делается» благодаря процедурной связи с другими смыслами. Показывая, я бы сказал, его «смысловую историю». Конечно, в этом случае понятие перевода прямо смыкалось бы с понятиями «понимание» и «разворачивание» смысла.
Рассел как-то заметил, что для того, чтобы понять значение слова «сыр», надо его понюхать или съесть. Ко всем резонным возражениям ему — типа «понимаем же мы значения слов “амброзия” и “Бог”» — можно добавить: а почему не изготовить? продать? разрезать? ведь можно же спросить: а знаешь ли ты, что значит сделать-сыр? — и тогда не входит ли в значение слова «сыр» знание о молоке, из которого он изготовлен? о химических и физических процессах, происходивших при его вызревании? где тот критерий, который заставляет нас остановиться в определении значения слова «сыр» именно у грани «понюхать или съесть»? ведь переход от «сыра» к его «запаху» или «вкусу» предполагает и переход к его «материалу», «процессу изготовления» и т.д.
Представим себе смысловой континуум. То, что мы называем «смыслом слова», будет тогда соответствовать некоторому участку с этого континуального поля. Поскольку речь идет о смысле слова и пока ничего не утверждается о соответствии между словом и вещью, будем считать, что смысловой континуум — это континуум языкового смысла, на котором каждый смысл с представлен соответствующим словом языка. Поскольку речь идет о переводе, будем считать, что для арабского языка мы имеем Ка (смысловой континуум, представленный арабским языком), а для русского языка, или языка перевода, — Кр (смысловой континуум, представленный русским языком).
Пусть процедура полагания смысла, о которой шла речь, — это способ разметить смысловой континуум определенным образом, прочертив на нем возможные переходы между различными смысловыми участками. Тогда каждый участок будет имеет историю, которая показывает путь, ведущий к любому данному смыслу, равно как и от него. Поскольку в двух рассматриваемых нами языках применяются разные процедуры полагания смысла, разметка Ка не будет совпадать с разметкой Кр.
Предположим, что для одного из языков мы, в соответствии с требованием Фреге, установим соответствие внеязыковым объектам (вещам вi) и назовем такое соответствие «значением». Пусть этим языком будет язык оригинала. Это значит, что на Ка мы имеем соответствие саi«вi между смыслами, представленными для нас словами, и вещами мира; предположим для простоты, что такое соответствие взаимно-однозначное. Несколько слов-смыслов составляют выражение, которое мы хотим перевести; са1, са2, са3, са4 составляют выражение байна ан-нар ва ал-ма’. Можем ли мы установить соответствие са1«в1, са2«в2, са3«в3, са4«в4?
Очевидно, нет; очевидно, что может быть установлено только соответствие са2«в2 (нар«[огонь])[34] и са4«в4 (ма’«[вода]), тогда как са1 и са3 (байна и ва) соответствуют не вещам, но только отношениям между ними.
Как же в таком случае может быть выполнено требование Фреге к адекватному переводу? ведь очевидно, что, отправляясь от так установленных значений, мы сможем найти на Кр только ср2 и ср4 (благодаря соответствиям в2«ср2 и в4«ср4), чего явно недостаточно для перевода нашего выражения. Собственно, так устанавливаемого соответствия равным образом недостаточно и для понимания этого выражения: перевод лишь высвечивает особенности реального процесса понимания, так что понимание («осмысление») можно считать как бы переводом на «язык смысла».
Итак, помимо «объектных» значений са2«в2 и са4«в4 должны быть установлены значения «отношений», отсылающие от слов арабского языка саi к пред-стоящим, объективным отношениям оi: са1«о1 и са3«о3. Лишь установив такие соответствия, мы сможем найти также о1«ср1 и о3«ср3. Так мы достигнем искомой цели, переведя сai соответствующими русскими эквивалентами сpi благодаря установленной эквивалентности значений оi. Мы тогда будем иметь сai«oi«cpi, или, благодаря транзитивности «, сai«cpi.
Не обязательно утверждать, что на Кр эти о1 и о3 будут представлены целыми («отдельными») словами; тот факт, что в обсуждаемом русском переводе употреблены самостоятельные слова «между» и «и» как соответствие арабским байна и ва, был лишь случайностью: о1 и о3 могут быть представлены на Кр и чисто синтаксически, будучи «грамматическими значениями». Нас интересует не это. Нас интересует, в чем объективно представлены о1 и о3. Ведь без такой объективации са1 и са3 останутся, если использовать терминологию Фреге, «смыслами», а не «значениями», и установление соответствия между выражениями двух языков останется невозможным.
Если для са2 и са4 мы могли просто указать рукой на вещи [огонь] и [вода], тем самым объективировав их значения, то каким образом могут быть объективированы значения са1 и са3?
Вопрос может быть сформулирован по-другому. До сих пор мы рассуждали, предполагая, что вi и оi объективны, что они принадлежат тому, что мы называем «внешним миром», миром-вне-нас. Спрашивая, в чем мы находим о1 и о3 как значения для са1 и са3, мы тем самым спрашиваем, насколько оправдано понятие объективного внешнего, вполне пред-стоящего нам мира как объекта референции, необходимого для понимания рассматриваемой словесной структуры и ее последующего перевода на другой язык. Может ли понимание быть редуцировано к такой референции, или же в него неустранимо входит нечто, что не объясняется через внешнюю объективированность, предпосланную пониманию?
Следующее пояснение сделает этот вопрос более понятным. Если объективный мир предзадан нашему пониманию и никак от последнего не зависит, мы должны быть способны указать в нем нечто, что прямо соответствовало бы са1 и са3 и что мы обозначили как о1 и о3. Отличие моей постановки вопроса от аналогичных, встречающихся в литературе, состоит в том, что я не могу сослаться на интуитивную ясность са1 и са3, которые как бы «вычитываются» из самой конфигурации в2 и в4: рассуждая таким образом, обычно говорят, что отношения между вещами также могут служить «как бы» предметом референции, оставаясь неотъемлемыми от самих вещей. Чтобы этот тезис сохранил свою достоверность, подобное «вычитывание» в самом деле должно быть объективным, иными словами — однозначным. Суть моего исследования состоит в том, что такая однозначность ставится под сомнение. Я говорю, что «сама конфигурация» вещей в2 и в4 объективного мира (из которой мы как будто и вычитываем о1 и о3, которые затем отражаем в языке как са1 и са3) не может считаться объективной и независимой от нашего понимания, что она, следовательно, не принадлежит «объективному миру», во всяком случае, не принадлежит ему как абсолютно предзаданная нам. Рассматриваемые отношения формируются в процессе понимания, и то, какими они окажутся, зависит от логики смысла, руководящей этим процессом. Если это так, то мир, как он представлен нашему пониманию, не может считаться совершенно объективным; мир скорее — набор возможностей, которые реализуются нашим актом его понимания. Но любой акт следует одной из возможных логик смысла, и никакой — всем сразу. Это значит, что мир не схватывается в своей подлинной объективности никаким актом понимания. Если речь идет, как в нашем примере, о переводе результата одного акта понимания в форму другого акта понимания (переводе с языка на язык) и при этом оказывается, что эти два акта понимания опирались на разные логики смысла, перевод через приравнивание значений как нахождение единственного объективного референта во внешнем мире оказывается невозможным ни при каких допущениях. Именно это я и хочу продемонстрировать.
Очевидно, мы имеем две принципиальные возможности объективировать значения са1 и са3 и тем самым выполнить фрегевское требование к переводу.
Первая состоит в том, чтобы признать их «неотделяемыми отношениями» между вещами в2 и в4, то есть такими отношениями, которые всегда сопровождают вещи в2 и в4, но на которые никоим образом нельзя указать отдельно от вещей в2 и в4.
Однако в таком случае мы должны отказаться от возможности установить дискретные соответствия саi«вi. Ведь две вещи, в2 и в4, составят тогда в нашем мире неразложимый комплекс, так что только словесно мы будем иметь четырехэлементную структуру, тогда как на самом деле она будет соответствовать чему-то принципиально единому, в чем нельзя будет выделить четыре части (или три, две), — точно так же, как любое слово, указывающее на единичную вещь, состоит из нескольких букв, хотя мы вряд ли станем утверждать, что каждая отдельная буква указывает на что-то в этой вещи. В таком случае мы должны будем сказать, что можем установить только соответствие {са1, са2, са3, са4}«В между целостным выражением (байна ан-нар ва ал-ма’) и той вещью-мира, которую оно обозначает. В таком случае В, очевидно, будет воплощать в себе результат соотнесения того, что мы обозначали как в2 и в4, но, поскольку дискретные соответствия саi«вi мы установить не смогли, мы не можем ничего сказать о том, каково это соотношение. Это как раз и будет означать невозможность сложного описания мира, в котором понимание целого соотносилось бы с пониманием отдельных частей. Это значит, далее, что мы должны будем зафиксировать в словаре значение {са1, са2, са3, са4}«В, и непонятно, не окажется ли в конечном счете любое выражение языка элементом такого словаря, поскольку всякое выражение, по-видимому, не может не включать в себя подобные отношения. Вряд ли такой подход удовлетворит нас, как вряд ли он покажется приемлемым тому, кто хочет показать выполнимость фрегевской программы перевода: для любой сложной структуры придется устанавливать ее собственное, простое значение, никогда и никак не сводящееся к значениям входящих в нее вербальных единиц и принципиально не соотносимое с ними.
Вторая возможность объективировать значения са1 и са3 заключается в том, чтобы признать отношения о1 и о3 отдельными, а точнее, отделяемыми от вещей в2 и в4. Поскольку мы не можем найти «вещное» соответствие для о1 и о3, нам остается только утверждать, что эти отношения обладают статусом объективной реальности, но на них, в отличие от вещей, мы указываем не остенсивно, а с помощью некоего отражающего их языка. Важно, что этот язык не является ни языком оригинала, ни языком перевода, но одинаково относится к ним обоим.
В самом деле, отношения между вещами не являются самими вещами; они не являются тем, на что мы можем указать рукой. Можно научить собаку отличать три от пяти; но как научить ее тому, что пять больше трех? На «больше» нельзя указать, как нельзя указать на «между» и «и». Но мы понимаем, что значит «больше» и «меньше», «между» и «и». Более того, мы понимаем (или предполагаем, что понимаем), что «между» и «и» означают то же, что байна и ва. Это значит, если рассуждать вслед за Фреге, что есть нечто, что одинаково относится к этим парам слов русского и арабского языков, что одинаково объективно по отношению к ним. Но если это не вещь, то это — некий «язык». «Язык», интуитивно понятный, схватываемый и воспринимаемый, как мы интуитивно схватываем и воспринимаем вещи. В таком случае мы объективируем значения са1 и са3 (напомним, это арабские слова байна и ва), назвав их на некоем метаязыке, который объективен для са1 и са3, то есть элементы которого составляют значения для са1 и са3, позволяя нам перейти к ср1 и ср3 как своим эквивалентам, причем эту эквивалентность мы устанавливаем именно благодаря обоюдному соответствию такому метаязыку.
Каким должен быть подобный язык? Совершенно очевидно, что он не может содержать элементов, которые имели бы собственные значения, требуя для своего понимания отсылки к чему-то внешнему, поскольку в таком случае он потерял бы свой статус «объектности». Такой язык должен давать возможность «прямо» схватить отношение, выступая своего рода аналогом остенсивного определения, «прямо» указывающего на вещь. Это должен быть именно язык, а не просто некий комплекс ментальных представлений об отношениях, поскольку только объективность такого языка позволила бы удостоверить его равное отношение к языку оригинала и языку перевода, благодаря чему он и выражал бы значения их слов саi и срi. Однако нет, кажется, никакой необходимости специально демонстрировать тот факт, что таким языком мы не обладаем.
Сказанное означает, что, принимая проблему установления значения всерьез, то есть избегая в ее решении ссылок на что-либо типа интуитивной ясности или непосредственного схватывания, мы не можем показать исполнимость фрегевского требования к переводу. Между тем это требование выглядит вполне обоснованным, а перевод оказывается реально осуществимым. Не исключено, что этот комплекс парадоксов имеет единую причину и, следовательно, единое решение. Мне уже предоставилась возможность указать на нее, когда я говорил о понятии внешнего объективного мира. Если мир — только комплекс возможностей, реализуемый по-разному в разных логиках смысла, то подлинный перевод для языков, отражающих такие разные логики смысла, не опосредуется отсылкой к чему-то внешнему, субстанциально-фиксированному и потому объективному (как это обычно полагают). Поскольку такая внешняя субстанциальная фиксированность — лишь фикция, подлинное решение загадки перевода еще только должно быть найдено. Я здесь ограничиваюсь постановкой этого вопроса и демонстрацией неудовлетворительности его традиционных решений. Собственную позицию я смогу предложить только в Главе III, к которой и отсылаю заинтересованного читателя.
2.4. Независимость процедур смыслополагания от отражающих их слов
2.4.1. Уточнение метода контрастного понимания
Во Введении я говорил, что собираюсь в этом исследовании применить метод «контрастного понимания». Суть его состоит в том, что сравнение наших герменевтических ожиданий с тем, что в действительности предполагается иной культурой, нежели родная для исследователя, дает возможность заметить на их контрасте те моменты процесса понимания, которые в иных случаях оказываются скрыты, не выступая на поверхности, либо просто не имеют шансов привлечь внимание. Этому методу я и следовал до сих пор, сравнивая наше ожидание понимания словесных структур, включающих слово «между», с тем их действительным пониманием, которое предполагается классической арабской культурой.
Метод контрастного понимания, таким образом, отталкивается от сравнения действительного смысла, как он сформирован изучаемой культурой, и нашего герменевтического ожидания и спонтанного процесса осмысления, которые имеют место при столкновении с феноменами этой культуры. Но этим он, конечно, не исчерпывается. Будь так, этот метод скорее должен был бы быть назван психологическим.
Я использую наши неосознанные ожидания, контрастирующие с действительным положением дел, только как подсказку, только как совет обратить внимание на что-то важное. Весь вопрос в том, составляет ли то, что вызвало наше удивление, наше замешательство при восприятии того или иного смыслового инокультурного феномена, действительный контраст с нашей культурой или нет. Лишь постольку, поскольку мы способны продвинуться от спонтанного ощущения контраста, возникающего в момент такого восприятия, к его рефлексивному осознанию, поскольку мы способны вывести его на свет и представить объективно, сформулировав проблему контраста понятийно, — лишь постольку этот метод может претендовать на статус метода философского исследования.
Однако не всякое ощущение контраста, возникшее спонтанно при столкновении с чужой культурой, переживет такую проверку рефлексивностью. Поэтому я и говорю, что лишь действительный контраст интересует меня: только то, что в самом деле составляет несводимые и неуничтожимые «зазоры» в процедурах осмысления, полагающие их как одноуровневые (не соподчиненные как «более истинные» и «менее истинные», как «логические» и «дологические», но вместе с тем и не рядоположенные в отсутствие объективного критерия истины, как то подчас предполагает постмодернистское мышление, представления о сходстве с которым мне более всего хотелось бы избежать) и вместе с тем не совпадающие (как не совпадают параллельные линии на одной плоскости, каждая из которых ничуть не менее «линия», чем другая). Суть метода контрастного понимания, поскольку речь в самом деле может идти о методе, состоит в том, чтобы, во-первых, обнаружить случаи контраста, во-вторых, выделить из всей массы психологически оправданных спонтанных ощущений контраста только те, что сохранят свою оправданность при их объективации в нашем понятийном обсуждении, и, в-третьих, обсудить все следствия таких рефлексивно-оправданных случаев контраста.
Первый этап применения этого метода вряд ли может быть формализован. Трудно представить себе алгоритм поиска случаев контраста двух культур, который можно было бы применить независимо от вкуса и интуиции исследователя: как в любом другом случае, этот этап сбора опытных данных почти целиком зависит от прилежания или даже удачи ученого. Вместе с тем можно предполагать, что случаи контраста скорее всего будут замечены там, где так или иначе затрагиваются вопросы пространственно-временных отношений, единства и множественности, противоположности и тождества, модусов наличия вещи, — вопросы, выстраивающиеся вокруг тех отношений, которыми конституирована логико-смысловая конфигурация.
Что касается второго этапа, то есть выделения случаев действительного контраста из всей массы психологически-оправданных, то здесь можно предложить следующий подход к его понятийному обсуждению. Обратимся, как мы это делали во Введении (см. пункт III.), к понятию «100%-но компетентного исследователя» и будем понимать под ним такого гипотетического арабиста-историка философии, который абсолютно владеет всем материалом изучаемой традиции, хотя сам принадлежит «нашей» культуре. Представим себе, что такой исследователь имеет дело с текстами, представляющими классическую арабскую философскую и в целом теоретическую мысль. Будет ли 100%-ной содержательной компетенции достаточно, чтобы объяснить смысловые нюансы текста, прояснив основания спонтанно возникшего ощущения контраста, или есть какой-то иной класс контрастов, которые не поддаются объяснению через указание на содержательные моменты?
Только в том случае, если такой класс контрастов имеется и может быть выделен, можно говорить о действительном контрасте культур, который не сводится к различиям в случайно или специфично сформировавшемся содержании.
Теперь, пожалуй, стоит привести примеры того и другого типа контраста, чтобы сделать метод контрастного понимания более понятным, а его применение — более легким.
К разряду удивления, которое может быть легко развеяно тем, что было названо 100%-ной содержательной компетентностью исследователя, относится, например, удивление полярной противоположностью коннотаций холода и жара в «нашей» и арабской культурах. Если у нас пророку «во грудь отверстую» водвигается «угль, пылающий огнем», то мухаммедово сердце, напротив, охлаждается на блюде со льдом, после чего он постигает всю мудрость. Если мы «горим» чувствами, имеющими если не исключительно, то все же преимущественно положительные коннотации (огонь жизни — холод смерти, огонь любви — леденящее оцепенение ужаса, т.д.), то в арабской культуре «прохлаждение» и «охлаждение» связано с положительными эмоциями и событиями. Когда Бог, как мы узнаем из хадисов, возложил свою длань на спину Мухаммеда, тот почувствовал, как его пронизал холод, дошедший до груди, — и тогда постиг полноту мудрости.
Такие контрасты при всей своей яркости оказываются исключительно содержательными — в том смысле, что они вполне могут быть разъяснены с помощью некоторой суммы позитивного знания. В данном случае нам достаточно узнать, что для араба жар солнца ассоциируется с испепеляющим духом пустыни и смерти, а прохлада воды — с жизнью, чтобы вполне объяснить этот контраст. Удивление, которое мы испытываем, узнавая, что пронзивший Мухаммеда (как мы бы сказали, пробравший его «до костей») холод стал причиной его совершенномудрия и что проистек он от божественной длани, возлежавшей на его спине, которая вместо того, чтобы отечески согревать или источать свет, едва не заморозила пророка ислама, — удивление это вызвано только недостатком нашего знания о климатических реалиях родины ислама, которое, накладываясь на наши ожидания (а ожидания эти сформированы нашей культурой) и контрастируя с ними, и производит эффект неожиданности и странности. Поэтому эффект этот сойдет на нет, удивление будет легко устранено, а контраст с нашими ожиданиями уже не будет нас смущать, как только мы постигнем необходимые в данном случае реалии: условием полного понимания является содержательная компетентность.
Но есть и другой тип контраста — тот, что не будет развеян 100%-но содержательно компетентным исследователем. Этот тип контраста я называю процедурным, поскольку он является следствием применения различных процедур смыслополагания в разных культурах ввиду различия тех логик смысла, на которые они опираются. Такой контраст так или иначе отражает несовпадение процедур полагания смысла — либо прямо, либо косвенно; и ровно настолько, насколько он зависит от такого несовпадения процедур, он останется контрастом, несмотря на сколь угодно большой прирост позитивного знания об изучаемой культуре. Именно этот тип контраста и интересует логико-смысловую теорию.
Я приведу два примера подобного контраста, используя материал хадисов — одного из наиболее типичных и характерных элементов традиционной исламской вербальной культуры. Конечно, я понимаю, что утверждение о том, что данные примеры контраста сохранятся несмотря на любое увеличение позитивного знания, может быть только фальсифицировано (в смысле Поппера), но не верифицировано. Я буду ждать такой фальсификации от тех, кто хотел бы доказать ошибочность моих посылок. До тех пор мой тезис представляется мне вполне обоснованным, тем более что он стал результатом достаточно длительных размышлений и неудачных попыток найти какое-то содержательное объяснение приводимым мной примерам. Читатель увидит также, что контраст назван процедурным еще и потому, что возникающее удивление очень хорошо разъясняется указанием на особенности процедур полагания смысла, характерных для арабской культуры.
Приводимые ниже примеры отражают вместе с тем существенные особенности логико-смысловой конфигурации, как она выстраивается в той логике смысла, что характерна для классической арабской культуры.
2.4.2. «Вода и глина»
2.4.2.1. Ночь предопределения
В истории ислама есть несколько знаменательных дат, относящихся к периоду его зарождения. Одна из них — дата хиджры, переезда Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину, в результате чего возникла исламская община — умма, которой, согласно исламским представлениям, суждено существовать до конца времен. Интересно, что это общественно-политическое, то есть чисто человеческое событие фактически перевесило по значимости другое, которое скорее можно назвать божественным — начало откровения Корана (то есть, согласно мусульманским представлениям, предвечной Божьей речи) пророку ислама: первое, а не второе принято в качестве начала мусульманского летосчисления. Более того, вторая дата даже не установлена точно: Мухаммеду было дано забыть, в какой именно день произошло это эпохальное событие. О той ночи, когда началось ниспослание Корана и которая именуется в исламской традиции лайлат ал-кадар «ночь предопределения», и повествуют многочисленные хадисы.
Хотя ни Мухаммед, ни сопровождавшие его в ту ночь сподвижники не сохранили в памяти точную дату события, они прекрасно запомнили сопутствовавшие ему обстоятельства. В описаниях ночи предопределения практически во всех многочисленных редакциях хадисов, фигурирующих в разных сборниках, встречается один момент. В ту ночь шел сильный дождь и земля размокла. Нетрудно догадаться, что в результате образовалась грязь. Как названа эта грязь? — вот вопрос, который будет нас интересовать[35].
Абу Са‘ид ал-Худри[36] сказал: «Пророк Божий (да благословит и приветствует его Бог!) предавался бдениям в среднюю декаду рамадана. Прошел год. И вот в ночь двадцать первого [рамадана], — а утром после этой ночи он заканчивал свои бдения, — он сказал: “Кто предавался бдениям со мной, пусть предается им и в последнюю декаду. Мне была явлена эта ночь, а потом было дано забыть ее. Я видел, как коленопреклоняюсь в воде и глине (фи ма’ ва тин) утром после той ночи, так что чайте ее в последнюю декаду, и чайте в каждый нечетный день (витр)”. А в ту ночь прошел дождь. Мечеть располагалась в шалаше и потому дала течь. И вот очи мои узрели пророка Божьего (да благословит и приветствует его Бог!), а на лбу его — следы воды и глины (’асар ал-ма’ ва ат-тин). Было это утром двадцать первого числа» [Бухари, 1887[37]; выделено мной. — А. С.] .
В другом месте:
Абу Салама сказал: «Я спросил Абу Са‘ида ал-Худри[38], и тот сказал: “Набежало облачко, пошел дождь, и крыша прохудилась, — а была она сделана из пальмовых ветвей. Началась молитва, и я увидел, как пророк Божий (да благословит и приветствует его Бог!) простирается ниц в воде и глине (фи ал-ма’ ва ат-тин), так что и на лбу его я увидел след глины (’асар ат-тин)”» [Бухари, 629; выделено мной. — А. С.].
Эти хадисы имеют немало параллелей, в которых употребляется интересующее нас выражение (нет смысла приводить их все здесь), а в некоторых сборниках есть даже «глава о простирании ниц в воде и глине» (баб ас-суджуд фи ал-ма’ ва ат-тин).
Размышляя обо всех этих свидетельствах традиции, вчитываясь в эти тексты, нельзя не заметить следующего. Хотя редакции хадисов различаются, и подчас весьма существенно, интересующее нас выражение («в воде и глине», «вода и глина») неизменно употребляется в них. При этом рассматриваемые здесь хадисы имеют одну существенную особенность, отличающую их от текста, с разбора которого я начал эту главу и к свидетельству которого то и дело возвращаюсь. Если там выражение «между огнем и водой» занимало центральное место, будучи логическим средоточием текста и представляя собой собственно содержание предсказания астролога, вокруг которого построена интрига рассказа, то здесь аналогичное «в воде и глине» вовсе не составляет никакого центра рассказа, поскольку является лишь выражением одной из деталей памятной «ночи предопределения» и служит описанию того факта, что вследствие ливня пророку пришлось молиться в грязи, так что и на лбу его остались темные потеки. Но само это описание, безусловно, совершенно однозначно. И дело не только в тексте хадисов или логике построения истории. Дело еще и в том, что хадисы должны по самой своей сути быть максимально ясными. Их прояснению служат различные приемы, применяемые классическим хадисоведением. В числе главных можно назвать два: сравнение разных версий одной и той же истории и комментирование всех сколько-нибудь двусмысленных или только могущих показаться таковыми мест. Что традиция очень внимательно относилась к тексту хадисов и филологически скрупулезно толковала их, известно любому исламоведу[39]. В этой связи представляется значимым тот факт, что слова «в воде и глине» совершенно не привлекают внимание комментаторов хадисов, — а так они относятся только к тем выражениям, которые филологически однозначны и не составляют трудность для истолкования, не говоря уже о том, чтобы представлять собой какую-то загадку.
Таким образом, мы получаем дополнительное независимое свидетельство в пользу того, что выражение «вода и глина» не является загадкой для арабского языкового мышления, опирающегося на характерную для классической арабской культуры логику смысла. Говоря о контрасте «нашего» и собственного (классического арабского) пониманий истории о предсказании астролога, мы видели его, в частности, в том, что «наше» понимание стремится найти в словах «между огнем и водой» неясность филологического свойства, смысловую неопределенность, создающую таинственность. Мы сказали тогда, что если принять гипотезу о том, что понимание смысла используемых в том или ином языке слов зависит от той процедуры смыслополагания, на которую опирается этот язык, и если считать, что для классической арабской культуры характерна своя логика смысла, отличная от «нашей», слова «между огнем и водой» будут восприняты иначе, не как загадка. В разбираемом примере мы видим подтверждение этого тезиса. Выражение «в воде и глине» с языковой точки зрения ничем не отличается от выражения «между огнем и водой» (вспомним заодно свидетельство словарного аргумента: «между» в арабском языке должно означать «в том и другом», «в соединении того и другого»), и, поскольку здесь оно воспринимается самой традицией как совершенно однозначное, это говорит в пользу того, что и в первом случае выражение «между огнем и водой» должно считаться таковым — с точки зрения, повторю, классической арабской культуры. Между тем для нас оба выражения представляются равно неестественными, такими, в которых отсылка к объекту внешнего мира выстроена каким-то весьма непривычным для нас образом, так, что нам хотелось бы ее перестроить.
Это возвращает нас к понятию контраста: как представляется, в данном случае мы имеем дело не с содержательным, а с процедурным контрастом, таким, который не устраняется наращиванием позитивного знания об арабской культуре или арабской филологии, но который требует обращения к положениям логико-смысловой теории относительно процедур формирования смысла. Даже если применить словарный аргумент и сказать, что Мухаммед молился «в соединении воды и глины», обсуждаемое выражение не покажется более гладким или понятным, оно по-прежнему сохранит свою неестественность. Ведь «грязь» — то, в чем мы не различаем воду и глину, а потому вряд ли считаем ее таким их соединением, которое позволяет указывать на каждое из них в отдельности. Дело здесь опять-таки в обсуждавшихся выше представлениях о субстанциальной самостоятельности соединяемого, которые незаметно для нас привносятся в «наше» понимание благодаря «нашей» логике смысла. С «нашей» точки зрения, «грязь» — некая простая субстанция, простой объект референции языкового знака (каковым, кстати, служит и «раствор» в обсуждавшемся выше хадисе про Мухаммеда и сотворение Адама), и так на нее и следовало бы указывать, тогда как указание «воды и глины», с «нашей» точки зрения, является сложным указанием, указанием, «сложенным» из указания на воду и указания на глину. Чтобы понять выражение «в воде и глине» как простое указание, нам придется применить тот прием, который был описан выше и который предполагает переход к логике смысла, характерной для классической арабской культуры и позволяющей именно так понять обсуждаемое выражение. Поскольку подобная смена логики смысла не может произойти подсознательно, спонтанно, я и говорю о необходимости вывести на свет предпосылки, руководящие формированием смысла в ее пределах и предопределяющие существенные моменты понимания языкового знака. Только в том случае, если мы будем понимать соединение воды и глины так, как это описано выше (см. Глава I, § 2.2.1.3. Понимание «между» в альтернативной логике смысла), а само выражение — как указывающее на утверждаемый в таком соединении смысл, мы достигнем искомой цели.
Помимо подтверждения выдвигавшихся выше тезисов о логике смысла и ее роли в формировании смыслового содержания, о комплексном характере вопросов, поднимаемых в связи с соотношением смыслов в пределах логико-смысловой конфигурации (модус их наличия: «бытие» или «утвержденность», характер единства и его отношения к собственной множественности, соотношение между противоположностями и их характер, т.д.), о возможности понимания одной и той же языковой структуры в разных логиках смысла и, соответственно, ее разном содержательном наполнении, о том, что словарный аргумент не преодолевает ограничений, налагаемых характерной для данной культуры логикой смысла на процедуру понимания языкового выражения, и что в этом смысле гипотеза языковой относительности бьет мимо цели[40], — помимо подтверждения этих тезисов, разбираемый здесь пример демонстрирует еще одно положение. Оно не менее важно, но до сих пор я не имел возможности отчетливо сформулировать его, хотя оно и предполагалось всем ходом рассуждений. Это положение гласит, что процедура смыслополагания не зависит от тех слов, которые ее как будто отражают.
Если в примере, с которого я начал эту главу, фигурировало выражение «между», то здесь мы имеем обычное «и». Однако дело от этого не меняется: и в том и в другом случае применяется одна и та же процедура смыслополагания (если оба выражения понимаются в соответствии с логикой смысла, характерной для классической арабской культуры). И напротив, и «между», и «и» как таковые, как собственно языковые знаки могут быть поняты по меньшей мере двояко — в соответствии по меньшей мере с двумя процедурами смыслополагания. В каждом из этих двух случаев будут применены свои процедуры формирования смысла, зависящие от тех предпосылок относительно соотношения и статуса конфигурируемых смыслов, которые принимаются вместе с соответствующей логикой смысла.
2.4.2.2. Рай для избранных
Хотя, согласно мусульманской традиции, Мухаммед не более чем человек и ему не подобают никакие почести, которые могли бы навести на мысль о его не человеческой, а божественной природе (скрытая полемика с христианством тут налицо), тем не менее сама его избранность как рупора божественного откровения уже предполагает какие-то особые черты. В числе их — и то, что он мог предвещать загробную участь людей еще при их жизни. Мухаммед проявил эту свою способность в отношении многих сподвижников; нас заинтересует хадис, в котором речь идет о первых халифах, именуемых в традиции «праведными».
Со слов Абу Мусы передают, что однажды он находился вместе с пророком (да благословит и приветствует его Бог!) у одной из городских стен. Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) держал прутик и бил им между водой и глиной (байна ал-ма’ ва ат-тин). Некий муж попросил впустить его. Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Впусти его и обрадуй известием, [что ему уготован] рай». Я пошел [чтобы открыть], смотрю — а это Абу Бакр. Я открыл ему и обрадовал известием о рае. Потом постучал еще один человек… [Бухари, 5748][41]
Этот хадис имеет многочисленные параллели, из которых отметим только те, текст которых содержит выражение «между водой и глиной»: [Муслим, 4416] (Мухаммед «втыкает прутик между водой и глиной»), [Ибн Ханбал, 18814] (Мухаммед бьет прутиком «между водой и глиной»).
К этой истории вполне применимо все то, что было сказано относительно предыдущего хадиса. Мухаммед, конечно же, в задумчивости постукивал прутиком по грязи, образовавшейся после дождя, и именно так следует понимать выражение «между водой и глиной»; как такое понимание может быть достигнуто, говорилось чуть выше. Этот хадис, как и предыдущий, является примером процедурного контраста, не сводимого к позитивному знанию об изучаемой традиции: только фундаментальная перестройка процедуры понимания позволяет устранить ощущение неловкости, невольно сопровождающее «наше» понимание этого текста.
Однако я привожу здесь этот хадис не только как дополнительную иллюстрацию правильности и применимости высказанных тезисов. К месту оказывается и классический комментарий к нему. Он показывает, насколько традиция внимательна к малейшим нюансам смысла, которые могут показаться нам незначительными; это иллюстрирует высказанный выше тезис о скрупулезности комментариев к хадисам. Но выражение «между водой и глиной» здесь никак не комментируется, и тому есть только одно объяснение: оно представляет собой ясное языковое указание и не содержит в себе ничего загадочного для представителя традиции. Это — дополнительное подтверждение принципиальной ошибочности «нашего» восприятия, которое склонно видеть в подобных выражениях, как мы убедились на примере предсказания астролога, источник смысловой неопределенности. Комментарий интересен и тем, что показывает прямую эквивалентность выражений, использующих байна «между» и фи «в», причем отсутствие комментариев по поводу такой замены формулировки также демонстрирует ее безусловную допустимость. Это еще раз свидетельствует в пользу того тезиса, что речь вовсе не идет о непривычном для нас значении слова байна «между», как хотели бы объяснить дело сторонники словарного аргумента. Вместо него могут стоять и фи «в», и даже простое ва «и»: дело не в их значениях, а в том, какие пространственно-временные интуиции относительно сополагаемых смыслов они предполагают. А это определяется никак не словарем, но той логикой смысла, на которую опирается мышление данной культуры.
Комментарий (Фатх ал-бари би-шарх Сахих ал-Бухари) к [Бухари, 5748]:
Это — хадис Абу Мусы в рассказе про бордюр колодца[42]. Он ясен, а его комментарий уже приведен в книге «Достохвальные черты» (ал-Манакиб)[43]. Здесь он его приводит в редакции «…прутик и бил им между водой и глиной». В редакции ал-Кашмайхани(?) сказано «в (фи) воде и глине», причем он передает это словом йанкут «разгребал»[44]. …Ибн Ба(?)ттал говорит: «У арабов вошло в привычку держать палку и опираться на нее во время разговора либо в иных случаях. Это им ставят в упрек некоторые сторонники персов и других неарабов (‘аджам). Однако пророк (да благословит и приветствует его Бог!) имел все основания воспользоваться ею: здесь этот прутик — как будто посох, на который пророк (да благословит и приветствует его Бог!) опирается, хотя тот и не упомянут прямо в хадисе». Суть этого разъяснения сводится к тому, что таковое не считается осуждаемым суетным занятием (‘абс мазмум), поскольку так поступает человек, наделенный разумом, когда задумается о чем-то. Кроме того, это действие не наносит вреда, как было бы, если бы человек задумался, держа в руке нож, и стал бы втыкать его в дерево и портить постройку; вот это — осуждаемое суетное занятие.
2.4.3. Переводимость «явное-скрытое»
Правильное понимание текстов, представленных двумя вышеприведенными хадисами, достигается благодаря изменению наших представлений о статусе конфигурируемых смыслов («вода» и «глина»). Понятие их статуса включает, как мы видели, различные аспекты, которые имеют комплексный характер и немыслимы один без другого. Теперь мне хотелось бы привести хадис, который указывает на особенность отношения захир-батин «явное-скрытое». Она состоит в том, что «явное» и «скрытое» должны переводиться друг в друга, достигать своей эквивалентности на той области, где в их конфигурировании и возникает новый смысл (не содержащийся ни в том ни в другом как таковых), хотя и остаются сами собой, то есть противоположными друг другу, «явной» и «внутренней» сторонами вещи за пределами этой области совпадения. Возможность мыслить такое совпадение противоположного и составляет в конечном счете суть рассматриваемой нами логики смысла, на которой основываются процедуры понимания в классической арабской культуре.
Мне представляется, что эта особенность захир-батин-отношения иллюстрируется текстом следующего хадиса, повествующего об особенности райских чертогов, в которых будет дано обитать праведникам. Нас заинтересует вопрос о том, как выражена особенность, отличающая эти чертоги от жилищ, что известны человеку на земле, и в чем, таким образом, состоит их главная черта.
Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «В раю есть покои (гураф), коих внешнее видно изнутри, а внутреннее — снаружи (тура зухуру-ха мин бутуни-ха ва бутуну-ха мин зухури-ха)». Какой-то араб встал и спросил: «А кому они принадлежат, о пророк Божий?» Тот ответил: «Тем, кто вел добрую речь, не скупился на угощение, длил пост, а ночью, когда люди спят, молился Богу» [Тирмизи, 1907].
Хадис имеет многочисленные параллели, среди которых интересующее нас выражение встречается в следующих: [Тирмизи, 2450], [Ибн Ханбал, 1268, 6326[45], 21831].
Как видим, отличительный признак крайне привлекательных, прекрасных и избранных мест в раю состоит в такой «прозрачности» отношения «явное-скрытое» (захир-батин-отношения), при котором не составляет никакого труда по одному узнать другое. Создается ощущение, что в такой переводимости, в такой «узнаваемости» одного по другому и состоит высший идеал этой культуры. О том, что это ощущение не вполне беспочвенно и находит, по всей видимости, свою опору в основаниях исламской эстетики и особенностях понимания красоты в классической арабской культуре, я не могу здесь подробно говорить, поскольку этот тезис требует обстоятельного исследования, которое я вынужден отложить до более удобного случая. Но уже здесь можно видеть, что этими особенностями предопределен тот факт, что стройность (выразимся именно так) конфигурируемых смыслов (неотличимая, кстати говоря, от правильности построения такой конфигурации, то есть ее истинности) заключается не в последнюю — а может быть, и в первую — очередь именно в том, что они допускают взаимный перевод, который возможен благодаря их совпадению на области некоего смысла, в таком совпадении и возникающего. С этой точки красивое — там, где утверждаемый в таком взаимном переводе смысл является подобным совпадением «явного» и «скрытого» (ведь именно в этих терминах осознаются в классической арабской культуре смыслы, противопоставленные друг другу как таковые, но совпадающие на области своего взаимного перевода). Здесь, как представляется, мы имеем дело с проявлением этого принципа, которое тем интереснее, что выражено оно крайне отчетливо и кратко. Отметим вновь, возвращаясь к понятиям «содержательного» и «процедурного» контрастов, что этот хадис не может не казаться нам странным: что же хорошего в таком необычном жилище, в котором никак не укрыться от внешних глаз? И зачем видеть внешние стены дома, находясь внутри, или внутренние, находясь снаружи? Единственный доступный нам комментарий не развеивает нашего недоумения:
Комментарий (Тухфат ал-’ахвази би-шарх джами‘ ат-Тирмизи) к [Тирмизи, 1907]:
«В раю есть покои»…[46] то есть горницы (‘алалийй[47]), исключительно тонкие, крайне чистые и убранные, …«коих внешнее видно изнутри, а внутреннее — снаружи» в силу того, что они прозрачны и не заслоняют того, что позади их…[48]
«Прозрачность» и «незаслоненность» отношения между явным и внутренним оказывается здесь как будто самоценным моментом, который говорит сам за себя и свидетельствует о непревзойденной стройности вещи, которая обладает таким свойством.
2.5. Как строить сравнительные исследования и как понимать разнообразие сравниваемого, или еще раз по поводу старого вопроса о том, «что такое философия?»
Какие следствия вытекают из рассмотренных основоположений логики смысла для понимания методологии сравнительных исследований, которые стремятся сделать своим непосредственным предметом разнообразие культур и формируемых в них способов отношения к миру?
Обратим внимание: «словарный аргумент» не сработал в разбиравшихся случаях. Знаменательно, что он почти срабатывает, никогда, однако, не переступая этой черты, за которой стал бы действительным аргументом. Я говорю о рассмотренных примерах, но то же верно и для других, о которых речь впереди. «Словарное» объяснение оказывается замечательно близким к истине, и, если очень хотеть увидеть в чужой культуре «то же», что так знакомо по собственной, эту близость нетрудно принять за совпадение, не обращая внимания на ту малость, что отделяет одно от другого. Такое желание может быть результатом общетеоретической установки (универсальное прежде специфического, специфическое только как вариант универсального) или просто вполне понятного стремления найти наиболее простое объяснение встречаемым феноменам. Огромным давлением этих установок и малостью различия, сопротивляющегося тотальной универсализации, и объясняется факт удивительной «дальнозоркости» историко-философских исследований, во всяком случае, в области истории арабской философии. Дальнозоркое объяснение отмахивается от того, что так назойливо мельтешит перед глазами, зато оно способно видеть ничем не замутненную перспективу общечеловеческого единства философии и мышления. Конечно, такая позиция характерна отнюдь не только для исследователей арабской философии и уж тем более не ими выработана и отшлифована. Даже исследователи и философы, по-видимому ставящие во главу угла тезис об отсутствии универсальности и, более того, о выдуманности и навязанности представления о ней, с удивительной настойчивостью призывают нас увидеть все ту же единую перспективу. Вероятно, дело тут в каких-то факторах, определяющих западное мышление настолько, что даже сознательно формулируемый отказ от тезиса об универсальности не позволяет исключить из базиса теорий «общечеловеческую универсальность», понимаемую в любом случае содержательно — то ли как «принципы» (конечно же, зафиксированные в своей содержательности), то ли как «ценности», то ли, в случае прямого отказа от навязывания такой содержательности, как «общечеловеческая интуиция».
В докладе, посвященном возможности «космополитического» взгляда на философию как на международный институт, Ж. Деррида призывает нас осмыслить универсальность философии, преодолевая устаревшее и весьма надоевшее «противопоставление европоцентризма и анти-европоцентризма». Он пишет, что
одним из условий достижения этого — а этого не достичь одним махом, это будет результатом длительного и неспешного, уже начавшегося исторического усилия — является отчетливое осознание того факта, что философия не более определяется своей программой, своим особым терминологическим или же обыденным языком, возвращения памяти о котором было бы достаточно для того, чтобы открыть конечный пункт ее движения, не более определена своим генезисом или предопределена им, нежели является безусловно, сама собой или вне всякой связи космополитичной или всеобщей. Мы оказываемся свидетелями — и хотели бы видеть это и в будущем — того, как философское различным образом усваивается и претворяется в неевропейских языках и культурах, причем это не сводится ни к классическому способу усвоения, который состоит в том, чтобы сделать своим то, что принадлежит другому (в данном случае — вобрать в себя философскую память Запада и усвоить ее средствами собственного языка), ни к изобретению новаторских форм мысли, чуждых какому-либо усвоению и оттого теряющих всякую связь с тем, что, как мы считаем, мы понимаем под словом философия [49].
Деконструкция — продолжение кантовской критики. Критическое отношение к самой критике, подвергающее ее вопросу: выдерживает ли она саму себя, отвечает ли собственным требованиям?
Как таковое это отношение предполагает рефлексию. Отношение Ж. Деррида к поднимаемым им вопросам безусловно рефлексивно. Собственно, рефлексия по поводу основания предпринимаемого действия составляет стихию его мысли.
Почему тогда столь некритичен и нерефлексивен Деррида в этом определении философии, строящемся на вере в способность узнать философское в любой культуре? Почему он столь некритичен в оценке границ досягаемости своей критики?
Рефлексия невозможна без чего-то, что служит как бы зеркалом для нас самих. Без того, чтобы объективировать себя и отнестись к себе как к внешнему. Но этот акт так навсегда и останется мюнгхаузеновским подвигом, если на помощь в этом предприятии не придет что-то внешнее. Таким внешним может служить только опыт.
Пределы нашей рефлексии — это пределы нашего опыта. Что-то должно определить направление нашего взгляда. Рефлексия начинается тогда, когда наши ожидания не сбываются. Тогда мы оставляем себя вовне и смотрим на себя же новыми глазами.
Опыт несбывшихся ожиданий — вот что руководит рефлексией и служит стимулом для нее. Отсутствие соответствующего опыта ведет и к отсутствию рефлексии. Тому, что говорит Деррида, просто не хватает серьезного опыта прочтения инокультурных традиций, который заставил бы его пересмотреть основания выражаемой им уверенности. В этом смысле можно говорить о том, что опыт чтения текстов чужой культуры дает основания для расширения рефлексивного отношения к основаниям собственной.
Отрицая «программную обусловленность» философии и тем самым как будто отказываясь от априорного ограничения понятия «философия», Деррида вместе с тем не может обойтись без ссылки на интуитивное «узнавание» того, что на самом деле является философией, а что нет. И дело не только в позиции Деррида, дело в самой, многократно воспроизводимой разными философами и исследователями, логике движения мысли, для которой отсутствие содержательной определенности означает уже и отсутствие всякой определенности, так что единственным, что удерживает нас от нежелательного окончательного размывания понятия «философия», остается отсылка к «интуитивному пониманию». Однако не окажется ли философ, столь уверенный в своей способности узнать, отвечает или не отвечает его ожиданиям то, что он видит в чужой традиции, в положении неудачливого толкователя предсказания астролога, столь безошибочно понявшего, что остерегаться надо именно берега между рекой и кострами и «тому подобных мест»? А потому — не является ли на самом деле условием подлинного понимания и чужой «философии», и, в связи с этим и на основе этого, понимания того, что такое философия «вообще» (то есть философия в своем «универсальном» модусе, о котором ведет речь Деррида), — осознание того факта, что интуитивное понимание того, «что такое философия», на самом деле не универсально, но культурно обусловлено, а потому и культурно ограничено? Не является ли условием понимания философии в ее универсальном бытийствовании прежде всего ясное осознание того факта, что эта «очевидность интуиции» по меньшей мере может быть обманчива и может вводить в заблуждение, а значит, не давать представления об универсальности философии, подставляя вместо этого универсального — собственное, культурно-обусловленное понимание ее? И не является ли потому весьма настоятельной необходимость, отказавшись от такого, на самом деле смутного, понимания философии, поставить на его место вполне осознанное и вполне рациональное понимание того, чем же на самом деле является философия в ее на самом деле универсальном звучании? Не означает ли это, в свою очередь, необходимости найти способ отдать себе отчет в том, «что такое философия», на новых основаниях, восстанавливая право на ясную осознанность, как будто, согласно утверждению многих (в том числе и Деррида), утраченное в результате критики XX века? Такая способность отдать отчет самому себе означала бы вместе с тем и возможность отдать отчет другому — тому, кто не обязан интуитивно ощущать, «что такое философия», и кто хотел бы иметь более или менее ясное представление о том, что же представляет собой этот вид деятельности. Конечно, эта ясная осознанность будет строить себя на иных основаниях, нежели те, о дискредитации которых говорит Деррида; но, как это столь часто случается, традиционным представлением о возможности обоснования не исчерпываются на самом деле все возможности; такое представление оказывается лишь частным.
Говоря о трех возможных отношениях к истории философии, К. Ясперс так характеризует последнее из них:
Я ищу единую философию, philosophia perennis, в универсальности истории философии. Глубочайший исторический взгляд должен был бы подобать глубочайшему философствованию… То, что становится очевидным в целом как истине, обнаруживает истинное и отказ от особенного [Ясперс, с. 98; выделено автором. — А. С.].
Возможно ли достижение универсального взгляда на философию при сохранении априорной уверенности в том, что мы интуитивно способны опознать «философское» в чужой культуре? И не будет ли серьезный отказ от такой априорной уверенности реализацией другой характеристики философии, о которой говорит Ясперс, утверждая, что
философия — это мышление, которое не хочет оставаться в зависимости от чего-либо непонятного, принимаемого без сомнений и вопросов [Ясперс, с. 94],
и тем самым указывая на необходимость для философии осмыслять собственные основания в вечном и парадоксальном стремлении выстроить саму себя как беспредпосылочное знание?
Мы могли бы понимать философию как попытку достижения максимальной осмысленности. Максимальной и в экстенсивном плане — как осмысление максимально широкого поля проблем. Но за счет этого и в интенсивном плане — как наиболее глубокое осмысление, пытающееся достичь последней ясности и не принимающее внешних, то есть априорных, оснований осмысления. То, что смысл может строиться по-разному, должно ясно и отчетливо приниматься во внимание, тем более при рассмотрении инокультурной традиции, если мы не хотим ошибиться и «не узнать» того, что на самом деле является философией, лишь потому, что в рассматриваемой традиции смыслы строятся иначе.
Удивительно, насколько принципиальное направление мысли может совпадать у столь мало схожих во всем прочем философов. Если Ж. Деррида говорит о новых возможностях философии, то Р. Рорти вовсе уверен в ее невозможности. Но это не мешает ему питать уверенность в универсальности иерархии определенных ценностей — веру поистине философскую, веру, меняющую свой объект (разные варианты и сочетания ценностей), но остающуюся неизменной как таковая. Приведу лишь один пример. В своем докладе, посвященном вопросу демократии[50], он как будто занимает позицию крайнего релятивизма. Универсальное обоснование (в духе Просвещения, в кантовском духе) преимуществ западного образа жизни и западных представлений о том, что должно и что хорошо, невозможно. Но от этого ни западные представления, ни западный образ жизни ничего не проигрывают. Они хороши не тем, что универсальны; они хороши тем, что хороши. Р. Рорти заявляет: нам, западным людям, нравится быть самими собой, и мы уверены, что вам в глубине души это тоже нравится; кто же, в самом деле, будет протестовать против того, чтобы быть хорошим? Но чтобы стать хорошими, вам придется стать западными — если вы, конечно, сумеете это сделать. Рорти лишь по видимости устраняет универсализм; на самом деле он устраняет (по его собственному выражению) кантианский универсализм, но вынужден ввести вместо него универсализм прагматического толка. Хорошее единственно и универсально, и это хорошее представлено только западным образом мышления и действия. Что хорошего достигли традиционные, да и вообще не-западные общества, только и толкующие что о возможности реформ? — этот вопрос проходит красной нитью через текст его статьи. Если с точки зрения универсалистов традиционных Запад прогрессивен потому, что раньше всех раскрыл и реализовал «всеобщее», то для Рорти Запад впереди потому, что он первым нашел безусловно хорошее. Позиция Рорти в конечном счете для не-западных народов должна казаться гораздо более жесткой, чем традиционный европоцентризм. Ведь теперь «другие народы», чтобы стать столь же «хорошими», как Запад, должны воплотить в себе не всеобщее (раскрыв его в себе как свое, предсуществующее в них и потому принадлежащее им, собственно, не меньше, чем просвещающему их Западу), а именно западное, то есть не-свое; они должны вполне сознательно перестать быть самими собой, отказавшись от «своей идентичности» как химеры, если, конечно, еще сохраняют способность замечать очевидное и как нормальные люди стремятся к «хорошему».
Общечеловеческое единство способа осмысления остается в конечном счете тем тезисом, с которым эти постмодернистские исследователи не могут расстаться. Для них кажется очевидным («иначе просто не может быть»), что некоторые фундаментальные вещи «имеют смысл» для всех людей одинаково и безусловно, а «культурные различия» и «культурная специфика», ставшие священной коровой культурологических, антропологических и даже философских исследований последних десятилетий, могут способствовать осуществлению этих «безусловно осмысленных» целей либо, напротив, затруднять их достижение. Да, конечно, в некой культуре А люди ставят некое а прежде б, и это их суверенное право; но пусть они отдают себе отчет в том, что таким образом они никогда не достигнут безусловно-ценного состояния полной реализации безусловно-для-всех-осмысленной ценности в, которого достигла культура Б и которое невозможно без обратного соотношения между а и б. Признаваемое культурное разнообразие, иными словами, никак не соотносится с признанием реального многообразия и несовместимости идеальных шкал ценностей и установок (не тех, что приняты данным индивидом и данной культурой, но тех, что могут быть приняты). То же касается и понимания путей развития различных философских традиций. Сколь бы ни было культурно-обусловлено философское мышление в том или ином регионе, никак нельзя отказаться (как мы видели на примере рассуждения Ж. Деррида) от убежденности в том, что «философия» все же «одна», причем одна именно в том, что носит содержательный характер («принцип», «подход», «цель»). Под «содержательным» характером я здесь, как и везде в этой работе, подразумеваю возможность выразить нечто в виде чего-то определенного и фиксированного, позитивного, уже-сформированного и представленного как таковое (как готовое и сформированное) нашему пониманию. В отличие от этого, говоря о «процедурном» характере, я стремлюсь указать на процесс формирования подобного содержания[51].
Отмечу, что я в принципе вовсе не против тезиса о единстве человеческого мышления или философии как одного из его проявлений; я лишь считаю, что попытки найти такое единство как содержательное обречены на то, что предпринимающие их мыслители будут видеть «то же» там, где на самом деле имеется «иное». Настоящее единство заключается в нашей предрасположенности к тому, чтобы понять разные, реально несовместимые способы осмысления, в том, что никакой из таких способов, реализованных разными культурами, не закрыт априори от нашего понимания, — а вовсе не в конкретных содержательных смыслах, оказывающихся всякий раз результатом применения какого-то одного способа осмысления, какой-то одной процедуры смыслополагания.
2.6. Определенность содержания вербальных структур логикой смысла
Традиционно считается, что люди свободны в «придании смыслов» тем или иным вещам, что то, как они «осмыслят» то или иное, зависит в конечном счете от них самих, от их желания. Если и есть где подлинная свобода, то здесь, в царстве мышления, где наша мысль оперирует смыслами как пожелает, подчиняясь лишь (да и то если захочет) формально-логическим законам, которые, однако, не властны над содержанием каждого конкретного смысла. Мы можем «вложить любое содержание» в то или иное понятие, мы можем осмыслить его так или эдак, и если осмысление понятия п или ценности ц в философской традиции или культуре А отличается от их осмысления в философской традиции или культуре Б, то это никак не означает, что оно необходимо должно отличаться или что оно не может стать таким же.
Между тем то, как формируется смысл, какое внутреннее логическое строение[52] он имеет, а значит, какие логические ходы и связи он предполагает как возможные или как запрещенные, не составляет область нашей свободы. Мы можем выбирать между разными способами формирования смысла, но мы не в силах изменить ни один из них. То, каким будет содержание смысла, зависит не от того, «что мы вложим» в этот смысл, а от того, согласно какой логике он сформирован. Точнее, то, что мы «вложим» в то или иное понятие или ценность, именно и будет определено логикой смысла, которой мы, сознательно или бессознательно, будем следовать. Соответственно, культура «видит» ту или иную ценность, философская традиция раскрывает или вырабатывает то или иное понятие в соответствии с той логикой смысла, которой она следует. Она не может увидеть в понятии п или ценности ц то же, что видит в них культура, основывающаяся на иной логике смысла, — до тех пор, пока она остается самой собой, пока она не поменяет собственные основания осмысления.
Если это касается отдельной ценности и отдельного понятия, то уж тем более их ансамбля — всего смыслового тела культуры или целостных философских учений. Это значит, что содержание понятий и целых теорий определяется не только волей теоретика или его способностями, но и логикой смысла, на которой он основывается, формируя их. Смысл не только и даже не столько субъективен, сколько объективен — и возможно, именно благодаря этому мы и способны его понимать. Это значит, например, что есть содержание, которое не может быть вложено в данное понятие п при следовании данной логике смысла, и, напротив, есть содержание, без которого понятие п не может быть правильно понято, коль скоро оно сформировано по данной логике смысла.
Раскрытию этой определенности содержания понятий и проблем логикой смысла и будет посвящена следующая глава этой книги.
Естественно, что, хотя этот тезис сформулирован (и понимается мной) как всеобщий, на ограниченном пространстве этого исследования я могу показать лишь отдельные его проявления. Наиболее интересным окажется рассмотрение тех случаев смыслополагания, которые составляют действительный контраст привычному нам. Применяя тот же метод, которому я следовал до сих пор, я буду сравнивать примеры формирования осмысленности, которые демонстрирует нам классическая арабская культура, с теми ходами мысли, которые в аналогичных случаях подсказывает западная традиция. Мы попытаемся увидеть, насколько применимы выводы, к которым мы пришли, для понимания формирования и функционирования средневековой арабской философской мысли. Мы, конечно же, не ограничимся философией, мы будем говорить и о классической арабской филологии и правоведении — настолько, насколько это окажется необходимым и полезным для нашего исследования. Но именно осмысление философских проблем будет стоять в центре нашего внимания: проблемы единства и его соотношения с множественностью; соотношения между бытием и небытием; понимания связки и многое другое. Рассматривая их, мы увидим, как содержание используемых категорий и понятий определяется логикой смысла и насколько понимание такой зависимости позволяет понять развитие философской традиции.