| А.В.Смирнов. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001 |
|
|
(с) А.Смирнов 2001
Глава II
Ключевые
реализации логико-смысловой конфигурации в средневековой арабской философии
Как же возможна осмысленность? — ведь все мы апеллируем к осмысленности как к последнему основанию и последнему оплоту, который останавливает нас у порога бессмыслицы, так часто открывающейся и в мире вокруг нас, и в сочинениях столь многих современных писателей, бессмыслицы, филигранное балансирование на грани которой составляет очарование известных направлений философской и околофилософской мысли. Осмысленность — то, что приходит на выручку, когда никакая эксплицирующая содержание формулировка более не удовлетворяет; так для Ж. Деррида оказывается безусловно объективным интуитивное узнавание осмысленности слова «философия», когда никакие эксплицирующие этот смысл «значения» уже не действенны. Вероятно, нам следует заключить, что «смысл» — не «значение», поскольку «означивание» само должно быть осмысленным, оно, чтобы быть «означиванием», должно иметь некий смысл как таковое. Суть языка и его природа состоит в том, чтобы устанавливать соответствие между одним и другим; одно называется «словом» или «языковым символом», другое — его «значением». Исследование «смысла» — это попытка проникнуть в ту область, которая опосредует эту связь. Это область, где совершается «осмысление» и где бессмысленное становится осмысленным. Мы можем поэтому сказать, что «смысл» — это то, благодаря чему становится возможным «значение». Смысл с этой точки зрения имеет — во всяком случае, логически — доязыковую природу, поскольку не обладает «значением» вне себя; «смысл» (как это слово употребляется здесь) не имеет права отослать нас к чему-то внешнему, как бы говоря: вот то, что я означаю. Для смысла значимость должна устанавливаться не отсылкой вовне, а выстраиваться внутри него. Если мы будем стремиться к точности наших выражений, мы не станем говорить: «придать смысл», — мы будем говорить: «осмыслить» или «выстроить смысл». Смысл, в отличие от традиционного «значения», не является готовой семантической сущностью, которую мы произвольно прикрепляем к тому или иному знаку; смысл — это на самом деле сам процесс понимания, как он совершается внутри нас и изнутри себя выстраивает осмысленность, — ту самую осмысленность, без которой ни о никаком «значении» не могла бы идти речь. То, что удовлетворяет этому условию, и было выше названо «смыслом». Осмысление — та базовая операция, которая открывается в конечном счете за всеми операциями рациональности, поскольку иррационально в последнем исчислении именно бессмысленное, то, что не способно указать процедуру выстраивания своего смысла.
В Главе I говорилось, что смысл формируется в ходе той или иной процедуры и что процедуры смыслополагания могут быть различными. Если это верно, то может быть показана зависимость содержания (то, что мы говорим) от процедуры смыслополагания (от того, как мы говорим). Осветить эту зависимость что от как, обычно остающуюся в тени, я и предполагаю в этой главе.
Я рассмотрю связь содержания философских теорий, развитых средневековой арабской цивилизацией, с той процедурой смыслополагания, которая, согласно моей гипотезе, определила для интеллектуальной культуры этого региона и этой эпохи способ построения смысла. Предметом исследования послужат две ключевые реализации той логико-смысловой конфигурации, которая предполагается этой логикой смысла: «утвержденность/существование-несуществование» и «действие/ действующее-претерпевающее»[1]. Как уже говорилось во Введении, я рассматриваю здесь, по существу, один вопрос: зависимость содержания от процедуры смыслополагания, обращаясь по ходу дела к тому или иному аспекту этой проблемы.
§ 1. Конфигурация «утвержденность/существование-несуществование»
Я говорил, что принятие посылок о статусе конфигурируемых смыслов составляет содержание процедуры смыслополагания, формирующей смысл. Хотя такие посылки остаются, как правило, неосознанными, они тем не менее лежат в основании смыслового содержания и не могут не влиять на его строение. Если это верно, то ближайшим образом этим будет определено понимание самой категории «существование» в арабской философской мысли, поскольку самую, так сказать, сердцевину определения статуса конфигурируемых смыслов составляет понимание способа их наличия (или, если угодно, представленности) для нас.
Это не значит, что мы найдем в классической арабской философии готовую теорию, вполне отражающую то, о чем я веду здесь речь. Однако, если высказанная гипотеза верна и логика смысла определяет содержательную логику понятия («понятия», поскольку речь идет о философии; «термина», если мы говорим о науке; «слова», если имеем в виду обыденную речь), строение системы понятий, описывающих в арабской философской мысли модусы наличия вещи[2], не может не отразить закономерности, предполагаемые логикой смысла.
Я также имею в виду и другое. Принятие посылок о наличии вещи и его модусах входит (как правило, скрытым образом) в состав того, что мы называем «содержанием понятия». Любое понятие, как и вообще любой смысл, сообщает нечто о модусах представленности для нас тех смыслов, конфигурированностью которых он является. Так «нагретость-воды» сообщает нам об «огне» и «воде», слитых так, что они не существуют как таковые на поле данного смысла. Но вместе с тем есть категория, которая описывает как раз то, о чем идет речь. Это категория «существование». Обозначим ее, используя это слово, самым туманным образом, никак пока не конкретизируя его и не подразумевая никаких совпадений или несовпадений с теми представлениями о «существовании» и «бытии», которые наверняка имеются у читателя. Ведь выяснение конкретного содержания этой категории у нас целиком впереди. Скорее всего, оно даже потребует от нас уточнить ее название, выбрав вместо «существования» что-то другое. Но мы начинаем с этого просто в силу того, что надо как-то обозначить то, о чем мы говорим; когда это действительно приобретет для нас осмысленность, наполнившись конкретным содержанием, нужное слово найдется само собой.
Итак, понятие, которое сообщает нам нечто о конкретных модусах наличия вещи, разрабатывая категорию «существование», выводит на свет, называет то, что оказывается скрытым в глубинах любого слова, то, что составляет основание осмысленности любого слова. Мы много слышали о том, что категория «бытие» является вредной абстракцией занятого самим собой мышления. Но не обстоит ли дело противоположным образом? Не является ли категория «существование», точнее, комплекс понятий, описывающих и называющих разные модусы наличия вещи, первым осмысленным понятием — просто потому, что оно опирается, кажется, на само себя, потому, что, называя лишь себя, будучи лишь самоназванием, оно не привносит ничего дополнительного, такого, что нуждалось бы во внешнем ему самому осмыслении? Не означает ли это, что именно понимание наличия в его различных модусах является основой осмысленности всех прочих понятий?
Попытаемся конкретизировать намеченный здесь подход.
Схема 3 отражает те представления о модусах наличия конфигурируемых смыслов, принятие которых предполагается логикой смысла, характерной для классической арабской традиции. На ней конкретными смыслами, образующими логико-смысловую конфигурацию, являются «огонь», «вода», «нагретость-воды». Я предлагаю сейчас отвлечься от этой их конкретной содержательности, обращая внимание только на те неизменные представления относительно модуса их наличия (и, следовательно, соотношения между собой), которые отражены в словах «явленность», «скрытость», «совпадение явленности и скрытости»[3]. Вместо того чтобы присоединять эти представления к конфигурируемым смыслам, попробуем сконфигурировать сами эти представления. В таком случае будет достигнут удивительный результат: мы обойдемся совершенно без того, чтобы предпосылать что-то содержательное (а значит, постулируемое как догмат, действительность которого может служить только предметом веры) нашему рассуждению. Вместо этого рассуждение будет как бы питаться собственной материей: мы ведь не можем рассуждать иначе, нежели каким-то образом конфигурируя смыслы, иначе, нежели следуя определенной логике смыслополагания. Если мы не можем избавиться от ее диктата, то мы по меньшей мере можем сделать ее саму предметом внимания, не привлекая ничего постороннего. Такой способ рассуждения традиционно именуется рефлексивным, но только здесь, кажется, рефлексия достигает своего подлинного уровня независимости от внешней предопределенности, и только в такой рефлексии рассуждение в самом деле полагает своим предметом само себя.
Мы имеем здесь, таким образом, удивительную возможность начать с самого начала, с самого основания, увидев, каким образом смысловая определенность, предстающая для нас потом как готовое «значение» (в том числе и «значение» философских категорий, фигурирующих в сколь угодно сложных рассуждениях), только формируется в ходе описания логико-смысловой конфигурации. Мы будем рассматривать ее особенности, описывая их — и это априорное в отношении арабской философской традиции рассуждение сформирует определенное содержание понятий, выстраивающихся как описание модусов наличия вещи. Мы сможем затем сравнить это описание с тем пониманием соответствующих понятий, которое сформировалось в классической арабской философской традиции. Наше движение в этом параграфе распадается поэтому как будто на две части, априорную и апостериорную: в первой мы скажем о том, какими должны быть термины, характеризующие модусы наличия вещи, если выдвинутые здесь теоретические положения правильны, а во второй будем иметь возможность сравнить эти предположения с действительностью. Вторая часть имеет намного больший объем, нежели первая, но это объясняется только ее спецификой: эмпирическое описание всегда длиннее чисто теоретического рассуждения, однако оно необходимо, чтобы подтвердить его правильность.
Сказанное можно выразить и так. Посылка о модусах наличия, пред-посылаемая любому смыслу, определяет логику его содержательного соотнесения с другими смыслами. Но если для любого смысла такая посылка представляется чем-то дополнительным в отношении его собственной содержательности (хотя и определяет эту содержательность), то для понятий, выражающих модусы наличия вещи, она совпадает с их собственным содержанием. В этом плане эти понятия и представляются мне особыми: то, что пред-послано любому смыслу, в том числе и им самим, они, в отличие от любого другого смысла, выводят на свет, выявляют в себе как собственное содержание. Поэтому в этих понятиях, как они были выработаны данной интеллектуальной традицией, мы открываем ближайшим образом предпосылки формирования смысла, релевантные для данной культуры и обычно остающиеся скрытыми за плотной стеной смыслового содержания. Не оказываются ли эти понятия таким образом весьма прозрачными, такими, сквозь которые легко просвечивает лежащий в их основании способ смыслополагания? И не в том ли преимущество философской рефлексии, что именно она способна разглядеть его в тех категориях, с которых обычно начинает свой путь?
Мы поэтому должны обратиться непосредственно к рассмотрению логико-смысловой конфигурации.
1.1. Общие положения
1.1.1. Рефлексивное рассмотрение логико-смысловой конфигурации: возникновение понятий a priori как ее описание
Первое, что мы заметим, рассматривая логико-смысловую конфигурацию с этой точки зрения, — это сам факт конфигурированности. Логико-смысловая конфигурация открывает нам модусы наличия вещи. Но дело в том, что только вкупе они имеют смысл; только во взаимном отношении они могут быть осмыслены и осмысленны. Дело не обстоит таким образом, что можно было бы начать с некоего абсолютно простого понятия и затем, развивая его, показать его абсолютную же сложность. Началом осмысленности может служить только полная конфигурация. Конфигурационность смысла — вот что мы открываем таким образом. Собственно, и само выражение «модусы наличия» без необходимых оговорок также оказывается слишком приблизительным, поскольку как будто говорит о вариантах единого, выстраивающихся как разработка внутренней сложности этого первоначально простого понятия. Но именно эту возможность начать с простого и далее раскрыть его внутреннюю сложность я и ставлю под сомнение.
Нам приходится быть очень внимательными к нашему языку и способу выражения. В самом деле, если языковые формы отмечены печатью того способа смыслополагания, под влиянием которого они сформировались, тогда как именно особенности разных способов смыслополагания нам хотелось бы увидеть, то мы никак не можем позволить себе небрежность в отношении привычного для нас способа выражать свои мысли. Этот способ уже пред-полагает определенный способ конфигурированности смысла, который может не совпасть с тем, что мы хотим рассмотреть. Мы думаем, что отражаем в своем языке рассматриваемые смыслы чужой культуры, но на самом деле скорее всего привносим в наше якобы-отражение свой способ конфигурирования смыслов, который таким образом оказывается навязанным рассматриваемому материалу. Единственное, что может уберечь нас от этой фундаментальной перекройки чужой смысловой ткани, — это постоянное внимание именно к этому аспекту обращения с чужой для нас культурой мысли.
Почему же я столь настойчиво подчеркиваю невозможность начать с простого понятия и раскрыть его внутреннюю сложность? Ведь этим, кажется, вовсе не нарушается принцип конфигурированности: внутренняя сложность простого смысла и могла бы выстроить себя как именно такая конфигурированность. И если в известной системе изобретателя диалектической логики наиболее простое понятие оказывается и наиболее сложным, то разве принцип конфигурированности нарушается при таком полагании простого как начала всего смыслового построения? Разве не остаются и в этом случае отдельные понятия осмысленными только в своей взаимной связи? Разве не настаивает философское мышление, во всяком случае, в западной традиции, именно на том, что только благодаря такой связи, рассмотренной во всей ее возможной сложности, простое начало и приобретает свой смысл? Разве не служит это положение лучшим и более глубоким выражением того, что здесь названо принципом конфигурированности?
Дело в том, что, говоря о принципе конфигурированности, я хочу указать не просто на тот факт, что одно понятие имеет смысл в своей связанности с другими. Я также имею в виду, что организация этой связи может быть разной. Уловленный и разработанный в историческом развитии философии факт безусловной необходимости связи понятий для их осмысления должен быть дополнен столь же безусловным представлением о различных принципах этого осмысляющего связывания. Именно с другим принципом мы имеем дело в данном случае, и быть внимательными именно к этому отличию я и призываю.
Мы начали с того, что выражение «модусы наличия» не оказалось безоговорочно удачным для описания того способа конфигурирования, о котором идет речь. Далее мы нашли, что дело не в факте конфигурирования как таковом, но в особенности применяемой конфигурации. Она такова, что не позволяет найти единое общее и простое именование того, что будет в дальнейшем раскрыто как внутренняя множественность сложности.
Остановимся на этом, поскольку разговор о понимании единства, общности и простоты в связи с особенностями логико-смысловой конфигурации у нас впереди. Пока же для наших целей достаточно того, что мы заметили.
Теперь необходимо рассмотреть внутреннее строение интересующей нас логико-смысловой конфигурации, отраженной на Рис. 3 и Схеме 3.
Для удобства и краткости выражения обозначим смысл, возникающий на поле соположенности двух других смыслов, как смысл первого уровня. Ту пару смыслов, в соположенности которых возникает смысл первого уровня, назовем смыслами второго уровня. Логико-смысловая конфигурация состоит из смыслов двух уровней и определяет соотношение между уровнями, которое, в свою очередь, определено способом соположения смыслов второго уровня (или определяет его: речь идет о взаимной связи, которая может быть рассмотрена и в том и в другом направлении).
Для того чтобы понять, каким образом эта логико-смысловая конфигурация определяет особенности формирования смыслов, описывающих наличие вещи, нам достаточно описать эти три момента в их взаимной связи: отношение между смыслами второго уровня; отношение между парой смыслов второго уровня и смыслом первого уровня; то, каким образом первое определяет второе (или: как первое определено вторым).
Два смысла второго уровня частично совпадают. Смысл первого уровня представляет собой область их совпадения, такую, что внутри этой области мы не обнаруживаем совпадающих смыслов как таковых, но сами они остаются как бы за пределами этой области. Смыслы второго уровня находят свое тождество как смысл первого уровня; или мы можем сказать так: они тождественны как смысл первого уровня. Их тождественность вместе с тем достигается, она не изначальна; итак, мы можем сказать, что их тождественность достигается как смысл первого уровня. Таким образом в конфигурацию смыслов вносится динамика, и, как мы увидим дальше, это наблюдение не случайно. Тождество достигается после чего-то, что не является тождеством. Соположенные как таковые, смыслы второго уровня — противоположны. Заметим, что понятие «противоположение» вкупе с понятием «тождество» оказываются необходимыми и базовыми в описании логико-смысловой конфигурации; мы, пожалуй, не можем дальше определить их; они как будто подсказываются самой улавливаемой нами конфигурированностью смыслов. Мы можем, однако, сказать, что особенность противополагания вполне определена, или, во всяком случае, пред-определена, строением логико-смысловой конфигурации. Противополагаемое таково, что переходит одно в другое благодаря области совпадения. Эта область, однако, такова, что не обнимает два противополагаемых смысла, то есть не заключает их как таковые внутри себя.
Пусть понятие о наличии вещи, которое (как мы априори предполагаем) сформировано в логике смысла, характерной для классической арабской культуры, является смыслом первого уровня. Мы пока не называем его по имени; разыскание этого имени у нас впереди. Но мы можем показать то отношение, в котором это понятие стоит к понятию «существование» и его — предполагаемой нами — противоположности, которую мы обозначим пока как «несуществование»[4]. Мы можем также показать, как содержание этого смысла первого уровня формируется во взаимном отношении сополагаемых понятий второго уровня, понятий «существование» и «несуществование».
Понятие о наличии вещи должно оказаться таким, чтобы показать возможность тождества существования и несуществования. Это значит, что существование и несуществование, смыслы второго уровня, противополагаются так, что находят свое тождество как смысл первого уровня. Существование и несуществование оказываются как бы принадлежащими одному уровню и одним и тем же через нечто третье, а именно, через смысл первого уровня. Существование и несуществование не охватываются вполне смыслом первого уровня, но как таковые внеположны ему. Вместе с тем благодаря тому, что смысл первого уровня является не чем иным, как их тождеством, возможна постановка вопроса о равенстве каждого из смыслов второго уровня смыслу первого уровня.
Таково то содержание, которое самой логикой смысла предполагается в понятиях, описывающих модусы наличия вещи. Это содержание не зависит от желания теоретика эксплицировать или, напротив, не выявить его: оно неизбежно сопутствует смыслам, выражающим наличие и его модусы, пока данная логика смысла продолжает быть релевантной.
Теперь необходимо рассмотреть, каким образом это пред-посылаемое содержание проявило себя в ходе развития философских теорий в классической арабской культуре.
1.1.2. То
же a posteriori
Арабская традиция выработала целый ряд понятий, строящихся вокруг описания наличия вещи. Мы начнем с выражающих отношения конфигурации непосредственно, покажем, что их понимание определено особенностями логико-смысловой конфигурации, как мы ее описали, затем перейдем к другим и увидим, что они являются дальнейшей разработкой первоначальной основной конфигурации. Далее мы покажем, что принципиальная дискуссия, прошедшая сквозной линией через историю средневековой арабской философии, определена логико-смысловой конфигурацией в том смысле, что представляет собой разработку вопроса о соотношении смыслов первого и второго уровней именно в том аспекте, в каком эта возможность определена логико-смысловой конфигурацией. Мы увидим также, что удивительно устойчивые контрасты между арабской и западной традициями в обсуждении схожей проблематики, контрасты, не снимаемые ни как будто близкой логикой обсуждения проблем, ни взаимными влияниями, объясняются различием процедур смыслополагания в двух случаях. Как нам предстоит убедиться, именно императив логико-смысловой конфигурации составляет общий стержень преемственности в обсуждении проблематики наличия вещи, которая объединяет столь различающиеся философские школы арабского средневековья.
Мы будем говорить об арабской традиции философствования в ее полноте как включающей пять направлений: калам, арабский перипатетизм, исмаилизм, ишракизм и суфизм.
В каламе уже на первом, философски наиболее плодотворном этапе развития — в мутазилизме — определилась основная тройка терминов, которые описывают наличие вещи и которым было суждено оставаться таковыми на протяжении всего развития арабской философии. Это «существование» (вуджуд), «несуществование» (‘адам) и «утвержденность» (субут). Это не значит, что данными терминами исчерпывался набор понятий, использовавшихся в каламе для описания наличия вещи. Помимо названных употреблялись термины кавн (»существование-возникновение), худус (возникновение), завал (прекращение), ибтида’ (полагание начала), и‘ада (воспроизведение), бака’ (пребывание), фана’ (гибель), халк (творение[5]) и их производные (таквин — создание; и‘дам — уничтожение и т.д.). Однако названная тройка оказывается основной в описании этого терминологического многообразия. Вопрос в том, каким образом возможно это описание, как оно выстраивается.
Первое, что мы должны констатировать, — это отсутствие такого единого и простого термина, который охватывал бы все поле проблематики существования и соответствовал бы привычному нам термину «бытие». Собственно, этот факт уже был отмечен выше, теперь пришло время рассмотреть его на конкретном материале. Естественно, что такой отрицательный вывод не может быть подтвержден какой-то одной цитатой или даже простой группой ссылок на тексты. Он может быть лишь результатом того позитивного усилия, которое мы, просматривая соответствующие тексты, приложим в попытке выстроить отношения смыслового родства между названными терминами. И это вполне логично, поскольку упомянутый отрицательный вывод имеет и свой позитивный коррелят. Это — тот факт, что именно названная выше тройка понятий является тем далее несводимым началом, от которого отправляется формирование смыслов, описывающих проблематику наличия вещи.
Термин субут «утвержденность» уже в мутазилизме приобретает статус того смысла, который был назван смыслом первого уровня. Нам будет интересно проследить за формированием такого взгляда на это понятие и развернувшейся вокруг него полемикой.
Блестящий доксограф раннего калама Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари сообщает об этом интересующем нас мнении, говоря, что «некоторые» считали,
что вещи — вещи до своего существования и что они утверждены как вещи до своего существования [Ашари, с. 518].
Ал-Аш‘ари довольно скуп в изложении этого тезиса, что объясняется, наверное, рядом причин, и прежде всего тем, что сам он его не поддерживал. Абу ал-Хасан — достаточно объективный доксограф; будучи не уверен в точности излагаемого мнения, он считает нужным предупредить об этом, порой довольно тщательно описывает цепочку, по которой взгляды предшественников дошли до него, хотя личные предпочтения и наложили значительный отпечаток на его сочинение: взглядам ал-Джубба’и, своего учителя и оппонента, ал-Аш‘ари уделяет больше внимания, нежели доктринам других мутазилитов. В данном случае приходится удовлетвориться этой краткой констатацией взгляда, который, как сообщает ал-Аш‘ари, был высказан Абу ал-Хусайном ал-Хаййатом. Впрочем, этот взгляд, совершенно очевидно, был весьма распространен среди мутазилитов, и мы еще не раз встретимся с ним в других редакциях в изложении самого ал-Аш‘ари. Но прежде чем переходить к ним, рассмотрим свидетельство ал-Аш‘ари более подробно.
Изложенный тезис распадается на две строки, которые я ради удобства расположу параллельно:
за‘аму ’анна ал-ашйа’ ашйа’ кабла
вуджуди-ха
ва ’анна-ха мусбата ашйа’ кабла вуджуди-ха
они считали, что вещи — вещи до своего существования
и что они утверждены как вещи до своего существования
В двух строках сказано, очевидно, одно и то же. Повторение не сообщает ничего нового по существу. Более того, две фразы различаются весьма незначительно: их различие, если говорить о грамматической структуре, состоит по сути дела только в том, что во втором случае восстановлена связка, опущенная в первом. За исключением этого две фразы, начинающиеся после предлога «что» (’анна), просто идентичны, если не считать того, что во второй подлежащее (ашйа’ «вещи») заменено местоимением (-ха «они»). Перед нами фактически тавтология: во второй фразе сказано ровно то же, что в первой. Это не может не привлечь наше внимание, поскольку две фразы, высказанные одним и тем же автором в одном и том же контексте и различающиеся именно таким образом, позволяют выделить в наиболее чистом виде то, что именуется «связкой». По существу, мы имеем здесь весьма удачный случай, когда различие между двумя фразами состоит исключительно в употреблении связки. Но дело не только в этом. Связка, счастливую возможность заметить которую мы имеем таким образом, является связкой в ее логически наиболее интересном виде — связкой, устанавливающей тождество. В самом деле, каждая из наших двух фраз также является тавтологией. В ней субъект не получает никакого предиката; каждая из них не более чем устанавливает тождество субъекта самому себе. Что это так и что речь не идет ни о какой иной модальности, показывает первая фраза: ал-ашйа’ ашйа’ «вещи — вещи»[6]. Тождество самому себе — чистое тождество; вряд ли можно представить более явный случай «того же», нежели отношение вещи к самой себе как к «той же».
Какой же оказывается связка, устанавливающая такое чистое тождество? Этот вопрос тем более заинтересует нас, что, кажется, тождество считается самоочевидным отношением. Г. Фреге начинает свою знаменитую статью, столь во многом определившую направление философских и лингвистических исследований в прошедшем веке, с вопроса о том, является ли равенство (которое, по его словам, он понимает в прямом и строгом смысле, как «совпадение») отношением между вещами или между их именами, или же знаками [Фреге, с. 230]. Его заботит, таким образом, содержание понятия «равенство», но никак не то, что такое «равенство» само по себе, прежде того, как оно будет наполнено каким-то конкретным и определенным содержанием. Фреге лишь говорит, что понимает «равенство» строго, как совпадение, как если бы этого было совершенно достаточно для того, чтобы сформировать у всех нас ясное понятие равенства, ясное понятие типа тех, к достижению которых и стремится Фреге. Не понятие того, как выявляется равенство: как совпадение вещей, или знаков вещей, или знаков с вещами, или идей между собой, или идей с вещами, является ли оно равенством, устанавливающим синтетические или аналитические отношения между приравниваемыми членами, т.д., — но того, что такое равенство само по себе, то есть как оно устанавливается вне зависимости от того, что входит в его содержание[7]. В самом деле, обсуждение этих содержательных проблем возможно только в том случае, если все мы одинаково понимаем равенство как таковое. Это интуитивно достигаемое согласие обычно считают гарантированным на том основании, что такую вещь, как равенство, нельзя понимать иначе. («Равенство», конечно, не единственная подобная вещь, но, безусловно, одна из таких.) Подчеркну еще раз: речь идет не о содержании, вкладываемом в понятие «равенство», но о том, к чему всякий раз восходит и на чем зиждет себя любая процедура объяснения, сравнения, проверки такого содержания, — о понимании того, благодаря чему мы всякий раз узнаем, что речь идет именно о равенстве, что равенство достигнуто (или не достигнуто), независимо от того, понимаем ли мы его как такое или иное равенство, как равенство того или другого.
Не следует ли нам обратиться к наиболее простому случаю равенства, если уж мы так стремимся более подробно раскрыть для себя это начальное и, кажется, самообъясняющее понимание того, что такое равенство? Наверное, именно в таком, наиболее простом случае легче всего увидеть, как достигается равенство, что оно такое. Но не является ли наиболее простым как раз случай равенства самому себе? не оказывается ли случай, когда нет необходимости совершать какие-то дополнительные переходы ради установления равенства, именно высвечивающим суть равенства наиболее ясно и отчетливо? ведь чтобы приравнять нечто к самому себе, нет, кажется, нужды прибегать дополнительно к чему-либо другому. Нечто есть нечто — эта тавтология, связывающая «нечто» с самим собой, представляется совершенно очевидной. Для вещи не требуется ничего дополнительного, чтобы быть самой собой. В этом «А есть А» сущность равенства высвечивается, кажется, совершенно полно. Связка «быть» здесь оказывается поэтому наиболее очевидной: вещь есть она сама — тут вряд ли в чем-то можно сомневаться, и это положение потому и оказывается аксиомой в построении некоторых систем логики.
Я, однако, сомневаюсь вовсе не в том, что вещь есть она сама. Вопрос, кажется, должен быть поставлен несколько иначе. А именно, следующим образом: должно ли совпадение вещи с самой собой выражаться непременно связкой «быть»? Наше мышление очень быстро и просто переходит от «совпадения» к «быть», как если бы такой переход был очевиден, тривиален и даже в некотором смысле необходим. В самом деле, слово «совпадение» подсказывает некий визуальный образ наложения и неразличения, тогда как «быть» выражает этот образ уже скорее вербально, чем визуально: «быть» скорее следует мыслить, нежели представлять. Но в нашем «быть» — гораздо больше, чем в «совпадать»; и, более того, это больше вовсе не непременно определено самим «совпадает». Если Фреге считает достаточным отослать к представлению о «совпадении», дабы окончательно разъяснить, что он понимает под «равенством» и уже не сомневаться в возможности говорить «Венера есть утренняя звезда», чтобы выразить такое равенство (и задуматься о его содержании — но задумываются о содержании равенства уже после того, как само уравнивание стало очевидным), то это лишь еще раз подтверждает устоявшуюся привычку к таким переходам нашего мышления, которое (по меньшей мере) не сомневается в их оправданности[8].
Но что подсказывают нам разбираемые две фразы, в которых мы столь удачно находим констатацию такого же чистого случая совпадения вещи с самой собой?
В них сказано нечто совсем иное, составляющее весьма разительный контраст тому самоочевидному представлению, о котором только что шла речь. В качестве связки мы находим здесь «утверждены» (мусбата). Но что же, собственно, сказано этим «утверждены»?
Первое, что можно констатировать, — это «необычный», кажется, выбор термина, отношение которого к описанию сферы бытия совсем неочевидно. Помимо вуджуд «существование», мутакаллимами активно употреблялся термин кавн, который условно переведем как «существование-возникновение». Весьма показательно, что мышление (должны ли мы сказать: «языковое мышление»?) в данном случае не останавливается ни на одном из них, но находит другой термин, который, кстати говоря — и это тоже весьма показательно, — звучит для нашего уха весьма вяло и неубедительно. В самом деле, что значит «утверждены»? Что такое это «утверждение», столь похожее на «утверждение» в смысле «суждение», «высказывание»? И каково его отношение к «существованию»?
По меньшей мере на последний вопрос мы можем ответить. Разбираемая фраза констатирует, что «утверждение» предшествует «существованию» вещи, что оно «до» существования вещи. Такое разъяснение, впрочем, еще больше запутывает дело. Ведь «до» существования мы имеем, и это совершенно очевидно, «несуществование» вещи. Этот вполне очевидный факт отчетливо осознавался и арабской мыслью, для которой выражения «существование после несуществования» (вуджуд ба‘да ‘адам), равно как «несуществование после существования» (‘адам ба‘да вуджуд) стали чем-то вроде философских клише[9]. Но здесь мы встречаемся не с «несуществованием» (‘адам), а с «утвержденностью»: это она — «до существования», согласно разбираемому нами мнению.
Терминологическая ситуация, которую мы обсуждаем, таким образом осложняется, но вместе с тем и начинает проясняться. Термин «утвержденность» отличен теперь не только от тех, что выражают «существование» (вуджуд, кавн), он, оказывается, отличен также и от термина, выражающего «несуществование» (‘адам). При этом, если отличие «утвержденности» от «существования» представляется теперь вполне оправданным (в рамках допущений разбираемой фразы, конечно же) тем, что утвержденность, как говорит наш автор, «до» существования, то есть определенным образом противопоставлена ему (хотя мы еще не выяснили суть этого противопоставления), то в том, что касается «несуществования», установление отличия от него «утвержденности» оказывается более проблематичным. И то и другое предшествует «существованию», так что можно было бы даже подумать, что они каким-то образом совпадают. Правда, нетрудно сделать наблюдение, касающееся того, что «несуществование» может располагаться как до, так и после «существования», тогда как относительно «утвержденности» мы пока не можем этого сказать, — но такое наблюдение, предпринимающее попытку различить «утвержденность» и «несуществование», не меняет сути дела, поскольку нас интересует как раз состояние «до существования», а мы пока не знаем, как различить «утвержденность» и «несуществование» в этом отношении.
Единственное, что мы можем, видимо, с уверенностью констатировать, так это то, что эти два понятия должны быть различаемы. Помимо соображений общей логики безусловным аргументом в пользу этого будет следующее. Сам ал-Аш‘ари, как уже говорилось, не придерживается разбираемого положения, он стремится (вслед за своим учителем ал-Джубба’и) опровергнуть его. К этой полемике нам еще предстоит обратиться; сейчас же достаточно сказать, что ни ал-Джубба’и, ни ал-Аш‘ари, ни, насколько мне известно, кто-либо из участвовавших в обсуждении этих трех понятий мыслителей не использовал эту — казалось бы, очевидную — возможность отождествить утвержденность и несуществование на том основании, что и то и другое «до существования». Ал-Джубба’и и ал-Аш‘ари спорят с представленным здесь мнением и обвиняют своих противников в самопротиворечивости — но только не в том, что утвержденность тождественна несуществованию и в силу этого составляет просто излишнее понятие. Если бы утвержденность мыслилась как защитниками представленного здесь тезиса, так и его противниками как предшествующая существованию так же, как ему предшествует несуществование, на этот факт тождественности, несомненно, было бы указано. «Незамеченность» столь простого и вместе с тем столь сильного аргумента противниками положения «утвержденность до существования» при общей изощренности их доказательств служит поэтому важным свидетельством общности понимания термина «утвержденность», которая стоит выше (или, если угодно, располагается глубже) несогласия относительно содержания этого термина. Эта «незамеченность» просто означает, что такой аргумент не может быть сформулирован в пределах допущений той логики смысла, которой равно придерживаются спорящие стороны. А нас здесь, собственно, и интересуют именно такого рода факты — то, что оказывается общим для представителей данной традиции независимо от идущей между ними полемики.
Итак, можно подвести некоторые итоги. Связка, в ее наиболее чистом виде, мыслится в нашем примере как «утверждение». Такое «утверждение» отлично равно от «существования» и «несуществования». Оно предшествует «существованию», располагаясь «до» него, но, вероятно, не так, как до «существования» располагается «несуществование», а потому «утвержденность» не совпадает с «несуществованием».
Коль скоро это так, мы можем констатировать еще и следующее. Совпадение, которое мы рассматривали в его наиболее ясном виде, как совпадение с самим собой, может вербализовываться не как «быть». Это совпадение может мыслиться как «утвержденность».
Попытка ближе подойти к определению этого понятия потребует обращения к логико-смысловой конфигурации, как мы говорили о ней выше. Рассматриваемая тройка понятий располагается друг относительно друга именно так, как это предполагается отраженной на Рис. 3 и показанной на Схеме 3 конфигурацией. «Утвержденность» является здесь смыслом первого уровня, а пара «несуществование-существование» — смыслами второго уровня. «Утвержденность» предшествует равно «существованию» и «несуществованию» как смысл первого уровня — смыслам второго уровня. Если рассматривать отношение между смыслами второго уровня, мы увидим, что один из них также предшествует другому (в зависимости от того, что после чего мы рассматриваем, мы и получаем «существование после несуществования» или «несуществование после существования», причем оба варианта логически возможны), но это предшествование никак нельзя спутать с предшествованием «утвержденности» обоим этим смыслам. Вот почему, вообще говоря, наши авторы их вовсе и не путают. Собственно, это совершенно разные предшествования, и «утвержденность» имеется как смысл там, где «несуществование» и «существование» совпадают. Так мы вновь встречаемся с понятием совпадения, и вновь это понятие демонстрирует нам, кажется, свою странность.
Мы сказали, что вещь совпадает сама с собой как утвержденность. Утвержденность оказывается, в свою очередь, совпадением существования и несуществования. Совпадение вещи с самой собой, согласно разбираемому взгляду, — это совпадение ее существования и несуществования. «Вещь» не «есть» она сама; «вещь» «утверждена» как она сама. «Быть» здесь, в этой логике смысла оказывается лишь одной стороной этого «утверждена», причем стороной, которая как таковая (как именно «существование») внеположна утвержденности, тогда как в самой утвержденности существование уже претворено своим совпадением с несуществованием. Мышление, с которым мы сталкиваемся в данном случае, не переходит от «совпадает» к «быть»; визуальный образ совпадения для него вербализуется и концептуализируется иначе — как «утвержденность».
Пора и нам более близко рассмотреть концептуализацию того визуального образа, что представлен на Рис. 3. Это будет удобно еще и в том отношении, что даст возможность апеллировать не к иллюстрациям, а к понятиям. Попробуем ввести их.
1.1.3. Контраст с привычными интуициями теории множеств
Визуальный образ совпадения, подсказываемый Рис. 3, представляет собой — я имею в виду его графическую форму — весьма знакомую для каждого по началам теории множеств иллюстрацию пересечения двух множеств. Область, образованная наложением двух полуэллипсов, является не чем иным, как областью совпадения двух множеств. Говоря об особенностях логики смыслополагания в классической арабской культуре, я прибегаю к визуальному образу, столь точно воспроизводящему прекрасно известную западной культуре иллюстрацию. Нет ли в этом какой-то парадоксальности? Возможно ли совпадение визуального образа при различии вербализации и концептуализации, и если да, то как именно?
Этот вопрос важен еще и потому, что теория множеств активно применяется лингвистами, разрабатывающими трансформационные и порождающие модели. Говоря об этом в Главе I, я подчеркивал, что слова складываются в словосочетания (или фразы) благодаря тому же, из-за чего обладают каждое «своим», как бы независимым от их участия в каждой конкретной фразе, значением: смысл всякого слова возникает в логико-смысловой конфигурации. Мы смогли заметить это только благодаря контрасту, который логика смысла, характерная для классической арабской культуры, составляет с привычной для нас. Этот контраст проявляется и в том, что «совпадение», о котором идет у нас сейчас речь, может быть «организовано» по-разному. Только если это действительно так, мы имеем право говорить о логике смысла и ее роли в формировании осмысленности слов. Вот почему мы не можем не обратиться к вопросу о теории множеств и используемых в ней иллюстрациях. Если я прав и совпадение может «организовываться» по-разному, то ясно, что принятие некоего способа такой организации в качестве единственно возможного составляет само по себе упрощение, а в тех науках, что пользуются аппаратом теории множеств (например, лингвистика или формальная логика), приводит к устранению самой возможности заметить те эффекты, которые в принципе не могут быть уловлены таким аппаратом.
Говоря вкратце, различие между двумя способами осмысления совпадения состоит в следующем. Для классической теории множеств любой элемент области пересечения принадлежит обоим множествам. Скажем, если мы, вопреки известному мнению, будем считать, что множество «летающих» все же пересекается с множеством «ползающих», это будет означать, что есть хотя бы один такой «летающий», который одновременно есть «ползающий». Совпадение «летающего» и «ползающего» осмысляется здесь как совпадение существований, так что существование придуманного нами дракона, умеющего и ползать и летать, и представляет собой область пересечения двух множеств. В данном случае принципиально, что, если мы устраним в нашем рассмотрении факт пересечения двух множеств, тем самым отвлекшись от их совпадения, и обратим внимание лишь на одно из них, не важно, множество ли «летающих» или множество «ползающих», наш дракон вовсе не перестанет от этого существовать: он сохранит свое «быть» в любом случае, поскольку он «есть летающий» и он же «есть ползающий».
Так мы постепенно приходим к мысли, что «быть» как связка («дракон есть летающий») каким-то совершенно неразрушимым, но в то же время очень интимным образом связана с существованием субъекта как такового («дракон есть»): только если возможно первое, возможно и второе, если мы можем предицировать субъекту нечто через «быть», мы можем говорить, что субъект «есть». Если мы предицируем ему нечто через «утвержден», то и субъект для нас именно «утвержден». Это значит, что субъекты субъективны по-разному — что вещи в нашем дискурсе оказываются представлены по-разному. Не стоит ли сделать из этого вывод о том, что изначально задаваемый для нас нашей культурой способ говорить о вещи, способ, которому мы безотчетно следуем, — разный для разных культур, и, напротив, культуры как способы осмысления мира различны в конечном счете именно в этом пункте?
Но если это так, если субъект либо «есть», либо «утвержден» в зависимости от того, как мы «увидим» его в применяемой нами процедуре смыслополагания, то вещь оказывается фундаментально различной для разных способов ее осмысления. Здесь мы замечаем один из первых проблесков понимания того, что было сказано в начале этой главы относительно доязыковой природы понятия «смысл». Дело не только в том, что мы уже должны понимать смысл, чтобы пользоваться языком (понимание логически предшествует использованию языковых знаков), но также и в том, что мир предстает для нас как осмысленность. Однако если мир дан нам как осмысленность, то сам способ этого задания каким-то глубинным образом связан с нами, хотя и — может быть — не подчиняется вполне нашему произволу. Различие логик смыслополагания в разных культурах имеет своим следствием тот факт, что мир как реализация определенного способа осмысления различен в разных культурах. Так мы встречаемся с проблематичностью понятия объективности мира. Эта проблематичность, вытекающая из понятия «смысл», как оно понимается в логике смысла, развиваемой здесь, не совпадает с той, что связана с кантовским понятием априорных форм сознания: априорные формы сознания, в отличие от логик смысла, имеют общечеловеческую природу. Вместе с тем кантовское указание на пространство и время как необходимые априорные условия восприятия вещи должно быть соотнесено с развиваемыми здесь взглядами, коль скоро суть логико-смыслового конфигурирования заключается в реализации интуиции пространственно-временного сополагания[10]. Но если логики смысла различны, то соответственно различны и базовые интуиции пространства и времени. Вопрос о том, приходят ли к какому-то общечеловеческому единству такие различающиеся в разных культурах пространственно-временные интуиции, составляющие основания процедур осмысления, и если да, в чем оно может состоять и затрагивает ли собственно пространственно-временные отношения либо располагается на каком-то другом уровне, — этот вопрос может быть здесь только поставлен.
Вернемся к разбору пересечения множества «летающих» и множества «ползающих» согласно положениям теории множеств. Что случится, если мы отвлечемся от факта пересечения двух множеств, оставив для рассмотрения только множество «летающих», да и то не целиком, а лишь ту его область, которая была областью совпадения с множеством «ползающих», то есть подмножество «драконов»? Нетрудно заметить, что любой принадлежащий ему единичный дракон никак не изменится от того, что перестанет — в нашем рассмотрении[11] — принадлежать области пересечения двух множеств: рассматривая дракона только как «летающего» (говоря «дракон есть летающий»), мы имеем перед собой вполне полноценного дракона, того же самого, что умеет и ползать. Дракон есть дракон в любом из этих трех случаев: и когда он принадлежит области пересечения двух множеств, и когда мы рассматриваем в отдельности любое из них и принадлежащего им дракона.
Именно этой возможности мы лишаемся, рассматривая совпадение так, как оно концептуализируется в логике смысла, релевантной для классической арабской культуры. Мы не можем сказать, что «утвержденность» принадлежит одновременно и «существованию» и «несуществованию». Здесь область совпадения (та, которую мы интерпретировали как область пересечения двух множеств) представляет собой некий новый смысл, который как таковой не может быть связан ни с одним из совпавших (и в этом совпадении образовавших его) смыслов через «быть». Здесь мы сталкиваемся, как будто вновь открывая его для себя, с непосредственным звучанием «связки»: она связывает и соединяет смыслы. Это же приближение к непосредственности функционирования связки позволяет преодолеть ощущение неопределенности, которое сопровождало наше рассмотрение «утвержденности». Ведь связывать можно по-разному, и самим фактом совпадения еще не определено, что связка — это непременно «быть». Как «совпадение» шире «быть», так и связка может быть иной, нежели «быть». Но этой инаковостью и определено иное соотношение связываемых смыслов, а именно то соотношение, которое и составляет содержание понятия «утвержденность».
1.1.4. Закон исключенного третьего, или импликации логики смысла для выработки аксиом формальной логики
Если ни один из смыслов, совпадение которых образует область смысла «утвержденность», не может быть связан с этим смыслом благодаря «быть», то каково отношение между ними? Утвержденность не «есть» существование, и утвержденность не «есть» несуществование. Тогда что же они в отношении утвержденности? Мы можем сказать так: существование и несуществование равно утверждены самой утвержденностью и внеположны ей.
Отталкиваясь от этого представления о внеположности, можно двигаться дальше. Утвержденность не «есть» существование (равным образом несуществование) ни внутри себя, ни вовне: так совпадение парадоксальным образом оборачивается несовпадением. Эта парадоксальность, предполагаемая утвержденностью, и оказывается столь смущающей для нашего понимания. Совпавшее не остается тем же, но становится иным; а тем же остается лишь за пределами совпадающей области. Утвержденность может перейти в существование и может перейти в несуществование. Существование и несуществование равно предполагаются утвержденностью, — но утвержденность становится существованием, только переходя за собственные пределы. Утвержденность преодолевает границы собственного смыслового поля, чтобы превратиться в существование или несуществование: эти два смысла не включены «внутрь» понятия «утвержденность».
Сделаем небольшое отступление.
Наше рассуждение прямо связано с законом исключенного третьего. Интересно, что этот закон, как правило, формулируется в виде утверждения: «А есть либо Б, либо не-Б». Но что именно это значит? Ведь такая формулировка на самом деле двусмысленна. Означает ли она, что любое «А» непременно должно быть либо «Б», либо «не-Б»? Или что «А» не может одновременно быть и «Б» и «не-Б»? Эти две формы могут быть различаемы. Это различение носит, вероятно, характер словесного для мышления, с точки зрения которого «быть» является первоосновной формой связи смыслов. Но оно существенно для мышления, с точки зрения которого смыслы соотносятся так, как мы это описываем, и для которого «быть» не является универсальной формой связи смыслов. Релевантен ли закон исключенного третьего в первой формулировке (назовем ее «императивной») для мышления классической арабской культуры, составляет по меньшей мере вопрос; во всяком случае, с примерами его нерелевантности нам еще предстоит познакомиться. Но вторая его формулировка («отрицательная») безусловно сохраняет свою правильность для логики смысла, которую мы рассматриваем, и необходимость следовать закону исключенного третьего именно в такой формулировке неоднократно подчеркивают арабские авторы классической эпохи[12]. Там, где мы встречаемся в традиции арабской мысли с тезисами, по-видимому нарушающими закон исключенного третьего, оказывается, что нарушается именно его императивная формулировка, как, например, утверждение о том, что
вещь не может двигаться или покоиться в состоянии своего возникновения [Ашари, с. 326].
Это положение является прямым отрицанием императивной формулировки этого закона. Точно так же эту формулировку прямо нарушают известные тезисы мутакаллимов, сформулированные по модели «А — не Б и не не-Б», например, «атрибуты Бога — не Его самость и не что-то иное, чем Его самость», причем так построенные тезисы не подвергаются критике как нарушающие очевидные аксиомы логики[13]. И в то же время у мутакаллимов мы встречаем совершенно определенное подтверждение закона исключенного третьего в его отрицательной формулировке с подробной разработкой ее импликаций. Это вопрос о том, может ли вещь одновременно и двигаться и не двигаться, с указанием на возможность приписать сразу оба эти состояния в разных смыслах или в одном и том же смысле, но не оба сразу:
Мутакаллимы разошлись в вопросе о том, является ли покоящееся, [находящееся] в состоянии покоя, движущимся в каком-либо отношении.
Одни говорили, что это недопустимо. Другие говорили, что такое допустимо. Например, если человек устранит свою голову от того воздуха, с которым соприкасался верхний слой (сафха) его головы, и соприкоснется с чем-то другим, то этот верхний слой его головы будет движущимся в силу того, что соприкасается [сначала] с одним воздухом, а потом с другим, и покоящимся на другом слое [головы], том, что под ним. Таким образом, он и движется от[носительно] некоторой вещи (‘ан шай’), и покоится на некоторой другой вещи. Это утверждение не является самопротиворечивым (ла йатанакад), как не самопротиворечиво и утверждение о том, что этот слой соприкасается с одним и отделен от другого в одно и то же время. Самопротиворечивым является покоиться на чем-то и двигаться от[носительно] того же в одно и то же время, так же как самопротиворечивым является соприкасаться с чем-то и быть отделенным от того же в одно и то же время [Ашари, с. 323—324].
Разница между этим рассуждением и предыдущим, запрещающим приписывать телу движение или покой в атомарный момент времени, в том числе в момент его возникновения, состоит в следующем. В том случае речь идет о возможности предицировать вещи новое качество, которым она еще не обладает, тогда как здесь исследуются свойства такого, уже предицированного вещи, качества. Если интерпретировать это в терминах логики смысла, в первом случае речь идет о построении новой логико-смысловой конфигурации, во втором — об исследовании свойств уже имеющейся. В первом случае утверждение о невозможности предицировать телу движение или покой в единичный момент времени просто означает, что смысл «движение» или смысл «покой» не могут быть сформированы в неполной логико-смысловой конфигурации: «единичный момент времени» занимает в ней место смысла второго уровня, и для того, чтобы был утвержден смысл первого уровня («движение» или «покой»), необходим и второй смысл второго уровня, то есть второй «момент времени»[14]. Во втором случае мы уже имеем смысл «движение» (или, что то же самое, «покой»), утвержденный благодаря двум смыслам второго уровня, и тезис о невозможности предицировать телу сразу и движение и покой означает, что одной и той же парой смыслов второго уровня не могут быть сразу утверждены и смысл «покой», и смысл «движение».
Я ограничиваюсь этим наблюдением, чтобы показать зависимость формально-логических аксиом от логики смысла. Эта зависимость двоякая: разные логики смысла предполагают разные, параллельные системы аксиом формальной логики; в каждом из таких случаев формально-логическая аксиоматика может быть показана как результат действия логики смысла.
Соответственно, анализ формально-логической проблематики неполон без учета логико-смысловых факторов. В частности, можно говорить о том, что в классической формулировке закона исключенного третьего не различены две его формулировки, которые, вообще говоря, не совпадают и не равнозначны. Эта неравнозначность «не заметна» с точки зрения логики смысла, характерной для западной культуры; она вполне выявляется с точки зрения той, что релевантна для арабской.
1.1.5. Логико-смысловая определенность отношений тождества, противоположности, единства и множественности. Описание логико-смысловой конфигурации как экспликация этих отношений
Вернемся к предмету нашего непосредственного внимания. Оказалось, что «существование» совпадает с «несуществованием» так, что это совпадение не является совпадением их как таковых, как остающегося самим собой «существования» с остающимся самим собой «несуществованием». Такое непосредственное совпадение было бы для разбираемой логики смысла абсурдным. Именно поэтому на области своего совпадения два противопоставляемых смысла не остаются самими собой, но превращаются в третий — и именно поэтому этот новый смысл, возникающий как совпадение двух противопоставляемых смыслов, не может быть соотнесен с ними через связку «быть».
Теперь можно иначе выразить особенность разбираемой логико-смысловой конфигурации. Она может рассматриваться как результат со-положения двух противоположных смыслов при таком понимании противоположности, которое вытекает из самой сути процедуры со-полагания. Говоря «со-положение», я имею в виду такую процедуру связывания двух смыслов, которая является как бы промежуточной между на-ложением и противо-положением, соединяя их черты. Предпосылку этой процедуры составляет представление о том, что противополагаемые смыслы совпадают, но это совпадение является частичным. Предположим, что мы, действуя в рамках допущений теории множеств, попробуем определить два множества как «противоположные». Пусть одно множество состоит из «летающих», а второе — из «нелетающих». Пока мы не привлекаем к рассмотрению никакие иные качества субъектов, включенных в наши два множества, мы не сможем найти их область пересечения: эти множества не совпадут ни в одном своем элементе. Именно потому, что никакое «летающее» «не есть» «нелетающее», эти два множества не имеют области пересечения. Это, собственно, лишь иное выражение строгой дихотомии. Но для процедуры со-положения, о которой идет речь, изначальным является представление о возможности частичного совпадения противоположного, и именно поэтому связкой смыслов здесь не может служить «быть», несовместимое с таким представлением.
Коль скоро соположение таково, что противополагаемое в нем частично совпадает, этим определены и требования к самим противополагаемым смыслам. Они не могут относиться друг к другу как строго дихотомичные, и строгая дихотомизация смыслов не оказывается интенцией разбираемой логики смысла. Эта особенность понимания противоположности проявляется в классической арабской культуре как в выборе языковых средств для выражения противополагаемых смыслов, так и в концептуализации противоположения. Пока я не говорю об этом подробно, ограничиваясь разбором импликаций процедуры смыслополагания и возникающей на ее основе логико-смысловой конфигурации для формирования базовых категориальных представлений. В этой связи отмечу, что отсутствие строгой дихотомичности противополагаемых смыслов и неприменение связки «быть» необходимо сопутствуют друг другу: именно потому, что противополагаемые смыслы не связаны между собой через строго-дихотомизирующее «не есть», они могут быть не просто противополагаемы, но со-полагаемы (частично налагаемы, или: совпадать при противоположении).
Помимо требования к противополагаемым смыслам, вытекающего из разбираемой логико-смысловой конфигурации, следует отметить и предполагаемое ею понимание единства в его соотношении с множественностью. Смысл первого уровня един в отношении к паре смыслов второго уровня. Что это именно единство в отношении к этой смысловой паре, определено тем, что смысл первого уровня и возникает, собственно, как совпадение смыслов второго уровня. Поэтому, и только поэтому можно сказать, что смысл первого уровня представляет собой единство смыслов второго уровня; что «утвержденность» является единством «существования» и «несуществования». Но особенность этого единства состоит в том, что свою множественность оно заключает не внутри себя, но полагает ее вовне. Смысл первого уровня как таковой как бы «пуст» внутри, а точнее, безусловно и абсолютно прост: в нем отсутствует какая-либо внутренняя множественность. Эксплицированная множественность этого единства располагается вне его, будучи, как говорилось, утверждаема им. Суть «утверждения», таким образом, состоит еще и в том, чтобы полагать вовне множественность своего единства, которое, повторю, как таковое (пока мы не рассматриваем утверждаемую им вовне множественность) абсолютно просто и не может быть никак «раскрыто» или каким-либо иным образом эксплицировано изнутри.
1.1.6. Мышление и его словесное выражение в их определенности логикой смысла
Ограничимся в разборе процесса вербализации и концептуализации логико-смысловой конфигурации названными тремя составляющими: пониманием связки (и, следовательно, способа предикации), противоположности и единства в его отношении к множественности. Эти три составляющие непосредственно связаны друг с другом, так что раскрытие чего-то одного предполагает и разговор о другом. Вместе с тем верно и обратное: похоже, что именно этим исчерпывается необходимая базовая вербализация и концептуализация логико-смысловой конфигурации. Иначе говоря, именно эти категории необходимы и достаточны для описания логико-смысловой конфигурации; при этом такое описание исчерпывает содержащиеся в ней возможности смыслополагания и тем самым закладывает основу для дальнейшего смыслоформирования. Оно является, таким образом, шагом от логико-смысловой конфигурации к вербализованному смыслопостроению. Дело обстоит так, как если бы словесное мышление (выражаемые в словах мысли) было лишь развитием и подробным раскрытием возможностей, уже заложенных в логико-смысловой конфигурации[15]. Оно, таким образом, в весьма существенном смысле предопределяется логикой смысла.
Стоит отметить и другой аспект. Я говорил, каким образом понимание противоположности, единства и множественности, связки (что связано со способом предикации) определено логико-смысловой конфигурацией. Отправляясь от интуиции способа конфигурирования смыслов, я приходил к пониманию всех этих категорий. Дело обстоит — во всяком случае, в пределах проведенного анализа — так, что изначальная интуиция способа совмещения смыслов диктует и понимание этих категорий, которые являются не чем иным, как вербализацией и концептуализацией таких интуитивных представлений. То, как мы мыслим, определено «избранной» нами логикой смысла, — избранной, конечно же, бессознательно, унаследованной от той культурной традиции, в которой мы воспитаны. Мы не можем выйти за ее пределы (во всяком случае, до тех пор, пока не предпримем сознательно направленных на это усилий), и наше понимание смысловых образований, созданных согласно иной логике смысла, будет искажено настолько, насколько нам не удастся учесть ту, иную, логику смысла и ее значение для формирования смысловых структур, на которые направлено наше внимание.
1.2. Вопрос о связке
1.2.1. Связка в арабском языкознании
Данная наука пользовалась в интересующую нас эпоху необыкновенным вниманием интеллектуалов. Выдающиеся умы подвизались на этом поприще, и их усилиям мы обязаны возможностью следить за тонкостями одной из наиболее усложненных и стройных теорий, созданных классической арабской цивилизацией. Говоря о классическом арабском языкознании (или даже шире — об арабской филологии) как о единой науке, я, конечно, не имею в виду, что между ее представителями вовсе не было никаких споров. Теоретический анализ арабского языка, начало которому положила знаменитая «Книга» (Китаб) Сибавайхи, развивался через традицию комментирования, оставлявшую достаточное место для развития, уточнения или оспаривания взглядов предшественника. И все же эта наука, несмотря на дискуссию не только отдельных ее представителей, но и целых школ, оставалась единой в том смысле, что сохранила основания, заложенные ее создателями: развивалось и уточнялось воздвигаемое на них здание, сам фундамент остался по существу неизменным.
Классическое арабское языкознание представляло собой развитую теорию, в которой арабский язык был описан во всех деталях. Для нас важно, что это описание оперировало инструментарием, который применялся и в других областях теоретической деятельности, в частности, таких, как фикх или философия[16]. Обратившись к этой науке с вопросом: «Как в арабском языке выражается связка?», — можно надеяться услышать ответ, отражающий то понимание проблемы связки, которое вполне адекватно собственным интенциям смыслопостроения классической арабской интеллектуальной культуры. А это свидетельство крайне важно: мы таким образом сможем соотнести чисто логический разбор, проведенный выше, с авторефлексией арабской традиции над теми же проблемами.
В классическом арабском языкознании, впрочем, не употребляется, насколько можно судить, сам термин «связка» (рабита) так, как он употребляется в философии. Вместе с тем подход этой науки к проблеме связки невозможно игнорировать. Для его описания изберем рассуждение Ибн Хишама, который в своем труде Мугни ал-лабиб ‘ан кутуб ал-а‘ариб «Заменяющий проницательному книги по и‘рабу» обращается к идеям ал-Муфассал «Подробное изложение» аз-Замахшари. Я дам изложение интересующего нас взгляда, после чего приведу соответствующую цитату из текста Ибн Хишама полностью, чтобы читатель мог при желании сам судить о степени адекватности моего анализа.
Ибн Хишам касается интересующего нас вопроса в контексте обсуждения типологии фраз (джумла). Эта типология, как она была разработана арабским языкознанием, также представляет интерес, и я буду говорить о ней чуть позже. Пока же обратим внимание на вопрос о связке как таковой.
Ибн Хишам анализирует приводимый аз-Замахшари пример фразы фи ад-дар Зайд «в доме Зейд». Нетрудно заметить, что связка в этой фразе не выражена явно. Приблизительно то же наблюдение делает и арабская грамматическая теория. Вопрос в том, как эта ситуация будет разрешена.
Нам представляется естественным взгляд, согласно которому опущенная связка должна быть восстановлена с помощью глагола «быть». Преобразование «в доме Зейд» Þ «в доме [есть] Зейд» отражает такое представление. Именно глагол «быть» является, с этой точки зрения, универсальным выразителем связки, совершенно независимо от того, необходимо согласно грамматике конкретного языка его явное упоминание или же он может быть опущен. Попытка избавиться от «ненужной» и «надуманной» метафизики была, как известно, предпринята в западной традиции именно на основе критики гипостазирования связки, выражаемой глаголом «быть». Независимо от того, соглашаемся мы с этой критикой или нет, нельзя не признать безусловную правоту защитников этой позиции в том плане, что проблема бытия и онтология как философская дисциплина невозможны в том виде, в каком они сложились в западной традиции, если связка не мыслится как «быть». Конечно, дело не только в этом языковом факте, но и в том, что с ним прямо соотносится, — в представлении о «быть» и «бытии» как той последней характеристике вещи, которая не может быть у нее отнята без уничтожения самой возможности говорить об этой вещи. Приписывание «бытия» чему бы то ни было — то первое, что необходимо, чтобы это нечто вошло в поле нашего зрения и стало предметом нашего разговора. Как можно бытийствовать, каково соотношение между бытием и небытием и прочие философские вопросы — уже разработка этой проблематики, возможная после установления фундаментального значения «быть».
Сравним эти, кажется, тривиальные положения с тем, что сообщает нам арабское языкознание в лице упомянутых авторов.
Аз-Замахшари и комментирующий его взгляды Ибн Хишам находят в рассматриваемой фразе «в доме Зейд» то, что они называют термином «опущенная незыблемость» (истикрар махзуф). Эта «опущенная незыблемость», однако, является необходимым элементом фразы и потому может восстанавливаться. Как таковая, то есть как необходимая и предполагающая возможность своего восстановления, она называется «подразумеваемой незыблемостью» (истикрар мукаддар). Я перевожу термин истикрар словом «незыблемость», чтобы номинально отличить его от слова «утвержденность», которое использовано для перевода термина субут; вместе с тем трудно избежать по крайней мере предположения, что «утвержденность» и «незыблемость» принадлежат одному понятийному ряду.
Как бы ни обстояло дело с отождествлением истикрар и субут, «незыблемости» и «утвержденности», во всяком случае обращает на себя внимание тот факт, что «подразумевается» и «восстанавливается» в данном случае не «бытие», а нечто иное. В силу принципиальности этого положения мы нуждаемся, конечно же, помимо словесного (языковая близость терминов «утвержденность» и «незыблемость»), в ином доказательстве, которое могло бы решающим образом подтвердить высказанное предположение. Таковым с моей точки зрения является следующее. «Опущенная незыблемость», как пишут наши авторы, может восстанавливаться и как глагол, и как имя; и то и другое имеет тот же корень, что сам термин «незыблемость» (истикрар). В первом случае мы получаем истакарра «обрел незыблемость», во втором мустакирр «незыблемый» [Ибн Хишам, с. 492, 498].
Проявим осторожность и не будем спешить отождествлять восстановление «незыблемости» с восстановлением связки: вопрос о том, действительно ли восстановлена именно связка, пока не решен. Но во всяком случае сказанное ясно свидетельствует о следующем. Сам способ восстановления «незыблемости» таков, что исключает возможность понять ее как указание на связку «быть». Это легко доказывается от обратного.
Попытаемся интерпретировать текст так, как если бы его авторы действительно подразумевали, пусть неявно, связку «быть». Рассмотрев исходную фразу «в доме Зейд» с «восстановленной незыблемостью» в двух ее вариантах, мы без труда заметим, что связка на самом деле не восстановлена ни в одном из них, — если ожидать ее восстановления как «быть». В самом деле, во фразе Зайд мустакирр фи ад-дар «Зейд незыблемый в доме» по-прежнему не хватает связки «быть». С этой точки зрения вовсе нет никакой разницы между «Зейд в доме» и «Зейд незыблемый в доме»: если мы станем восстанавливать в первой фразе связку «быть», мы ее восстановим точно так же, как во второй, получая соответственно «Зейд есть в доме» и «Зейд есть незыблемый в доме», так что вторая фраза отличается от первой лишь добавлением еще одного акцидентального признака (качество «незыблемый») наряду с уже упомянутым в первой фразе (место «в доме»). С точки зрения мышления, для которого «быть» является универсальной и наиболее фундаментальной (что всего лишь два способа выразить одно и то же) формой связи смыслов, мустакирр «незыблемый» не может претендовать на роль связки еще и потому, что попадает в разряд одной из десяти аристотелевских категорий, а не стоит в равном отношении ко всем им. То же касается и восстановления связки с помощью глагола «обрести незыблемость»: истакарра фи ад-дар Зайд «Зейд обрел незыблемость в доме» на самом деле не восстанавливает связку «быть», поскольку предполагает возможность восстанавливающего связку перевода в «Зейд есть обретший незыблемость в доме».
Мы можем зафиксировать следующее. В качестве того, что «опускается» и «восстанавливается», делая структуру фразы неполной, наши авторы рассматривают «незыблемость» (истикрар), а не какой-либо из возможных вариантов глагола «быть» (йакун, йуджад) или производных от них слов. Этот вывод хорошо согласуется с наблюдением, которое мы сделали, разбирая положение мутакаллимов об «утвержденности вещей как вещей до их существования»: «утвержденность» как выражение совпадения вещи с самой собой, то есть как наиболее чистый и бесспорный случай употребления связки, не является «бытием». Мы можем предположить, что «незыблемость», о которой говорят аз-Замахшари и Ибн Хишам, как-то связана с тем отношением между смыслами, что выражено как «утвержденность» в разбиравшемся нами высказывании мутакаллимов.
Но действительно ли эта «незыблемость» равна связке, действительно ли она выражает связку? Я ограничивался отрицательным выводом, говоря, что восстановление «незыблемости», которое мыслится арабскими грамматиками как восполняющее структуру фразы до минимально необходимой для ее осмысленности, выполняется ими так, что исключает представление о связке как о выраженной глаголом «быть». Отметим теперь следующее. В разобранном примере «незыблемость» восстанавливается в глагольной и именной формах. Это не случайно: согласно арабской грамматике, таковы два далее несводимые вида фраз. (Хотя некоторые авторы расширяли список, эти два фигурируют как минимальный набор типов фраз.) Фраза «в доме Зейд» с точки зрения арабской грамматики является принципиально неполной. Это означает, что она не является одной фразой. «В доме Зейд» — это две несводимые друг к другу фразы, случайно совпавшие в своей усеченной форме, но расходящиеся в полной (мукаддар «восстанавливаемой»).
Таким образом, «незыблемость», о которой наши авторы говорят как об опущенной во фразе «в доме Зейд» и как о восстанавливаемой в двух формах, именной и глагольной, — это не собственно связка, но тот необходимый элемент структуры фразы, который превращает ее в тот или иной из двух возможных и несводимых друг к другу типов фраз. Что наши авторы избирают в качестве опущенного и восстанавливаемого элемента именно незыблемость, а не какой-то вариант глагола или имени, выражающего смысл бытийствования, служит здесь дополнительным, а не решающим аргументом в пользу контраста оснований этого рассуждения с представлением о связке как о «быть». Опущенный и восстанавливаемый элемент должен, конечно, быть минимально информативным, и только поэтому нам может быть интересно, что именно способно выполнить такую роль. Если я прав, то «незыблемость», столь близкая к «утвержденности», выполняет роль минимальной содержательной наполненности (и, напротив, максимальной абстрактности, отвлеченности от конкретного содержания) для рассматриваемого нами мышления гораздо лучше, чем глагол или имя, выражающие бытийствование (например, «существует» или «существующий»). Это вполне согласуется с общим представлением о том, что утвержденность выражает для классического арабского мышления способ представленности вещи, максимально лишенный всякого конкретного содержания.
Что и «бытие» в западной традиции (если вести речь о тех ее направлениях, которые отличают бытие от существования) выражает такую же максимальную очищенность от конкретного содержания и столь же минимально информативный способ представить вещь как наличную для нас, вовсе не служит аргументом в пользу того, что «утвержденность» и «бытие» различаются лишь номинально, совпадая по существу. Такую позицию выражают (или наверняка выразят) многие историки философии и философы. Здесь представляется удобный случай, чтобы рассмотреть ее. Что «бытие» и «утвержденность» выполняют схожую функцию, давая представление о вещи в ее максимальной очищенности от конкретного содержания, вполне признаю и я. Но все дело в том, что на этом нельзя остановиться, как то делают оппоненты. Необходимо задать следующий вопрос: как можно очистить нечто от конкретного содержания, как можно представить вещь как наличную в ее максимальной абстрактности? Отличие моей позиции от позиций оппонентов состоит в том, что последние не видят или не признают возможности принципиально различных и несводимых друг к другу путей выполнения этой как будто одной и той же функции. Но именно это ставит в центр внимания развиваемая здесь теория. Именно потому, что содержание (осмысленность) слова или понятия формируется существенно разными путями, оно может быть устранено существенно различными способами. Это означает, среди прочего, что процедуры обобщения будут в таких случаях различаться. Поскольку речь идет о различии способов формирования содержания, я называю такое различие процедурным.
Теперь мы можем описать действительный контраст рассмотренных здесь построений с теми, что исходят из понимания связки как «быть». Для последних фраза «в доме Зейд» — это принципиально одна фраза, и, как бы ни восстанавливались другие ее элементы, которые будут сочтены опущенными, все варианты восстановления в любом случае могут быть сведены к единому исходному для них виду — «в доме есть Зейд». Но для представлений, развитых арабской грамматикой, «в доме Зейд» — это две фразы, которые не могут быть сведены друг к другу. Такой вывод не может быть поддержан, если связка мыслится как «быть». И дело, повторю еще раз, не в номинальных расхождениях между «быть» или его возможными арабскими переводами, с одной стороны, и «утвержденностью» — с другой, а в самой логике рассуждения: два типа фраз не могут быть поняты как несводимые друг к другу, если связка трактуется как «быть». Между тем такая несводимость устойчиво фигурирует в арабских грамматических теориях; она-то и составляет действительный контраст представлению о связке, выработанному в западной традиции. Забегая вперед, отмечу, что тезис о независимости двух типов фраз оказывается в арабской грамматической теории неустранимым потому, что выражает два типа формирования осмысленности благодаря иснад «опиранию», — процедуре, подробный анализ которой у нас впереди (см. Глава II, § 1.3.1. Случайна ли именная форма связки в арабском?, в частности § 1.3.1.1. Интерпретация связок хува «он» и лайса [хува] «не [он]» как выражающих идею «бытия» и далее; об онтологических импликациях этой проблематики см. Глава II, § 1.4.3.1. Термин «оность» как таковой).
Теперь я привожу полностью обещанную выдержку из текста Ибн Хишама, посвященную вопросу о типологии фраз. Заинтересованный читатель сможет таким образом в целостном контексте оценить правильность предложенной интерпретации.
Деление фраз на именные, глагольные и фразы
обстоятельства.
Именная (’исмиййа) [фраза] — та, что открывается именем, например, Зайд ка’им «Зейд стоящий», хайхат ал-‘акик «вон то[17] халцедон», ка’им аз-Зайдан «стоящие два Зейда» — у тех, кто такую [фразу] считает допустимой, а это ал-Ахфаш и куфийцы.
Глагольная (фи‘лиййа) [фраза] — та, что открывается глаголом, например, кама Зайд «встал Зейд», дуриба ал-лисс «побит разбойник», кана Зайд ка’иман «был Зейд стоящим», зананту-ху ка’иман «я считал, что он стоит», йакум Зайд «стоит Зейд», кум «встань» [Ибн Хишам, с. 492].
Прервем здесь цитату, чтобы сделать следующее наблюдение относительно упомянутой Ибн Хишамом фразы кана Зайд ка’иман «был Зейд стоящим», в которой употреблен глагол кана «быть» в прошедшем времени. Ничто не изменилось бы, если бы он стоял в настоящем: йакун Зайд ка’иман «Зейд есть стоящий» (при буквальном переводе «есть» должно идти перед «Зейд», но в такой редакции фраза по-русски просто не читалась бы). В таком случае эта фраза была бы прямо сопоставима с упомянутой выше, в разделе «именных фраз», фразой «Зейд стоящий», и отличалась бы от нее только наличием йакун «есть». Если бы это «есть» было не более чем опущенной и восстановленной связкой, то фраза, в которой она опущена, и фраза, в которой она восстановлена, безусловно были бы отнесены арабской грамматической теорией к одному классу фраз, более того, считались бы одной и той же фразой, как то ясно из многочисленных примеров применения в арабском языкознании теоретического приема такдир «восстановление опущенного члена», а на сам факт этого опущения и восстановления (то есть на такдир) теория непременно бы указала. Отсутствие этого свидетельствует, что названные две фразы не воспринимаются как фразы с опущенной и восстановленной связкой, что служит еще одним подтверждением моего тезиса: глагол «быть» не воспринимается арабским языковым мышлением и арабским языкознанием как выражение связки.
Теперь можно продолжить цитату:
[Фраза] обстоятельства (зарфиййа) — та, что открывается обстоятельством (зарф) или тащимым (маджрур)[18], например, ’а-‘инда-ка Зайд «у тебя ли Зейд?» и ’а-фи ад-дар Зайд «в доме ли Зейд?», если считать, что Зайд «Зейд» управляет обстоятельством, тащащим (джарр) и тащимым, а не опущенной утвержденностью (истикрар махзуф) и не является началом [фразы] (мубтада’), сказуемое которого — эти два (то есть обстоятельство и джарр-маджрур. — А. С.). В качестве примера к этому аз-Замахшари приводил фи ад-дар «в доме» из фи ад-дар Зайд «в доме Зейд», основываясь на том, что восстанавливаемая утвержденность (истикрар мукаддар) является глаголом, а не именем и что опущена лишь она одна, а местоимение перешло в обстоятельство, управляя им.
Аз-Замахшари и другие добавляли еще фразу условия (джумла шартиййа). Однако правильным будет считать ее относящейся к глагольным фразам, как то будет показано.
Напоминание (танбих): под «началом фразы» (садр ал-джумла) мы подразумеваем опираемое (муснад) или то, на что опирают (муснад илай-хи)[19], так что дело не изменится от того, что им будут предшествовать какие-либо частицы (харф)[20]. Поэтому такие фразы, как ’а-ка’им аз-Зайдан «неужели стоят два Зейда?», ’а-Зайд ’аху-ка «неужели Зейд твой брат?», ла‘алла ’аба-ка мунталик «вероятно, твой отец ушел», ма Зайд ка’иман «Зейд не стоящий (букв. порядок слов: не Зейд стоящий. — А. С.)» — именные, а такие, как ’а-кама Зайд «неужели встал Зейд?», ’ин кама Зайд «если встанет Зейд», кад кама Зайд «уже встал Зейд», халла кумта «неужели не встал ты?» — глагольные.
Мы, далее, рассматриваем, чем открывается [фраза] в основе (фи ал-’асл)[21], так что фразы типа кайфа джа’а Зайд «как пришел Зейд?», а также фа-’айй ’айат ’аллах тункирун «из знамений Божиих которое вы отвергнете?»[22], фа-фарикан каззабтум ва фарикан тактулун «одних считали вы лжецами, других и убивали»[23], хушша‘ан абсару-кум йахруджун «они с потупленными очами выйдут»[24] — глагольные, поскольку эти имена имелось намерение[25] поставить после [глаголов]. Точно так же [глагольными являются] и фразы типа йа ‘абд ’аллах «о Абдалла!», ва-’ин ’ахад мин ал-мушрикин истаджара-ка «если кто-нибудь из многобожников попросит у тебя себе убежища»[26], ва ал-ан‘ам халака-ха «и скот Он создал»[27], ва ал-лайл ’иза йагша «[клянусь] ночью, когда она темнеет»[28], ибо они в основе (’асл) открываются глаголами, восстанавливается же [основа] (такдир) так: ид‘у Зайдан «позовите Зейда», ’ин истаджара-ка ’ахад «если попросит у тебя убежища кто-нибудь», халака ал-ан‘ам «Он создал скот», ’уксим ва ал-лайл «клянусь ночью» [Ибн Хишам, с. 492—493].
1.2.2. Связка в арабском перипатетизме и ишракизме
Рассмотрим теперь, как понималась связка в арабской философии. Грамматики, о взглядах которых мы говорили, не употребляют самого термина «связка». Он появляется в своей явной форме в сочинениях представителей арабского перипатетизма, излагающих положения аристотелевской логики. Вот что пишет по этому вопросу Ибн Сина:
Необходимо знать, что каждому предикативному суждению (кадиййа хамлиййа) надлежит (хакку-ху) иметь, наряду со смыслами[29] предиката (махмул) и субъекта (мавду‘), также смысл сочетания оных, каковой является третьим после этих двух. Если захотеть, чтобы смыслам по их числу соответствовали выговоренности, то и этот третий [смысл] должен получить выговоренность, которая указывала бы на него. В некоторых языках она опускается, как, вообще говоря (’аслан)[30], в арабском. Так, мы говорим Зайд катиб «Зейд пишущий», надлежит (хакку-ху) же говорить Зайд хува катиб «Зейд он пишущий». А в некоторых языках ее нельзя опустить, как, например, в персидском. Мы говорим Зайд дабир аст «Зейд есть пишущий». Эта выговоренность (лафза) именуется «связкой» (рабита) [Ибн Сина 1960, с. 285—286].
Оставим в стороне то, что Ибн Сина говорит о персидском языке, поскольку нас в данном случае интересует арабский. Мы заметим в его изложении то же, что заметили выше, говоря о понимании связки в арабском языкознании: то, как восстанавливает связку Ибн Сина, вовсе не восстанавливает ее для мышления, считающего связкой «быть». «Зейд он пишущий» все еще требует восстановления связки «Зейд он есть пишущий». Более того, в примерах, приводимых Ибн Синой, это несовпадение с ожиданиями, сформированными мышлением, для которого «быть» — первоосновная форма связи смыслов, выступает гораздо более явственно, нежели в разбиравшемся примере из арабского языкознания. Во-первых, потому, что рядом он приводит пример из персидского языка, где употребляет именно связку «быть», а значит, употребление чего-то иного, нежели глагола «быть», в арабской фразе, иллюстрирующей то же самое положение, что и персидская, должно быть чем-то оправдано: такая асимметрия примеров не может быть случайной. Во-вторых, потому, что Ибн Сина употребляет уже не глагол и не однокоренное с ним имя действователя, как то делали грамматики. Вместо этого он употребляет местоимение хува «он»[31], что исключает какую-либо возможность перетолковать так восстанавливаемую связку как «быть».
Можно было бы представить, что связка в Зайд катиб «Зейд пишущий» могла бы быть восстановлена с помощью одного из двух арабских глаголов, как будто претендующих на эквивалентность глаголу «быть»: йакун и йуджад. Мы бы имели: йакун Зайд катибан и йуджад Зайд катибан. Подобная вставка глаголов «быть» позволяется арабской грамматикой, эти фразы легко могут быть построены и не будут ошибочными или неестественными для арабского языка. Но все дело в том, что в результате в обоих случаях мы получаем фразу, которая не эквивалентна исходной (Зайд катиб). Иными словами, сказать по-арабски «Зейд есть пишущий» можно, это не запрещено грамматикой, но эта фраза — иная, нежели «Зейд пишущий». В случае, когда мы имеем дело с арабским языком, в результате такой подстановки (Зайд катиб Þ йакун Зайд катибан) изменится структура фразы: слово катиб получит винительный (насб), а не именительный (раф‘) падеж, а вся фраза вместо именной станет глагольной, причем во втором случае Зайд будет играть иную роль, нежели в первом. Если воспользоваться понятием «грамматическое значение», то следует сказать, что в результате такой операции лексические значения единиц фразы сохранятся, однако изменятся их грамматические значения. Но этого никак не подразумевает логика понимания связки: ее опущение или восстановление в языках, в которых она факультативна, ничего не меняет по существу в структуре фразы[32]. А для того, чтобы сохранить эквивалентность исходной фразе (Зайд катиб «Зейд пишущий»), связку приходится восстанавливать таким образом, который никак не совпадает с указанием на «бытие».
В том, что именно хува «он» употреблено здесь Ибн Синой вовсе не случайно, мы убедимся позже, когда будем рассматривать аналогичные представления в других школах арабской философии. Пока достаточно констатировать и в этом случае принципиальное несовпадение связки, как она восстанавливается для арабского языкового мышления — уже не только собственно в языке и языкознании, но и в изложении основ аристотелевской логики, — со связкой, выражаемой глаголом «быть». Между тем читатель может не сомневаться, что в имеющихся переводах на русский язык этот факт не только не будет отражен, но, более того, окажется тщательно замаскирован. Вот что мы читаем, например, в русском переводе «Указаний и наставлений»:
Необходимо знать, что в действительности в каждом категорическом высказывании, кроме наличия предиката и субъекта, присутствует также еще одно — третье значение, — соединяющее между собой эти два понятия. Объем каждого понятия должен быть обозначен определенным словом, поэтому это третье значение также следует выражать каким-нибудь словом.
В некоторых языках это третье значение опускается, как оно иногда совсем опускается в языке арабов, как, например, в нашей фразе: «Зейд — писец». В действительности же должно быть сказано: «Зейд есть писец». В некоторых других языках его совершенно невозможно опустить, как, например, нельзя опустить в чистом персидском языке слово «аст» в нашем высказывании: «Зейд дабир аст»[33]. Подобное слово называется связкой [Ибн Сина 1980, с. 248][34].
Параллель разобранному авиценновскому высказываю встречаем и у ас-Сухраварди в его главном труде «Мудрость озарения»:
Знай, что каждому предикативному суждению надлежит (мин хакки-ха) иметь субъект, предикат и соотнесенность (нисба) меж ними, которая может быть признана истинной или ложной. Именно благодаря этой соотнесенности суждение и является суждением. Выговоренность, указывающая на эту соотнесенность, именуется связкой (рабита). В некоторых языках она может быть опущена и заменена какой-то фигурой (хай’а), дающей знать об этой соотнесенности, как, например, в арабском: Зайд катиб «Зейд пишущий»; а может быть приведена, например, Зайд хува катиб «Зейд он пишущий» [Сухраварди 1952, с. 25—26].
Этот текст фактически повторяет положения авиценновских «Указаний и наставлений», что избавляет от необходимости его подробного разбора. Вместе с тем устойчивость этого положения о связке, столь контрастирующая с нашими вполне естественными и закономерными ожиданиями, не может не заставить задуматься о причинах этого контраста. Говоря об устойчивости, заметим, что ас-Сухраварди воспроизводит сказанное Ибн Синой не просто потому, что считает того своим идейным наставником: не составило бы труда указать примеры разительного расхождения в их текстах, а значит, и здесь это единство лежит глубже содержательного различия философем, выработанных двумя мыслителями.
1.2.3. Отрицательная связка в арабском языкознании, перипатетизме и ишракизме
Если в качестве утвердительной связки используется хува «он», не являющееся глаголом, то что служит отрицательной связкой? Фразу «Зейд не есть пишущий» мы перевели бы на арабский как лайса Зайд катибан. Между лайса Зайд катибан (наш перевод для «Зейд не есть пишущий») и йакун Зайд катибан («Зейд есть пишущий») наблюдается структурное соответствие: две фразы грамматически идентичны за исключением того, что лайса стоит на месте йакун. Это заставляет предположить, что лайса следует переводить как «не есть», считая это слово отрицательным глаголом, соответствующим утвердительному йакун («есть»). Именно так представляют себе лайса многие, если не большинство, изучающих арабский язык. И не только они. В своем исследовании связок в арабском и их философского осмысления Ф. Шехади пишет об интересующем нас здесь лайса:
Лайса — отрицательная связка, равная «не», или «не есть»[35],
считая тождественность этих двух форм, «не» и «не есть», само собой разумеющейся и вовсе не оговаривая даже возможности разногласия на этот счет. Правда, в арабско-русском словаре Х. П. Баранова мы встречаем перевод лайса, который заставляет усомниться в таком отождествлении: его автор ставит «есть» в скобки, переводя «не (есть), не имеется, нет»[36]. Пожалуй, нам придется заглянуть в словарь Ибн Манзура, чтобы узнать, как средневековая лексикография представляет себе это слово. Большая часть весьма обширной статьи, описывающей корень л-й-с [Ибн Манзур], отведена именно лайса. Воспользуемся материалом, который излагает Ибн Манзур, и суммируем высказывания по данному вопросу виднейших представителей классического арабского языкознания, таких, как ал-Халил, Сибавайхи, ал-Киса’и, ал-Лайс, ал-Азхари, Ибн ал-’Асир и др.
Суть их взглядов сводится к следующему. Лайса — это «частица исключения» (харф истисна’), подобная частице ’илла («кроме», «помимо»). Лайса не является глаголом, показателем чего служит отсутствие у нее формы настояще-будущего времени, имени действователя, масдара, а также тот факт, что лайса не участвует в словообразовании (иштикак) и не спрягается (тасарруф) так, как спрягаются прочие глаголы. Вместе с тем лайса стали спрягать по форме глаголов прошедшего времени, образовав от нее формы женского рода, множественного и двойственного числа. Поэтому некоторые грамматики, характеризуя лайса и говоря, что это — «отрицательное слово» (калимат нафй), добавляют «и глагол прошедшего времени», указывая на то, что лайса управляет другими членами предложения так же, как ими управляют такие глаголы, ставя имя в именительном, а сказуемое (хабар) в винительном падеже; с подобного примера, кстати говоря, мы и начали наш разбор лайса. Правда, и здесь у лайса наблюдается аномалия, поскольку лайса, в отличие от глаголов, может управлять своим сказуемым и прямо, и с помощью предлога би- (можно сказать лайса мунталикан и лайса би-мунталик «он не отправился») и, в отличие от других подобных глаголов, лайса не может быть поставлена после своего сказуемого. Я не хотел бы вставать на рискованный путь и выстраивать непрофессиональные филологические гипотезы, но трудно отделаться от впечатления, что слово лайса, бывшее изначально лишь отрицательной частицей, приобрело (в силу ли созвучия, в силу ли других причин) в языковой практике некоторые свойства глагола прошедшего времени. При этом «родословная» лайса постоянно дает о себе знать, поскольку все без исключения цитируемые Ибн Манзуром авторы, даже те, кто описывает лайса как глагол прошедшего времени, приводят наряду с этим примеры, в которых это слово функционирует исключительно как отрицательная частица (например, кама ал-кавм лайса ’аха-ка «встали все, кроме твоего брата» или кама ал-кавм лайси «встали все, кроме меня» — здесь лайса выступает в роли отрицательной частицы ’илла), причем таких примеров употребления лайса подавляющее большинство. Интересна в этой связи и этимология лайса. Как считает ал-Халил, это слово возникло в результате стяжения сочетания ла-’айса, что доказывается наличием поговорки ’и’ти-ни би-хи мин хайсу ’айс ва лайс и синонимичной джи’ би-хи мин ’айс ва лайс «доставь мне это как таковое и не таковое», то есть — принеси во что бы то ни стало (ср. наше «доставь живым или мертвым»).
Я указываю на эту этимологию не только из желания посвятить читателя в интересный филологический материал, но также и потому, что она вводит в поле зрения слово ’айс, с которым нам еще предстоит встретиться. Как же понимается ’айс? В статье, посвященной лайса, Ибн Манзур приводит следующее объяснение выражения мин хайсу ’айс ва лайс в процитированной поговорке: мин хайсу хува ва лайса хува «там, где он и не он», на что я, собственно, и опирался, переведя ее как «доставь мне это как таковое и не таковое». Интересно, что ’айс, чистым отрицанием которого является, согласно этимологии наших авторов, лайса, трактуется здесь как хува — то есть именно так, как Ибн Сина и ас-Сухраварди восстанавливают утвердительную связку. Если это так, то лайса должна пониматься именно как чистое отрицание утвердительной связки, а поскольку таковая не является глаголом «быть», то и лайса не должна восприниматься как глагол «не быть».
Правда, в статье, посвященной обсуждению слова ’айс [Ибн Манзур], мы встречаем следующее уточнение. Ал-Лайс считал ’айс «мертвым словом», тогда как ал-Халил сообщал, что оно употребляется, но только в данном сочетании, с лайса. В этой статье дается более развернутое определение ’айс: ма‘на-ха ка-ма‘на хайсу хува фи хал ал-кайнуна ва ал-вуджуд «смысл ’айс — тот же, что смысл [выражения] “там, где он в состоянии возникновения и нахождения”», а ла-’айса (отрицание ’айс, из которого и произошло, согласно гипотезе ал-Халила, интересующее нас лайса) объясняется как ла-вуджда «отсутствие обладания» (если считать вуджд означающим, согласно Ибн Манзуру, йасар ва си‘а «легкость и нестесненность», некое положительное качество) или «отсутствие нахождения» (если считать вуджд синонимом видждан). К этим особенностям понимания слова ’айс мы еще вернемся в дальнейшем.
Суммируя материал, представленный Ибн Манзуром, можно утверждать, что лайса понимается не как глагол «не быть», а как чистая отрицательная частица. Именно этот взгляд подтверждается Ибн Синой. Он называет лайса «отрицательной частицей» (харф силб; ср. с классификацией лайса как харф истисна’ «частица исключения» Ибн Манзуром вслед за цитируемыми им авторами), прилагая это название к лайса наряду с частицей гайр («не-»). Для него лайса является простым отрицанием, которое само по себе не выполняет функцию восстановления связки. Восстанавливаемая связка оказывается той же, что в утвердительном высказывании, а именно хува «он». Таким образом, лайса хува следует переводить как «не он» (например, «Зейд не он пишущий»), причем такая фраза для нас по-прежнему требует восстановления связки, коль скоро связкой служит «быть».
Ибн Сина говорит о «частицах отрицания» (гайр и лайса) совокупно, до и после уже процитированного рассуждения об утвердительной связке; заметим, что и то и другое он называет именно «частицами», которые могут присоединяться к связке хува «он»:
[Предикативное суждение] может быть составлено из частицы отрицания, [соединенной] с чем-то другим, например, Зайд хува гайр басир «Зейд он не-зрячий[37]». Под гайр басир «не-зрячий» мы подразумеваем «слепой» или более общий смысл. В целом же гайр «не-» вместе со «зрячий» и тому подобным [сначала] делаются чем-то одним, а [уже] потом ты это утверждаешь или отрицаешь, так что гайр «не-», и вообще отрицательная частица, становится частью предиката. Если все совокупно утверждается, то это — утверждение, а если отрицается — отрицание, как, например, Зайд лайса гайр басир «Зейд не не-зрячий»[38]…
Если частица отрицания привходит к связке, например Зайд лайса хува басиран «Зейд не он зрячий», то отрицанию подвергается утверждение (иджаб)[39], оно снимается и ликвидируется. Если же связка привходит к частице отрицания, она делает ее частью предиката, и суждение становится утвердительным, например: Зайд хува гайр басир «Зейд он не-зрячий». Она (частица отрицания. — А. С.) может быть удвоена, например: Зайд лайса хува гайр басир «Зейд не он не-зрячий». Первая привходит к связке, отрицая [ее], а ко второй привходит связка, делая ее частью предиката. Суждение, предикат которого таков, именуется «трансформированным» (ма‘дула), «измененным» (мутагаййира) или «недостигнутым» (гайр мухассала) [Ибн Сина 1960, с. 284—287][40].
Еще более категоричен ас-Сухраварди, который говорит о «разрыве связки» в результате употребления лайса:
Отрицательной (салиба) [соотнесенностью между субъектом и предикатом][41] является та, в которой отрицание разрывает связку. В арабском языке отрицание, дабы отрицать связку, должно стоять перед ней, например: Зайд лайса хува катибан «Зейд не он пишущий». Если со связкой свяжется и само отрицание, став таким образом частью одной из двух его (суждения. — А. С.) частей, то связь после этого останется утвердительной. Например, по-арабски можно сказать: Зайд хува ла-катиб «Зейд он не-пишущий», и связь останется той же; здесь отрицание сделалось частью предиката, и такое суждение является утвердительным (муджаба)[42] и именуется трансформированным (ма‘дула) [Сухраварди 1952, с. 25—26].
Таким образом, ас-Сухраварди подтверждает, что лайса — только отрицание связки, но не сама отрицательная связка; лайса требует восстановления связки в виде все того же хува «он». Еще более определенным является пример, в котором субъект выражен не одним словом, а словосочетанием, например, кулл ’инсан «каждый человек». В арабском такое словосочетание служит обычной формой выражения понятия «все», или «каждый» (ср. «everybody»). Если бы лайса являлась отрицательным глаголом «не быть», ее употребление с таким субъектом, очевидно, отрицало бы субъект целиком, как в соответствующей русской или английской фразах «каждый не есть пишущий» («все не суть пишущие») и «everybody is not writing». Оказывается, однако, что в арабском лайса отрицает только первую из двух составляющих такого сложного субъекта, так что переводом будет служить «не каждый [есть] пишущий» или «not everybody [is] writing»:
Если говорят: лайса кулл ’инсан катибан «не каждый человек — пишущий», то тем самым допускают, что часть [людей] является пишущими, ибо здесь несомненным является отрицание только части. Если сказать: лайса ла-шай’ мин ал-’инсан катибан «не никто из людей [не][43] пишущий», то допустимо, что часть [их] пишет [Сухраварди 1952, с. 26—27].
Здесь совершенно очевидно, что лайса выступает в качестве чистой отрицательной частицы. Ас-Сухраварди не поясняет, является ли условием такого функционирования лайса ее постановка перед субъектом и будет ли лайса восприниматься так же, если она стоит после него, например, кулл ’инсан лайса катибан. Вероятно, в таком случае лайса будет отрицать связку (которая, впрочем, все равно останется внеположной лайса, поскольку в таком случае мы получаем фразу кулл ’инсан лайса [хува] катибан «каждый человек не [он] пишущий», структурно идентичную приводимой выше Зайд лайса хува катибан «Зейд не он пишущий»), а не часть субъекта. Но для нас важно не это, а то, что лайса в принципе может выступать в качестве отрицания части субъекта, когда стоит перед ним, поскольку, будь лайса глаголом «не быть», такая функция была бы для него невозможна (так может действовать только частица, а не глагол). При этом тот факт, что лайса стоит перед субъектом, ничуть не помешал бы ей быть глаголом, поскольку в арабском глаголы ставятся, как правило, перед именем действователя.
Итак, можно констатировать, что как в арабском языкознании, так и в логике Ибн Сины и ас-Сухраварди, этих крупнейших представителей арабского перипатетизма и философии озарения, связка понимается не как «быть», а как «утвержденность», передаваемая местоимением хува «он». Ниже в этой главе (см. § 1.4. Термин «оность» как абстрактное выражение связки) круг нашего обсуждения расширится, включив соответствующие представления трех других направлений средневековой арабской философии — калама, исмаилизма и суфизма. Однако выдвинутый тезис о характере связки достаточно необычен для установившихся в арабистике и околоарабистической философии представлений по этому вопросу. Кроме того, его обсуждение предоставляет удобный случай, чтобы поговорить о теоретической обоснованности самой идеи наличия минимальной универсальной грамматики в свете соотношения той или иной логики смысла и строя того или иного языка[44], показав значение обсуждаемого вопроса в более широкой перспективе. Будет также поднят вопрос о том, может ли, и как именно, логико-смысловая теория служить инструментом смыслоэкспликации. Поэтому следующий раздел посвятим отдельному, теоретическому рассмотрению вопроса о связке в его различных аспектах и следствиях, после чего вернемся к анализу арабской философской мысли.
1.3. Связка в арабском в ее существенном отличии от «быть»
Рассматривая понимание связки в классическом арабском языкознании и философии, я подчеркивал ее именной характер[45], а в качестве аргумента в пользу естественности ее восстановления именно как хува «он» (или лайса хува «не он»), а не как одного из вариантов с глаголами йуджад или йакун, которые претендовали бы на аналогию со связкой «быть», выдвигал то соображение, что, если пытаться сохранить в арабской фразе подобие привычной связки «быть» и восстанавливать связку соответствующим образом (что возможно и что реально делалось, в частности, в некоторых классических переводах Аристотеля на арабский или в современной исследовательской литературе), в арабском неизбежно меняется форма фразы и вместо именной мы получаем глагольную. Так, если в хрестоматийном примере с опущенной связкой «Зейд — пишущий» мы восстанавливаем связку как хува «он», то получаем в результате Зайд хува катиб «Зейд он пишущий»: форма фразы не изменилась, именная фраза с опущенной связкой дала именную же с восстановленной. Но если пытаться восстановить связку как «быть», в результате получим йакун (йуджад) Зайд катибан (букв. «Является [находится] Зейд пишущим»: при всей неуклюжести перевод подстановкой слово в слово дает представление о структуре арабской фразы), то есть глагольную, а не именную фразу. Между тем арабское языкознание настойчиво подчеркивает, что это два разных и, главное, несводимых друг к другу типа фраз[46]. Переход из одной классификационной категории в другую не может, таким образом, оказаться результатом восстановления связки, которое не должно ничего менять во фразе по существу: добавление «глаголов типа “быть”»[47] в арабскую фразу производит какие-то гораздо более существенные изменения, нежели то хотелось бы защитникам тезиса о возможности восстановления связки таким образом. Что еще хуже, катибан «пишущим» является с точки зрения арабской теории в такой фразе, получившейся после восстановления связки с помощью глагола «быть», излишним элементом, поскольку речь «состоится», а фраза будет «осмысленной»[48], и без него, тогда как в исходной это слово было необходимым и без него не было бы и фразы. Это изменение роли слова катиб «пишущий» подчеркивается и изменением его падежа с именительного на винительный. Восстановление связки, которое по идее не должно ничего менять в структуре фразы, дало на самом деле другую фразу.
Такие аргументы выглядят достаточно убедительными, но только до тех пор, пока мы мыслим в пределах допущений и классификаций собственно арабского языкознания. Это для него восстановление связки как аналога «быть» дает действительно другую, а не эквивалентную, фразу. Но, если посмотреть на те же примеры с точки зрения «западной» лингвистики и разобрать их, используя понятие грамматического значения в редакции, скажем, Э. Сепира (см. Главу I), ситуация будет другой. В самом деле, с точки зрения этой теории преобразование Зайд катиб Þ йакун (йуджад) Зайд катибан «Зейд — пишущий» Þ «является (находится) Зейд пишущим» вполне сохраняет грамматические значения. «Референция», распределяющая направление действия, осталась без изменений (Зейд является пишущим, а не пишущий — Зейдом), модальность также сохранена (категорическое утвердительное высказывание), мы по-прежнему не путаем субъект-объектные отношения, «Зейд» и «пишущий» остались в единственном числе, и время сохранено как настоящее[49]. Поистине поразительная ситуация: опираясь на западную теорию и встав на позиции, которые занимает большинство исследователей проблемы связки в арабском языке и мышлении, мы получили ровно то, что хотели, доказав таким образом «очевидный» факт, состоящий в том, что арабские «глаголы типа “быть”», йакун или йуджад, восстанавливают связку, ничего не меняя во фразе.
Так мы получаем два противоположных вывода. Как нам быть перед лицом этой реальности? Вполне согласиться с универсалистскими притязаниями «западной» лингвистики и счесть теоретизирование классического арабского языкознания изжившим себя или попросту недостойным внимания в сравнении с более сильной теорией? Поступить противоположным образом, твердя, что следует рассматривать ситуацию с точки зрения классической арабской грамматики и ни в коем случае не соглашаться с выводами современной лингвистики? Сказать, что и то и другое выражает истину сполна, но с разных точек зрения, и пуститься в рассуждения по поводу «диалогичности» и «многоголосицы», рискуя утерять всякую путеводную нить твердой истины, но приобретя взамен много броской красоты?
Ни то, ни другое, ни третье. Вместо этого мы подвергнем критическому анализу сами основания, на которых строятся эти три позиции. Мы исследуем, оправдано ли понятие универсальной минимальной грамматики; посмотрим, не содержат ли представления классического арабского языкознания чего-то принципиально важного в части разработки теории «грамматических значений», по поводу которых арабские теоретики, кстати говоря, высказались достаточно подробно (хотя и не употребляли самого термина «грамматическое значение», удовлетворяясь понятием ма‘нан «смысл»); исходя из этого, решим, каким на самом деле мог бы быть диалог этих двух культур мысли, спросив себя, не обусловлено ли само понятие «коммуникация», которое в своем последнем основании полагается в многочисленных современных исследованиях самоочевидным, отнюдь не таким, а зависящим в разных культурах от принятой в них логики смысла, причем такая зависимость может быть ясно прослежена и указана, а значит, и сам акт коммуникации может быть вполне отчетливо понят исходя из тех общих оснований, которые развиваются здесь[50]. Так мы вернемся к проблеме обоснования сравнительных исследований, рассмотрев ее в ракурсе модного с известных пор тезиса о «диалоге культур». В результате мы ответим на вопрос: чем является понятие «минимальной грамматики», претендующее на выражение общечеловеческих закономерностей «языкового мышления» (во всяком случае, «языковой осмысленности»)? каково отношение этого понятия к понятию «логика смысла»? какова роль интуиций грамматики в выражении процессов смыслоформирования? как возможна «минимальная грамматика» в ее подлинности?
1.3.1. Случайна ли именная форма связки в арабском?
Начнем с того, что исследуем вопрос, как будто ускользающий от внимания пишущих на эту тему ученых: относится ли к числу случайного, что может быть проигнорировано как «конкретика» того или иного языка, тот факт, что хува «он», единственно корректно восстанавливающее связку в арабском с точки зрения арабского языкознания и развитого в нем понимания грамматики, является именем, а не глаголом?
1.3.1.1. Интерпретация связок хува «он» и лайса [хува] «не [он]» как выражающих идею «бытия»: контраст с пониманием структуры фраз в арабском языкознании
Выше в этой главе, в § 1.2.1. Связка в арабском языкознании, я уже цитировал Ибн Хишама, приводя выполненную им компиляцию представлений арабских грамматиков о структуре фразы. Фразы, согласно этой теории, бывают именными и глагольными. Именно такова инвариантная минимальная и устойчивая классификация фраз (ниже я даю релевантные цитаты) в классической арабской науке. Ибн Хишам с его склонностью ко всеохвату называет также «фразу обстоятельства», упоминая и «фразу условия», хотя эти два типа фраз сводились учеными, склонными к минимализации классификаций, к упомянутым типам именной и глагольной фразы. Именно на это обстоятельство я и хочу обратить внимание. Кто имеет представление о том, как строились филологические науки в классическом арабском средневековье, скорее всего согласится: такая устойчивость не случайна, это не просто дань косной традиции, а выражение твердой уверенности в том, что подобная классификация верна и далее не редуцируема.
Рассмотрим пространный отрывок из сочинения Ибн Йа‘иша Шарх ал-Муфассал «Разъяснение “Подробного изложения”», в котором автор комментирует труд аз-Замахшари. Цитируя Ибн Йа‘иша по данному вопросу практически целиком, я стремлюсь дать представление о стиле мышления арабских филологов наряду с тем материалом, который необходим именно сейчас: в этом рассуждении вопрос о типологии фраз прямо увязан с вопросом об иснад «опирании» как условии осмысленности высказывания.
Автор книги[51] говорит: …Речь (калам) — это то, что составлено (мураккаб) из двух слов, одно из которых опирается (уснидат) на другое. Такое достижимо только для двух имен, например, когда говорят: «Зейд — твой брат» или «Люди — твои спутники», или для глагола и имени, например, «ударил Зейд» или «отправился Бакр», — и именуется фразой (джумла).
Комментатор (да поможет ему Бог!) Муваффак ад-Дин Абу ал-Бака’ Йа‘иш Ибн ‘Али Ибн Йа‘иш Грамматик говорит: …Знай, что речь для грамматиков — это любая самостоятельная (мустакилл би-нафси-хи) выговоренность, передающая свой смысл, что и именуется фразой, как «Зейд — твой брат» или «встал Бакр». Таков смысл речения автора книги: «…составленное из двух слов, одно из которых опирается на другое». Под «составленным» подразумевается «выговоренность, составленная…»: он опустил носитель атрибута, ибо смысл его явен. А речение его «из двух слов» — видовое отличие, коим он оградился от того, что составлено из харфов[52], вроде одиночных имен (асма’ муфрада), таких, как «Зейд», «Амр» и тому подобное.
Речение его «одно из которых опирается на другое» — второе видовое отличие, которым он оборонился от вещей типа Ма‘дикариб и Хадрамаут. Дело в том, что составление бывает двояким: составление единичного (таркиб афрад) и составление благодаря опоре (таркиб иснад). Составление единичного — когда берут два слова и составляют их вместе в одно слово, [ставя его] в соответствие одной истинности, тогда как прежде они были двумя словами, [поставленными] в соответствие двум истинностям. Это относится к переносу (накл) [указания на смысл] и встречается в именах-метках (а‘лам) типа Ма‘дикариб и Хадрамаут[53]. После составления такие слова уже не передают [смысл] без сказуемого, выраженного другим словом, например, «Ма‘дикариб приближается» или «Хадрамаут благой» (а это название местности в Йемене).
А составление благодаря опоре (иснад) — когда одно слово составляется с другим так, что одно из них соотносится (тунсаб) с другим. Сказав «одно из которых опирается на другое», он (аз-Замахшари. — А. С.) показал, что имеет в виду не составление вообще, но такое составление слов, при котором одно связано (та‘аллук) с другим так, что сказывание (хабар) оказывается удачным и передача [смысла] осуществляется вполне. Он употребил [термин] «опора», а не «[именное] сказуемое (хабар)», ибо опора является более общей, нежели сказуемое: опора включает и сказывание, и иное — приказание, запрещение, вопрос. Так что каждое [именное] сказуемое — опирающееся (муснад), но не всякое опирающееся — [именное] сказуемое, — хотя вместе с тем все они по смыслу восходят к сказуемому. Разве не видишь, что смысл речения «встань и проси» (кум утлуб) — твое вставание, а также вопрос и запрет.
Так он определяет это.
Автор книги говорит: Такое достижимо только для двух имен или для глагола и имени и именуется фразой.
Комментатор говорит: Речение его «такое» отсылает к составлению, благодаря которому связывается (йан‘акид) речь и получается передача [смысла]. Такое получается только от двух имен, как «Зейд — твой брат» или «Бог — наш бог», ибо имя, будучи тем, о чем сказывается, может быть и сказуемым; или же от имени и глагола, как «встал Зейд» или «отправился Бакр», когда глагол является сказуемым, а имя — тем, о чем сказывается.
Но такое не получается от двух глаголов, ибо глагол сам — сказуемое и не передает [смысл] (ла йуфид), пока не обопрешь его на то, о чем говорится. Не получается также ни от глагола с частицей (харф), ни от частицы и имени, ибо частица приводится ради смысла в имени или глаголе, так что она — как бы часть их, а часть вещи не связывается с иным в речь. Частица с именем не передает [смысл], за исключением единственного случая, а именно — звательной формы (нида’); так потому, что здесь частица замещает (нийаба) глагол… [Ибн Йа‘иш, т. 1, с. 18—20]
Если это так и именная и глагольная фразы представляют собой два разные и несводимые друг к другу типа фраз, то восстановление связки «глаголами типа “быть”», превращающее именную фразу в глагольную, безусловно представляет собой серьезное преобразование фразы[54]. Задумавшись над этим, мы поймем, почему в трактатах по арабскому языкознанию мы не встречаем таких примеров: классические ученые прекрасно представляли, что добавление «глаголов типа “быть”» не восстанавливает связку, а меняет фразу. Это, таким образом, не просто мой вывод; его правильность подтверждается и отсутствием соответствующих примеров в классических текстах. Не случайно поэтому, что и Ибн Сина и ас-Сухраварди, цитированные выше, используют именно хува «он», а не «глаголы типа “быть”», — когда рассуждают как бы «от себя» (даже если излагают аристотелевские положения), а не выступают в роли адекватных переводчиков аристотелевских текстов.
Обратим внимание еще на один факт: в примерах на восстановление связки, которые были рассмотрены, речь идет об именных, а не глагольных фразах. Я хочу сказать, что, когда арабским теоретикам нужно привести пример опущенной связки, они прибегают к первому, а не второму типу фраз[55]. Ниже (см. Глава II, § 1.3.2.2. Связка «быть» и логико-смысловой аргумент) я предложу свое объяснение этого факта, а здесь только укажу на его устойчивость: он не может быть случайным, если учитывать ту тщательность, с которой классические арабские ученые относились к структурированию теории и подбору примеров. Но принимая его во внимание, нетрудно увидеть, почему гипотетическое восстановление связки с помощью «глаголов типа “быть”», о котором с такой настойчивостью говорят современные теоретики, вовсе не является таковым для классических арабских ученых. Дело просто в том, что добавление глагола с их точки зрения не восстанавливает связку, а дает глагольную фразу, статус связки в которой как будто и не обсуждается в арабском языкознании. Вот почему столь настойчиво приводимые примеры с глаголами йакун (йуджад) не просто не восстанавливают связку с точки зрения арабского языкознания, но и не могут ее восстановить, поскольку, будучи глаголами, просто не могут не играть во фразе роль совершенно иную, нежели роль связки.
Учитывая это, мы легко поймем, почему современные ученые так неохотно прибегают к свидетельствам классического арабского языкознания. Дело не только в скудости обсуждения в нем вопроса о связке; дело скорее в том, что весь строй классической арабской теории просто не позволяет восстанавливать связку с помощью глагола. Теория устроена таким образом, что подсказывает нам: связка может мыслиться как связка только в качестве именной. А на эту роль классической мыслью выдвинуто хува «он».
Сказанное не может не вызывать ощущение контраста с тем образом действий, который кажется нам привычным и вполне естественным, если не сказать единственно возможным. Что-то в арабской теории упорно сопротивляется тому, чтобы сработала стратегия восстановления связки с помощью «глаголов типа “быть”». В соответствии с представлениями о методе контрастного понимания, изложенными в Главе I, попытаемся выяснить, является ли этот контраст лишь содержательным или имеет процедурные основания. В зависимости от результатов этого исследования мы и решим, как отнестись к нему.
1.3.1.2. Контраст двух лингвистических традиций и его содержательные импликации
Для этого нам придется обратиться к представлениям классической арабской теории о том, что такое «грамматическое значение» (я уже говорил, что сами арабские грамматики не употребляют этого термина, но его использование не искажает их построений), в особенности же — каким минимальным требованиям должна удовлетворять фраза, чтобы выполнять условия осмысленности, те самые условия, для осуществления которых, по мысли Э. Сепира (или иных западных ученых, развивающих эти теории), и необходима общечеловеческая минимальная грамматика, непременно наличествующая в любом языке. Мы таким образом несколько продвинемся в сравнении с «конфронтационной» постановкой вопроса, которая наметилась в начале этого раздела, когда западное и классическое арабское языкознание были напрямую противопоставлены в их ответах на вопрос о восстановлении связки. Ведь мы получим как будто общий базис сравнения: представление об «осмысленности» речи, к которому апеллируют и те и другие ученые. Рассмотрим их построения с этой точки зрения: не вытекает ли отмеченная «конфронтационность» теорий из фундаментально различного понимания того, как формируется осмысленность. Это даст возможность проверить построения грамматических теорий в обеих культурах на оселке логико-смысловой теории.
Отправной точкой рассуждений арабских теоретиков на тему «минимальной грамматики» служит понятие иснад «опора». Общее представление об «опирании» и «поддерживании» слов одного другим с неизменным постоянством проходит через филологическую традицию арабов. Судя по всему, это положение было высказано еще в момент ее зарождения. Так, Ибн Манзур в своем словаре приводит высказывание одного из основоположников арабской грамматики ал-Халиля:
кала ал-халил ал-калам санад ва муснад фа ас-санад ка-кавли-ка ‘абд ’аллах раджул салих фа ‘абд ’аллах санад ва раджул муснад илай-хи
Ал-Халил говорил: «Речь — это опора и опираемое. Опора[56] — например, если сказать: “Абдалла достойный муж”; здесь “Абдалла” — опора, а “достойный муж” — опираемое» [Ибн Манзур, статья с-н-д].
Заметим, что и здесь опора мыслится скорее как опора имени на имя, нежели глагола на имя: именная фраза как будто выступает в качестве парадигматической, хотя отнюдь не может поглотить глагольный тип фразы.
Весьма пространно и с присущим ему красноречием высказывается на эту тему ал-Джурджани:
Как известно, упорядоченная [речь] (назм) — не что иное, как связывание (та‘лик) одних слов с другими и превращение одних в причины других. Слов же три [вида]: имя, глагол и частица (харф). Пути их связывания известны и делятся не более как на три части: связывание имени с именем, связывание имени с глаголом и связывание частицы с ними обоими… Короче говоря, речь (калам) не бывает [состоящей] из одной части: обязательно должно быть то, что опирают (муснад), и то, на что опирают (муснад илай-хи). Это же относится и к любой частице, которая привходит во фразу, как ’анна и тому подобное. Разве не видишь, что, если сказать ка-’анна «как», потребуется уподобляемое и то, чему уподобляют, например ка-’анна Зайдан ал-’асад «Зейд как лев». Точно так же, сказав лав «если бы» или лав-ла «если бы не», мы обнаруживаем, что они требуют двух фраз, вторая из которых будет ответом (джаваб) на первую.
В целом же: речь никогда (’аслан)[57] не бывает [состоящей] ни из частицы и глагола, ни из частицы и имени, разве что в призыве (нида’) вроде йа ‘абд ’аллах «о Абдалла!». Но и это, если дойти до истины, тоже речь с восстановлением подразумевавшегося глагола (калам би-такдир ал-фи‘л ал-мудмар) типа а‘ни «подразумеваю», уриду «желаю» или ад‘у «зову», тогда как йа «о!» — указатель на него (глагол. — А. С.) и на наличие его смысла в душе.
Таковы пути и способы связывания слов одних с другими. Это, как ты видишь, — смыслы и нормы (ахкам) грамматики. Это же касается всего, что имеет отношение к правильности связывания слов друг с другом: тут не найти ничего, что не было бы одной из норм и одним из смыслов грамматики. Далее, мы видим, что все это наличествует в речи арабов, и замечаем, что все они разделяют знание об этом [Джурджани, с. 2—3, 5—6].
Положение о необходимости иснада «опоры» становится нормативным положением арабской грамматики, которое воспроизводится почти в любом сочинении. «Опирание» связывает две части друг с другом, так что возникает минимально необходимая для «завязывания» смысла фразы структура, как мы то видели на примере пространного рассуждения Ибн Йа‘иша, комментирующего аз-Замахшари. Выше (см. Глава II, § 1.2.1. Связка в арабском языкознании), анализируя фразу «в доме Зейд», мы (вслед за Ибн Хишамом) обнаружили, что в такой фразе условие наличия «опорной» конструкции не выполняется. В ней имеется только один ее элемент, муснад илай-хи «то, на что опирают», представленный «Зейдом», но отсутствует муснад «то, что опирают». С точки зрения представлений арабской грамматики фраза «в доме Зейд» бессмысленна в прямом значении этого слова: она не обладает смыслом. Чтобы смысл такой фразы появился, полная осмысляющая фразу структура должна быть восстановлена.
Подобное восстановление (такдир) и провел в проанализированном там примере Ибн Хишам. О таком же восстановлении говорит и в нашей цитате ал-Джурджани, разбирая звательные конструкции арабского языка. Отметим интересное свидетельство этого автора. Он утверждает, что излагаемые им положения обладают всеобщим характером: они непременно могут быть вычленены в арабской речи, а любой носитель арабского языка подтвердит их необходимость. Положение о том, что отдельные необходимые элементы фразы могут опускаться в речи, будь то в прозаической или поэтической, но всегда как будто осознаются (так сказать, виртуально наличествуют), а потому могут быть восстановлены, стало одним из центральных в арабской филологии, в том числе и за пределами грамматики, а их восстановление — одним из излюбленных методологических приемов при анализе фраз. Я говорю все это для того, чтобы подчеркнуть, что излагаемые здесь положения — не побочный продукт экзотического теоретизирования, извлеченный из средневековых текстов, но одно из центральных положений классической арабской филологии, без которого она попросту немыслима.
Высказываемые арабскими авторами положения затрагивают по существу ту же проблему, ради решения которой в современной лингвистике введено понятие «минимальная грамматика». Они отвечают на вопрос: каковы минимальные условия, которые должны выполняться для того, чтобы фраза была понята, то есть обладала осмысленностью? Нетрудно увидеть, что ответы двух традиций на этот вопрос несовместимы. Для этого достаточно сравнить список условий осмысленности, который приводится в современной западной лингвистической традиции как перечень неотъемлемых элементов минимальной грамматики, с теми, что аналогично (как минимально необходимые условия формирования смысла) понимаются в арабской грамматической теории. Это же легко видеть, взяв для примера разбиравшуюся фразу «в доме Зейд». С точки зрения современной лингвистики она совершенно правильна в том смысле, что удовлетворяет условиям, формулируемым как минимальные грамматически необходимые для понимания. Она, иначе говоря, понятна как таковая. С точки зрения арабской грамматической теории эта фраза, напротив, неправильна и непонятна как таковая. Для этой теории понятной и грамматически правильной будет минимальная фраза «Зейд обрел незыблемость» или «Зейд незыблемый», то есть конструкция имя-глагол или имя-имя, для которых выполняется условие «опоры». Для арабской грамматики — и, как утверждает ал-Джурджани, для арабского языка и его носителей в целом — такая конструкция всегда либо имеется, либо восстанавливается в процессе понимания, и без ее реального либо виртуального наличия понимание наступить не может. С точки зрения теории минимальной грамматики, разрабатывающейся в современной западной лингвистике, понятной фразой было бы минимальное высказывание «Зейд [есть]» (где [есть] — наличествующая или восстанавливаемая связка), поскольку оно удовлетворяет условиям понимания. Излишне говорить, что эта фраза как таковая, как состоящая из субъекта и связки, бессмысленна с точки зрения арабской грамматики и арабского языкового сознания, и обрести осмысленность она может, только поменяв свою структуру.
Мы встречаемся здесь не с чем иным, как с контрастом двух типов мышления, которые исходят из несовместимых, то есть несводимых одно к другому[58], представлений о минимальных условиях формирования смысла. Что одна и та же фраза «в доме Зейд» будет понята и в той и в другой традиции языкового мышления, совершенно не меняет дела. Напротив, такая возможность понимания оказывается обманчивой, и в этой обманчивости весьма опасной. Сам факт понятности маскирует то — твердо установленное здесь — положение, что одна и та же фраза будет понята по-разному. Смысл будет придан ей различным образом — и это будет различный смысл. Но это именно то, о чем я и говорю в этой работе: одна и та же языковая конструкция может получать свой смысл в процессе нашего понимания различным образом; в самой языковой конструкции еще не заложены все необходимые условия придания ей осмысленности. Они представлены логикой смысла, которая руководит процедурами возникновения осмысленности и исследует их. Сказанное представляет собой дополнительное доказательство того, что разные логики смысла сформируют разный смысл номинально одной и той же фразы: так содержательность вновь предстает как функция процедуры.
Последний вывод, который мы сделаем из нашего анализа, состоит в следующем. Сам по себе факт возможности понимания одной и той же фразы «в доме Зейд», то есть ее понятности носителям двух различных традиций понимания, западной и арабской, ничего не говорит о том, что фраза понимается одинаково и что она имеет один и тот же смысл. Различие содержаний одной и той же (номинально идентичной) фразы оказывается, как было установлено, следствием различия в процедурах формирования смысла, которым следуют две традиции. Будет ли в таком случае оправдан вывод, явно или молчаливо принимаемый теми учеными, которые от универсальной понятности фразы заключают к универсальной приложимости теории, объясняющей понятность такой фразы в пределах данной одной традиции мышления? Пикантность ситуации состоит еще и в том, что можно достаточно долго настаивать на положительном ответе на этот вопрос, но только в том случае, если игнорировать свидетельства инокультурной традиции об обратном. Здесь ситуация мало чем отличается от известных закономерностей смены научных парадигм: можно продолжать настаивать на универсальной приложимости идеи всеобщей минимальной грамматики, как она видится с точки зрения одной из возможных традиций мышления, но только в том случае, если адепты этой позиции сознательно отказываются от возможности поставить, а значит, и решить целый класс задач, которые не могут быть сформулированы в рамках такого подхода. Что отказываться от решения этих задач, да и от самой возможности видеть их, вряд ли целесообразно, было, как я надеюсь, достаточно убедительно продемонстрировано.
Сказанное заставляет и пересмотреть отношение к так называемому коммуникативному подходу. Примеры его слишком известны, чтобы говорить о них подробно. Читателю нетрудно, охватив их мысленным взором, признать: они исходят в своей основе из того, что коммуникация — это со-общение другому некоторого смысла. При этом, что принципиально важно, сообщение смысла всегда рассматривается только в содержательном аспекте: сообщение считается искаженным, если у воспринимающей стороны сформировалось иное, нежели подразумевавшееся отправителем, смысловое содержание. Такая инаковость рассматривается как искажение информации, возникающее по тем или иным, субъективным или объективным причинам. Но на самом деле сообщение может формировать у получателя совершенно иное смысловое содержание, нежели вложенное в него отправителем, даже если каналы информации абсолютно чисты со всех точек зрения, обычно обсуждаемых коммуникативным подходом. Фраза «в доме Зейд», сказанная представителем западной лингвистической традиции и воспринятая представителем классической арабской филологии или наоборот, будет, безусловно, понята и тем и другим, но сформирует у двух сторон разное смысловое содержание исключительно за счет различия процедур формирования смысла, которым следуют стороны. Это означает только одно: коммуникативный подход, не учитывающий специфики логик смысла и их влияния на формирование смыслового содержания в ходе возникновения или понимания сообщения, теряет из виду один из существенных источников спецификации информации. Из этого же следует, что различия в понимании, вызванные различиями в логиках смысла, не могут быть объяснены за счет тех факторов, которые обычно попадают в поле зрения коммуникативного подхода, тогда как обратное скорее всего верно.
Итак, с точки зрения логико-смысловой теории современная западная и классическая арабская традиции дают нам два несводимых друг к другу представления о минимальных условиях осмысленности фразы. С этой точки зрения общий знаменатель между двумя традициями отсутствует. Означает ли это, что он отсутствует вообще? Если невозможно прямое сведение одной традиции к другой, это еще не означает, что они не могут быть сведены к чему-то третьему, что будет равно относиться к ним обеим как общий случай. Скорее всего именно так и обстоит дело, тем более что факт понятности одного и того же по-разному (в разных логиках смысла) как будто подсказывает эту возможность. Однако возможность перейти на подобный, более общий, нежели каждая из традиций, уровень определяется двумя условиями. Во-первых, следует избегать соблазна принять одну из параллельных традиций за универсальный случай, как будто и являющий общечеловеческие закономерности мышления. А во-вторых, переход на более общий уровень по самой своей сути связан с процедурой обобщения. Эта процедура как таковая вполне принадлежит логико-смысловой области, подпадая под влияние логики смысла и будучи определена ею. К этому факту необходимо отнестись рефлексивно: если в каждой традиции господствуют определенные процедуры обобщения, характерные для данной логики смысла, то переход на искомый более фундаментальный уровень требует обобщения этих логик смысла и обобщения самих процедур обобщения. Только соблюдение двух условий может дать желаемый результат.
Заметим, что направление будущего движения здесь только намечено, но никак не определено в его деталях. Вместе с тем можно указать и основание, которое делает такое обобщение процедур обобщения возможным. Это — неформальный характер связок, которые используются разными логиками смысла. Связка, отражающая (среди прочего) условия формирования осмысленности, может считаться формальной (свободно опускаемой или восстанавливаемой без изменения смыслового содержания) только в пределах одной логико-смысловой конфигурации. Поскольку формирование смысла определяется логикой смысла как совершающееся в пределах логико-смысловой конфигурации, последняя представляет собой своеобразную «универсальную силу», которая вполне может игнорироваться в пределах традиции, построенной на одной логике смысла. Логико-смысловая определенность связки, ее зависимость от конкретной логико-смысловой конфигурации делает этот вывод приложимым и к ней. Связка не может считаться формальной и бессодержательной, как только мы понимаем, что имеем дело со смысловым содержанием, сформированным в разных логиках смысла.
1.3.1.3. Возможен ли выбор между двумя контрастирующими теориями?
В чем же все-таки основание того взгляда, который столь твердо высказывает классическое арабское языкознание, считая именную и глагольную фразы несводимыми друг к другу, а значит, по-разному удовлетворяющими минимальным условиям осмысленности фразы? Я показал контраст этих представлений с представлениями современной лингвистики на ту же тему, но ничего не сказал о таком основании. Правда, подобное основание современная наука и не стала бы, скорее всего, разыскивать, как бы и не замечая его возможность и рассматривая теорию целиком с ее содержательной стороны. Иными словами, современная наука скажет, что классическое арабское языкознание выработало такую-то теорию, так-то интерпретирующую факты; если мы имеем иную теорию, интерпретирующую те же факты так же или лучше, ничто не мешает сделать выбор в пользу второй. Мы выбираем тут между содержаниями двух теорий, как если бы они были безусловно соизмеримы.
Однако соизмерение требует понимания — это, кажется, тривиально. В данном случае необходимо понимать и строение оцениваемой теории, и то, как она объясняет факты (ведь говорим же мы: «теория так-то оценивает факты»; но задумываемся ли мы о подлинном значении этого так-то?). Вместе с тем, говоря о выборе между конкурирующими теориями, ни в одном из этих двух аспектов не учитывают то, что я называю процедурными факторами. Если и западная, и арабская теории объясняют одно и то же изучаемое явление (в нашем случае — классификацию фраз), то, оценивая эти теории, обратят внимание на сам факт объяснения, а не на то, согласно какой процедуре формирования смысла оно выстроено. Только потому выбор полагается возможным, что сравниваемые содержания теорий и их объясняющие потенции лежат для этого взгляда на одной линии.
Но если они выстроены согласно различным логикам смысла, они оказываются параллельными, что делает выбор на самом деле просто невозможным. С этой невозможностью коррелирует в конечном счете тот факт, что исследуемое явление (фразы арабского языка) построено согласно той же логике смысла, что и сама теория (арабское языкознание), причем эта логика смысла отличается от той, по которой выстроена конкурирующая теория (современная западная лингвистика). Если конкурирующие теории не замечают той логики смысла, которая лежит в основании некоторых изучаемых ими феноменов и учет которой просто необходим для их отображения (как арабская теория не заметит той, что лежит в основании западного мышления, а западная теория не обратит внимание на ту, что формирует мышление арабской культуры), то и сравнение между такими теориями теряет всякий смысл. Ведь сравнивая конкурирующие теории, предполагают, что те объясняют изучаемые феномены, но с разной степенью успеха. Однако в нашем случае одна из конкурирующих теорий вовсе не объясняет феномен, на который обращает внимание, поскольку не учитывает ту логику смысла, которая лежит в его основе. Она не объясняет его, а переводит в тот вид, что согласуется с логикой смысла, лежащей в ее основе. Но этот вид вовсе не совпадает со смысловым строением изучаемого феномена, которое выполнено по другой логике смысла.
Как будет оценен этот тезис с точки зрения кантианского разделения наук о природе и наук о культуре, безусловного и культурно-обусловленного знания? Ведь если этот тезис что и отрицает, так это представление современной лингвистики (по меньшей мере некоторых ее разделов) о себе как относящейся к первому классу наук и дающей безусловно точное знание. Так может показаться, поскольку защищаемые положения как будто идут в русле этого кантианского разделения и подтверждают его неизбежность. Даже если сторонник кантианского взгляда признает правильность высказанных здесь положений о логико-смысловой обусловленности содержания теорий, в том числе и естественнонаучных, это на самом деле ничуть не поколеблет его позиций. Ведь если воспринимаемый нами естественный мир тем и отличается от культуры, что совершенно не зависит как таковой от нашего восприятия и нашей активности, то он должен представать одинаковым для носителей любых культур, независимо от той логики смысла, которая формирует культурно-обусловленные объекты, в том числе и язык. Если признать, что объект культуры сформирован в соответствии с определенной логикой смысла и учет этой логики смысла необходим для правильного отображения этого объекта в нашем знании (а в этом суть защищаемой здесь позиции), то этот взгляд по-прежнему оказывается ограничен пределами «культурных» явлений и вовсе ничего не говорит о «природе». Даже если две конкурирующие теории о мире созданы каждая в соответствии с определенной логикой смысла, мы все же имеем право расположить их как бы на одной линии в том случае, если изучаемый ими феномен «нейтрален» в логико-смысловом отношении, если он не требует от теории учета своего логико-смыслового строения. А ведь дело как будто именно так и обстоит: речь здесь идет о культурно-обусловленных явлениях (язык и феномены вербальной культуры) как непременно требующих учета логико-смысловых факторов для своего понимания и не касается того, что обычно называют «объектами внешнего мира».
Не будем здесь подробно останавливаться на этом возражении. Вспомним лишь о том, что говорилось в Главе I (см. § 2.3.1. Возможна ли референция к простому объекту?): если развиваемый здесь взгляд обоснован, то никакое формирование осмысленности, в том числе и осмысленности мира для нас как объективного, не свободно от логико-смысловых закономерностей. Что различие между культурно-обусловленными объектами и объектами природы существует и с точки зрения теории логики смысла, нельзя не признать. Другой вопрос, как его расценить.
Что если логико-смысловая обусловленность того, что мы называем объектом внешнего мира, не постигнута нами? Если нам только предстоит понять, каким образом мир имеет смысл для нас? Ведь если я прав, то естественнонаучная теория, созданная в какой бы то ни было культуре, не может в своем строении быть свободна от влияния логико-смысловых факторов, накладывающих печать на ее содержание и ту логику (я употребляю термин в строгом смысле, имея в виду формально-логические аксиомы и процедуры), которую она считает адекватной миру. В этом плане, то есть рассматриваемая в качестве феномена культуры, такая естественнонаучная теория нимало не отличается от тех теорий, что имеют своим объектом феномены культуры. Если бы феномен окружающего мира как объект теории отличался от объекта культуры тем, что логико-смысловые факторы вовсе не были релевантны для его понимания, конкурирующие естественнонаучные теории, созданные в разных культурах, могли бы быть сравниваемы по степени своего успеха в «прямом», избегающем учета логики смысла, объяснении феноменов мира. Но не обстоит дело в случае естественнонаучной теории приблизительно так же, как в случае теории, трактующей явления культуры? Не оказывается ли и для нее неучет тех логико-смысловых закономерностей, согласно которым объект окружающего мира сложен для нас как осмысленность, причиной неуспеха в объяснении мира? Не ошибается ли она, принимая только один из путей формально-логического описания мира за единственно возможный?
Оставим пока эту проблему в таком состоянии; мы еще вернемся к ней в Главе III.
1.3.2. Эвристические возможности логики смысла
С моей точки зрения, основание устойчивой классификации фраз в арабском языкознании и высказанных в нем представлений о «минимальной грамматике» заключается в том, что эта теория схватывает особенности логики смысла, формирующей изучаемые ею феномены арабского языка. Хотя это схватывание и не является рефлексивным, оно тем не менее присутствует в теории в виде тех или иных содержательных моментов, от которых нельзя отказаться, не потеряв надежду объяснить существенные черты изучаемого феномена.
Чтобы продемонстрировать это, покажем логико-смысловое основание данного положения арабского языкознания. При этом будем использовать терминологию описания логико-смысловой конфигурации, введенную в этой главе (см. § 1.1.1. Рефлексивное рассмотрение логико-смысловой конфигурации).
1.3.2.1. Интерпретация различия двух типов арабской фразы как двух реализаций логико-смысловой конфигурации
Я исхожу из того, что понимание смысла требует формирования как минимум одной полной логико-смысловой конфигурации. Если коммуникация — это попытка сделать осмысленным для другого то, что имеет смысл для меня, то суть ее заключается в том, чтобы сформировать у другого ту же логико-смысловую конфигурацию, в которой передаваемый смысл уже осмыслен для меня.
Понятие «минимальная грамматика» как раз и описывает своими средствами минимальные условия формирования такой логико-смысловой конфигурации. Ясно, что, поскольку в разных логиках смысла эти условия различаются, столь же различаются и «минимальные грамматики» языков, реализующих эти логики смысла.
Классификация фраз в арабской филологии опирается на представление о том, что фраза выстраивается как правильная логико-смысловая конфигурация, в которой «сообщение», или «новый смысл» (то, что теория называет терминами ифада и фа’ида соответственно) заключается в приравнивании субъекта и предиката, которые занимают места 1-го и 2-го смыслов второго уровня соответственно. Именно такой порядок принципиален, и это находит отражение в соответствующей терминологии, выработанной арабскими теоретическими науками и организующей теоретическое мышление по меньшей мере в филологии, философии и фикхе. 1-й смысл второго уровня логико-смысловой конфигурации именуется в арабской филологической теории «опорой» (муснад илай-хи): он должен быть явлен, то есть известен слушателю. Тогда к нему может быть приравнен 2-й смысл второго уровня, который не явлен слушателю, «скрыт» от него, то есть неизвестен. Этот смысл теория называет «опираемым» (муснад). Само приравнивание двух смыслов второго уровня позволяется в принципе логико-смысловой конфигурацией, определенной характерной для арабской культуры логикой смысла. А арабская филологическая теория сообщает, что сам акт такого приравнивания и является тем «новым смыслом», или «сообщением», которое несет фраза. Но чтобы приравнивание состоялось и было нетривиальным, и необходимы те два условия, что оговариваются теорией: известность 1-го смысла второго уровня и неизвестность 2-го; иначе, как это ясно заявляют филологи, фраза теряет всякий смысл[59]. Названные условия формулируются в общем виде как «явленность» (зухур) и «скрытость» (бутун), а соответствующие смыслы называются «явным» (захир) и «скрытым» (батин). Термины «явное» и «скрытое», таким образом, имеют отношение к наиболее глубинным процедурам смыслообразования, протекающим согласно характерной для арабской культуры логике смысла. Именно этим объясняется их устойчивость в разных теоретических науках и их метатеоретический статус, то есть способность выражать очень схожие значения независимо от конкретных наук и независимо от частных значений, которые они в этих науках получают. Эта способность сформирована тем, что они описывают логико-смысловую конфигурацию, которая как таковая одинакова для разных наук. Этой ролью, естественно, и определяется принципиальное содержание терминов захир «явное» и батин «скрытое» в арабской мысли, и не менее естественно, что оно совершенно не совпадает с содержанием номинально схожих или даже номинально идентичных терминов, функционирующих в других культурах мысли, — поскольку те могут относиться к другой логико-смысловой конфигурации, определяемой иной логикой смысла. Этим же выяснено, почему столь фундаментальный статус этих понятий оказывается «не виден» для инокультурной науки: их логико-смысловая роль совершенно не ясна без эксплицитного учета логико-смысловых факторов, а «интуитивно» исследователь всегда будет склонен применять характерную для его культуры и не обязательно совпадающую с исследуемой логику смысла, чему пример я приведу чуть ниже (см. Глава II, § 1.3.2.3. Необходим ли эксплицитный учет логики смысла для адекватного отражения инокультурной теории?).
Термины «явное» и «скрытое» не единственные в этом ряду. Такое их соположение как 1-го и 2-го смыслов второго уровня, которое предполагается логико-смысловой конфигурацией и в рассматриваемом случае образует фразу, в арабской теории находит отражение в термине изхар «выявление». Другой термин, устойчиво употребляемый в этом отношении — ин‘икад «связывание» (или его синоним ‘акд). 1-й и 2-й смыслы связываются, то есть приравниваются один к другому, благодаря чему при условии известности первого выявляется второй, — так можно передать то, как мыслится в арабской теории формирование фразы. Если использовать этот гештальт «связывания» (также весьма устойчивый в арабской теоретической мысли и часто занимающий место того, что мы называем «образованием», то есть приданием «образа» как родовой формы), то окажется, что «узлом» служит смысл первого уровня логико-смысловой конфигурации. Именно он «связывает» два смысла (явное и скрытое, «опору» и «опираемое» процесса понимания), которые, внеположные ему как таковые, находят на его поле свою тождественность.
Теперь не будет неожиданным обнаружить, что именно этот «связывающий» смысл (я называю его смыслом первого уровня) и играет во фразе роль связки. Когда арабское языковое или филологическое мышление восстанавливает связку, оно лишь достраивает логико-смысловую конфигурацию до ее полной формы.
Заметим, что из сказанного вытекает характер связки в рассматриваемой логике смысла. Ее функция, как она определена процедурой построения логико-смысловой конфигурации, сводится к тому, чтобы являть собой чистое равенство субъекта и предиката, которые как таковые — и это принципиально — остаются внеположными и друг другу, и области их приравнивания. В этой своей функции связка — чистое единство, максимально простое и лишенное какой-либо внутренней множественности, точнее, лишенное самой возможности такую множественность иметь внутри себя. Именно такое простое и чистое единство, максимально очищенное от какой-либо содержательности, являет собой хува «он». Ниже, рассматривая философские теории, мы найдем в них подробную разработку понятия такого чистого абсолютно простого единства, схватывающего внеположную ему множественность, — понятия хувиййа «оность», служащего абстрактным выражением этого «он» (см. Глава II, § 1.4. Термин «оность» как абстрактное выражение связки). Все это — и связка в ее собственно-языковом функционировании, и как отражаемая в филологической типологии фраз, и философские теории в части разработки понятия «оность» — вырастает из одного и того же логико-смыслового основания, поскольку выражает, каждое своими средствами, способ построения логико-смысловой конфигурации. Отметим, кстати, что эти области как раз не связаны между собой генетически (философия, например, не вырастает в прямом смысле из филологии или из языка), но вместе с тем являют то самое безусловно улавливаемое исследователем единство, которое Шпенглер выразил в понятии «морфология культуры» и которое для него оставалось в значительной мере загадкой. Не повторяя сказанного во Введении относительно недостатков и положительных сторон этого понятия, отмечу, что здесь мы наконец получаем возможность указать на действительное основание такого единства различных областей культуры: это общность логико-смысловых процедур, отражаемых (или, если угодно, воплощаемых) в разных гранях теоретической деятельности.
Сказанное относится к тому типу фраз, который арабская филология называет именным. В чем же существенное отличие глагольного типа фразы — отличие, не позволяющее приравнять эти два типа и свести их к какому-то единству?
Глагольная фраза может быть представлена простейшим примером дараба Зайд [мадрубан] «Зейд побил [побитого]». Я ставлю мадрубан «побитого» в квадратные скобки потому, что, согласно устойчивому представлению классической арабской филологии, этот член фразы алгоритмически восстанавливается как необходимый и естественный коррелят дараба «побил», а потому может в реальной фразе свободно опускаться (см. Глава II, примеч. 48), поскольку как бы присутствует уже в силу наличия самого глагола. Чтобы сделать анализ этого типа фразы с точки зрения логико-смысловой теории окончательно понятным читателю, необходимо упомянуть еще одно нормативное положение грамматики. Всякий арабский глагол несет в себе в латентном виде местоимение, которое в силу этого латентного присутствия не упоминается явно. В нашем случае дараба «побил» подразумевает полную форму дараба [хува] «побил [он]».
В такой фразе ее члены располагаются в логико-смысловой конфигурации следующим образом. «Зейд» является субъектом высказывания, «опорой» сообщения, «явленным» смыслом и располагается в силу этого на месте 1-го смысла второго уровня. В этом отношении глагольная и именная фразы оказываются идентичными. Факультативный член фразы, «[побитого]», занимает место 2-го смысла второго уровня. В силу этого он приравнен к субъекту «Зейд», совпадая с ним на некоторой внеположной обоим области, но в этой фразе область их совпадения представлена не чистым хува «он», а содержательно наполненным глаголом «побил». В отличие от именной фразы, в данном случае место смысла первого уровня занято не только связкой, но и стоящим на ее месте содержательно наполненным словом. Что связка и в данном случае присутствует, причем в том же виде и на том же месте, как и в именной фразе, подчеркнуто фактом ее «встроенности» в глагол. Наконец, в данной фразе с точки зрения классической филологии «опирающимся» является глагол.
Как видим, именная и глагольная фразы имеют принципиально единую логико-смысловую структуру, будучи обе реализацией одной и той же логико-смысловой конфигурации. Однако существенное и неустранимое различие между ними в том, что в именной фразе нетривиальным актом является само приравнивание двух смыслов второго уровня, и оно-то и составляет «сообщение» фразы. В глагольной фразе такое приравнивание, напротив, мыслится как тривиальное (о причинах этого см. Глава II, § 2.1. Языковое оформление и понятийная роль категорий «действие», «действующее», «претерпевающее»), более того, алгоритмичное, тогда как нетривиальным актом, составляющим «сообщение» фразы, служит наличие содержательно наполненного глагола на месте смысла первого уровня. Сами сообщения, таким образом, устроены по-разному в двух типах фраз, и именно поэтому эти фразы никак не могут быть сведены одна к другой. Это ясно чувствует классическая арабская филология, для которой данная логика смысла является «родной», и это же неизбежно ускользает от внимания инокультурной филологической теории, если только она не обращает специально свое внимание на логико-смысловую обусловленность изучаемого феномена.
Отметим, что в свете приведенной интерпретации вполне разъясняется и строение настоящей главы, которая рассматривает эти две реализации логико-смысловой конфигурации, отраженные в типологии фраз как именная и глагольная. Их несводимость диктует необходимость их раздельного рассмотрения.
1.3.2.2. Связка «быть» и логико-смысловой аргумент
Сказанное дает ясное представление о том, почему связка не может восстанавливаться в арабской фразе как «быть» (или его варианты).
Во-первых, такая связка представляет собой глагол, а значит, если исходная фраза была именной, то ее добавление превратит фразу в глагольную, если же исходная фраза уже была глагольной, то такая связка займет место исходного глагола, сместив его и сделав «дополнительным» (необязательным) членом фразы. В любом случае фраза изменится: либо превратившись в иную реализацию логико-смысловой конфигурации, либо поменяв свое содержание. Поэтому — и это важно — введение глагола «быть» является его добавлением к фразе, а вовсе не восстановлением мыслимого в ней, необходимого, но опущенного члена. Такое добавление принципиально возможно, но оно столь же принципиально меняет фразу, — которая, собственно, и не может не измениться с таким добавлением. Поэтому аргументация защитников универсальности связки «быть», апеллирующая к реальным примерам из истории арабской теоретической мысли, которые свидетельствуют о том, что арабские авторы могут имитировать средствами арабского языка восстановление связки «быть» в других языках, совершенно не достигает своей цели, поскольку не показывает главного: что такая имитация в самом деле лишь восстанавливает связку, а не добавляет глагол «быть» (или его варианты) к фразе, меняя при этом ее структуру.
Во-вторых, даже если такой глагол «быть» добавляется к фразе, реально роль связки играет не он, а то местоимение хува «он», которое не может не сопровождать его. Это добавляет особую пикантность ситуации, поскольку хува «он» латентно заключено в глаголе. Однако это совершенно неочевидно для инокультурного взгляда, который может продолжать рассматривать фразу с добавленным глаголом «быть» (или его вариантами), не замечая, что вместе с этим глаголом добавлена и подлинная связка — оставшаяся между тем скрытой и в этом смысле не восстановленная.
1.3.2.3. Необходим ли эксплицитный учет логики смысла для адекватного отражения инокультурной теории?
Поставим в этой связи такой вопрос: достаточно ли сознательно сформулированной позиции исследователя, желающего «симпатизировать» не-западной, например, классической арабской, филологической традиции и не желающего игнорировать ее достижения, нивелируя их «в угоду» современной западной лингвистике, — достаточно ли одной такой исследовательской установки для того, чтобы заметить все нюансы изучаемой традиции, чтобы, иначе говоря, адекватно отразить ее? Является ли, таким образом, эксплицитный учет логико-смысловой обусловленности теории необходимым, или только дополнительным, условием ее адекватного отражения, коль скоро речь идет об инокультурной традиции?
Ответим на этот вопрос, воссоздавая ситуацию изучения арабской филологической теории компетентным западным исследователем, сознательно нацеленным на ее адекватное отражение, но по понятным причинам никак не учитывающим логико-смысловых факторов ее формирования. Такая установка как нельзя более отчетливо заявлена в манифесте Ж. Боаса и Ж.-П. Гийома, предваряющем их капитальный труд по истории арабских грамматических учений:
Мы считаем, что уже не менее полувека исследователи истории арабских грамматических учений идут большей частью по ложному пути. Они исходят из того, что историческая и структурная лингвистика накопила опыт и знания, с высоты которых может судить — и осуждать — все творчество арабской грамматической традиции, и что всякое плодотворное изучение языка должно непременно согласовываться со взглядами, полностью отличными от нее. Мы же, напротив, считаем следующее.
1. Единственным связным, всеобъемлющим и прицельно-объясняющим описанием арабского языка на сегодняшний день является то, которое мы обнаруживаем в сочинениях арабских грамматиков.
2. Тексты арабских грамматиков представляют собой незаменимый источник для любого описания арабского языка как с точки зрения представленных в них фактов, так и предложенных ими объяснений.
3. Теория арабских грамматиков составляет сама по себе предмет изучения, независимо от ее значения для сравнительных исследований заимствований и влияний. Это — самостоятельные области, и не следует их смешивать [Боас, Гийом, с. VII—VIII].
Такое заявление предполагает, что авторы сознательно стремятся использовать методологию самих арабских грамматиков для описания арабской грамматической теории. Но может ли эта как нельзя более сильная установка быть выдержана без учета логико-смысловых факторов, обусловивших исследуемую теорию? Сможет ли исследователь, принадлежащий иной культуре, увидеть методологические основания филологического мышления изучаемой традиции?
Вряд ли кто-то станет спорить, что категория ’асл играла в грамматике (как и в других науках) именно методологическую роль, которая могла сочетаться с конкретно-терминологическим употреблением ’асл, ограниченным каждой данной областью. Об этом шла речь выше (см. Глава II, примеч. 16), и сейчас есть возможность вновь обратиться к данному вопросу. Насколько успешно наши авторы справятся с задачей вычленения методологической роли ’асл, без чего их установка, как следует из их манифеста, не может быть проведена в жизнь?
Слово ’асл означает «корень». В качестве грамматической категории оно сохраняет это значение, указывая на «корень слова». Отмечая этот общеизвестный факт, Боас в своем разделе книги называет его «значение-1». Но все дело в том, что, с его точки зрения, термин ’асл имеет и другое значение, которое никак не сводится к первому и потому должно быть маркировано как «значение-2». Это — «абстрактное отображение» (representation abstraite). Именно так рассматривает Боас функцию ’асл, разбирая хрестоматийный пример из одной из арабских грамматик, где кавала названо ’асл для кала «сказал» [Боас, Гийом, с. 28]. Речь идет о распространенном приеме объяснения трансформации формы слова ввиду наличия в корне так называемого «слабого харфа». Дело здесь совершенно не в содержательных особенностях этой теории, которыми нет нужды обременять читателя, а в использованном в ней приеме объяснения. Он состоит в том, что берется некое теоретически конструируемое начальное состояние слова, а затем через цепочку разрешенных (регулярных) трансформаций из него получают реально функционирующее в языке. В данном случае форма кавала являлась бы нормативной формой для «сказал», если бы харф вав был не «слабым», а обычным. Именно в этом смысле реконструированное кавала относится к реальному кала как ’асл. Что форма типа кавала в подобных объяснениях устойчиво мыслится как именно изначальная, из которой затем получают реальную, подтверждается многочисленными примерами арабских грамматик. Поэтому отношение ’асл к своему корреляту-фар‘ («ветви») — это именно отношение предшествующего к последующему, а вовсе не отношение общего к частному или единичному. Это принципиально, поскольку в «механизме» вывода «ветви» из «корня»-’асл последний не сохраняется вполне в своем неизменном виде в каждой из своих копий-«ветвей» (а так должно было бы мыслиться соотношение между ними, если бы ’асл служил, как предполагает Боас, «абстрактным отображением»), а дает «ветвь» при замене одного из своих элементов на другой. При такой замене не происходит ни восхождения, ни нисхождения по лестнице абстрагирования, и «ветвь» оказывается ничуть не более конкретна, чем ее «корень»-’асл. Да и трудно было бы представить, на каком основании кавала можно было бы вслед за Боасом считать «абстракцией» от кала. Разве при переходе от второго к первому мышление отвлекается от чего-то акцидентального, частного, нерелевантного для сущности данного явления, разве оно находит форму общего представления для единичного? Разве замечает оно в меняющемся единичном что-то, что безусловно присутствует в нем всякий раз, и именно это оставляет, отказываясь от преходящего? Такого рода ходов как раз не совершается, и вряд ли в текстах классического периода найдется им подтверждение.
Речь, таким образом, идет не об экзотических нюансах экзотической филологической теории, но о ее устойчивом положении, касающемся ни больше ни меньше как самой процедуры обобщения. Где, если не здесь, следует искать самую суть методологического мышления классической арабской культуры, то есть именно то, что сознательно стремятся схватить наши авторы и не упустить в угоду господствующим западным теориям? Отметим также, что описанный механизм перехода ’асл-фар‘ «корень-ветвь» настолько распространен среди арабских филологов (и не только среди них, конечно же), что представить себе какую-то неинформированность (или плохую информированность) Боаса в данном вопросе просто невозможно.
Спросим теперь, действительно ли два значения термина ’асл: как «корня» слова и как реконструируемого феномена, из которого получают феномен реальный, — различаются настолько, чтобы считать их двумя независимыми значениями, как это делает Боас?
Говоря о корне (заметим для справки, что в арабском языке корень представлен не единым блоком, который в принципе может быть равен целому слову, как в русском и некоторых других языках, а, как правило, тремя согласными, перед, после и между которыми помещаются гласные и другие согласные, чтобы образовать слово), Гранде замечает, что
корень — это извлекаемый морфологическим путем из совокупности основ «остов» из согласных звуков, из которых путем набора разных гласных и аффиксов как бы строятся основы и слова [Гранде, с. 19].
Для нас тут важно, что корень арабского слова — это набор согласных, выделяемый постфактум, после того, как сравнение нескольких реальных слов выявляет в них общий корень, благодаря чему эти слова и оказываются «однокоренными». Так выделенный корень может затем, в изложении теории, как бы предшествовать реальному слову. Именно об этом и говорит Гранде, указывая, что из корня «путем набора разных гласных и аффиксов как бы строятся основы и слова». Мало сомнений в том, что такая процедура — именно как процедура — не отличается от той, в которой ’асл употребляется для описания формы кавала в отношении реальной кала. Ведь и в том и в другом случае мышление сперва совершает переход от реальной языковой формы (будь то набор слов, взятый для нахождения общего корня, или форма кала) к теоретически сконструированной, которая строится таким образом, чтобы затем она могла быть представлена как «начальная» и породить реальную языковую благодаря одному или нескольким разрешенным теорией (регулярным) переходам. С этой точки зрения ’асл употребляется в двух случаях не просто в схожем, а в одном и том же значении. Причем значение это — именно методологическое, показывающее, каким образом филологи работают с языковым материалом, описывая его теоретически.
Почему же этой как будто очевидной вещи не замечает Боас, разыскивая — именно ее? Вряд ли тому есть иное объяснение, нежели представление о том, что обобщение должно протекать только как родовое абстрагирование. Ведь когда речь идет о кавала в отношении к кала, арабский филолог формулирует то, что мы назвали бы правилом, и именно как «правило» пытается описать эти его представления Боас. Однако тогда, когда речь заходит о поиске корня для группы слов, такой корень никак не может быть понят как «правило» в отношении этих слов. Очевидно, что этим, и только этим вызвано желание Боаса развести два значения ’асл. Но не менее очевидно и то, что оно опирается на молчаливо принятую посылку относительно сути процедуры обобщения, которая, безусловно, целиком заимствована из родной для исследователя культуры.
Для того чтобы совпадение двух теоретических процедур работы с языковым материалом, предполагаемых термином ’асл, стало вполне очевидным, достаточно признать, что обобщение не обязательно протекает как абстрагирование в пользу родовых признаков. Общее может быть представлено тем, что не наличествует в обобщаемых явлениях как таковое, но что возникает как их совпадение на внеположной им области. Именно так арабский корень обобщает слова, и именно так кавала обобщает кала. Не буду утверждать, что описанный механизм обобщения прямо и непосредственно воплощен в этих двух случаях во всех своих деталях, но что именно его функционирование объясняет и оправдывает для арабского теоретического мышления употребление одного и того же термина ’асл в обоих случаях, несомненно. Этот термин, таким образом, употребляется вполне связно и последовательно, — чего Боас не смог заметить.
Со сказанным вполне согласуется и то общее положение классической арабской мысли, которое состоит в том, что некое значение, описываемое как ’асл, может подвергнуться «расширению» и тогда употребляться в другом смысле. Например, рассмотрев значение термина кавл «речение», как он употребляется в грамматике, Ибн Джинни говорит:
Такова основа (’асл) оного. А затем ее расширяют (сумма йуттаса‘ фи-хи) и «высказывание» устанавливают для верований и воззрений [Ибн Джинни, ч. 1, с. 17—18].
Здесь никак нельзя счесть, что терминологическое употребление кавл «речение» в грамматике представляет собой «общий случай» для его употребления в отношении вероучения или высказываемых людьми мнений. Второе получается из первого как переход к чему-то, что принципиально внеположно первому. При таком переходе от общего случая — ’асл («корня», или, в не менее релевантном переводе, «основы») к частным случаям — фуру‘ «ветвям» происходит не уточнение общего родового понятия за счет видовых спецификаций, не сужение смысловой области за счет наполнения ее большим количеством содержательных характеристик, не вписывание видового значения внутрь уже намеченной родовой области, а переход за пределы области-’асл к новой области-фар‘. В этом принципиальное различие процедур обобщения (и, соответственно, обратной процедуры перехода от общего к частному), предполагаемых двумя логиками смысла, — различие, которое не мог увидеть Боас, не обращая на логику смысла специального внимания.
Рассмотренный вопрос имеет еще одну сторону. Выше речь шла о корне как корневых харфах в их отношении к слову как целостной конструкции из харфов. Но можно рассмотреть и смысл корня в его отношении к смыслу слова, поставив тот же вопрос: является ли смысл слова видовой спецификацией смысла корня, который в таком случае будет мыслиться как некое родовое понятие? Я, естественно, спрашиваю совершенно не о том, как в действительности образуются слова от корней; меня интересуют представления об этом тех ученых двух рассматриваемых традиций, которые считали (или считают) возможным сам этот вопрос ставить и рассматривать. Что их не столь много и в «нашей», и в классической арабской филологии, нас не должно смущать, поскольку дело касается не решения самой проблемы соотношении смысла слова и смысла корня (если последнее понятие вообще признавать релевантным), а лишь того, какие процедуры мышления используются при попытке ее решения в той и другой традиции.
Отвечая на этот вопрос, сопоставим мнения лингвиста-семитолога С. С. Майзеля и уже упомянутого Ибн Джинни.
В опубликованной после его смерти работе Майзель пишет:
Корень является основным носителем понятия в слове, его концептуальным ядром. Понятие, выраженное корнем, носит абсолютный характер, т.е. не выражает никаких отношений к другим понятиям. Если отношения выражаются грамматическими средствами, то понятия в их независимом самодовлеющем бытии выражаются корнем. Корень является подлинной реальностью языка в том смысле, что живые носители последнего ощущают корень, осознают его, хотя и с разной степенью отчетливости [Майзель, с. 87][60].
Корень в представлении Майзеля — нечто схожее с тем, что мы назвали бы родовым понятием. Так, он пишет, что для всякого носителя арабского языка корень л-б-н означает «нечто, связанное с молоком». Очевидно, что это «нечто молочное» и выступает для Майзеля тем не до конца оформленным, но намеченным в своих принципиальных пределах смысловым полем, которое будет уточнено благодаря добавлению морфем, конкретизирующих это общее понятие и дающих его видовую спецификацию. И в самом деле, взяв такие слова, как ЛаБаН «молоко», аЛБаНа «давать молоко» и иЛтаБаНа «питаться молоком», мы впишем их внутрь широкой намеченной Майзелем области «нечто, связанное с молоком» как те или иные ее конкретизации.
Майзель считает, что для классической семитской (арабской и еврейской) филологии вовсе не характерно внимание к семантической стороне перестановки корневых харфов[61]; очевидно, во время написания работы ему остался недоступным труд Ибн Джинни — и в самом деле едва ли не единственного среди арабских филологов, подробно изложившего свои взгляды на соотношение смысла корня и смысла однокоренных слов[62]. Насколько идеи Майзеля относительно господства родо-видовых по своей сути процедур языкового мышления подтверждаются текстом Ибн Джинни?
Арабский филолог пишет:
Итак, я скажу: Смысл [харфов] «» к-в-л, где бы мы их ни обнаружили и как бы они ни были расположены, одни раньше других, другие позже, — это живость (хуфуф) и движение (харака). Все шесть видов их перестановок используются, и ни одна из них не опущена, а именно: «» к-в-л, «» к-л-в, «» в-к-л, «» в-л-к, «» л-к-в, «» л-в-к.
Первый корень — «» к-в-л, а именно, «говорение» (ал-кавл). В самом деле, рот и язык приходят в движение и беспокойно передвигаются, говоря. Говорение противоположно молчанию (сукут), которое обусловливает неподвижность (сукун). Разве не видишь, что когда говорение начинается, начальный харф всегда бывает движущимся[63], а когда завершается, последний харф всегда бывает неподвижным[64]? Второй корень — «» к-л-в, в том числе килв, то есть дикий осел, как он назван в силу своей живости и быстроты движений[65]… Пятый — «» л-к-в, в том числе ал-лаква — [название] для орла. О нем так говорят, поскольку он очень подвижен и быстро летает… Отсюда также ал-лаква — паралич лица. Совпадение (илтика’)[66] эти двух («орла» и «паралича».— А. С.) [заключается] в том, что форма лица оказалась потревоженной (идтараба), как будто в нем — некоторое проворство (хиффа) и легкомыслие (тайш), так что нет в нем ничего верного и никакой правильности. …Дороги, которыми мы идем сейчас, труднопроходимы, и непросто до них добраться и в них углубиться. И тем не менее сказанного не следует отрицать и отбрасывать [Ибн Джинни, ч. 1, с. 5—11].
Присмотревшись к этому рассуждению, мы обнаружим, что «живость» и «движение», выделяемые Ибн Джинни в качестве смыслов корня к-в-л, равно как и всех возможных его перестановок[67], нигде не выражены никаким из однокоренных слов (слов, «образованных» от этих корней). Это означает, что сам «смысл корня» получен Ибн Джинни вовсе не так, как это должен был бы делать, по представлению Майзеля, всякий носитель арабского языка. Следуя родо-видовой семантической логике Майзеля, Ибн Джинни должен был бы для корня к-в-л найти в качестве его смысла «нечто, связанное с говорением», расширив семантическое поле слова до родового понятия, в которое можно было бы вписать другие однокоренные слова как его видовые спецификации. Однако арабский филолог поступает не так. Он обнаруживает смысл корня и всех вариантов его перестановок как нечто, лежащее вне каждого конкретного слова как такового, и в то же время как то, в чем все конкретные слова совпадают. Нахождение этих смыслов требует перехода от каждого слова к этой области, а не абстрагирующего очищения от специфицирующих признаков.
Подводя итог, заметим: в каждом из рассмотренных случаев мы наблюдали у представителей классической арабской культуры действие одних и тех же процедур нахождения смысла. Они столь же устойчиво контрастировали с параллельными процедурами (процедурами, решающими такие же задачи, например, нахождение «общего» смысла, «общего» случая как правила, но выстроенными иначе), которые демонстрирует мышление представителей западной культуры. Мы увидели и то, какие устойчивые искажения становятся итогом попытки выразить первые так, как если бы они были вторыми (отразить мышление классической арабской культуры так, как если бы оно строилось по родо-видовой семантической логике). Такие искажения являются неустранимым следствием неучета логико-смысловых факторов формирования теории — любой теории, подчеркну это еще раз, поскольку логико-смысловая определенность мышления не может не проявляться в любых его результатах.
1.3.2.4. Какой может быть минимальная грамматика?
Завершим этот раздел ответом на вопрос, который был поставлен в самом его начале: как возможна минимальная грамматика языка?
Теперь нетрудно ответить на него, опираясь на опыт рассмотрения процедур построения и нахождения осмысленности в разных культурах. Осмысленность создается и обнаруживается в соответствии с той логикой смысла, которая определяет для данной культуры основания смыслопостроения. Этот поиск, как не раз говорилось, может быть нерефлексивным — это никак не умаляет императивности логики смысла. Теория, определяющая условия осмысленности, но не учитывающая явно логико-смысловую обусловленность языка и мышления, тем не менее подспудно выразит основные логико-смысловые тезисы, имеющие отношение к ее области. Поскольку задача нахождения минимальной грамматики — это задача нахождения минимальных условий осмысленности, то и минимальные грамматики в культурах, построенных на разных логиках смысла, будут различаться в соответствии с различием последних. Это мы и видели как контраст соответствующих представлений классической арабской филологии и современной западной лингвистики.
Контраст означает параллельность, то есть отсутствие возможности прямого сведения одного к другому (одного представления о минимальной грамматике к другому, одной логики смысла к другой). Говоря об этом, я имею в виду адекватное сведение, то есть такое, которое сохраняло бы существенные черты редуцируемого феномена и позволяло бы восстановить их из «свернутого» состояния, используя лишь средства, предоставляемые самой редуцирующей теорией, как если бы мы ничего не знали об интересующем нас развернутом состоянии (не допуская, иными словами, семантического petitio principii).
Это положение о параллельности логик смысла не отрицает, а, напротив, предполагает правильность двух тезисов, которые следует подчеркнуть:
1. Прямое выражение смысловых феноменов одной культуры средствами другой, когда эти культуры построены на разных логиках смысла, всегда возможно. Вместе с тем оно неизбежно будет неадекватным (в описанном выше смысле термина «адекватность»).
Поэтому расхожее возражение против излагаемых здесь взглядов, которое можно выразить краткой формулой: «Понимаем же мы другие культуры, общаемся же мы с их представителями без всяких “логик смысла”», — не достигает своей цели и по своей сути вовсе не направлено против логико-смысловой теории. Чтобы действительно служить аргументом, это возражение должно было бы быть дополнено доказательством адекватности восприятия иной культуры без учета логики смысла.
Из этого следует, что сравнительное изучение любых инокультурных смысловых феноменов должно учитывать логико-смысловые факторы их формирования, если оно стремится к адекватному их отражению.
2. Невозможность прямого адекватного сведения друг к другу логик смысла и сформированных на их основе смысловых феноменов не отрицает возможности непрямого адекватного их обобщения.
На эту возможность я неоднократно указывал вскользь по ходу рассуждений и вновь подтверждаю ее сейчас. Возможность такого обобщения означает, что на самом деле мы способны адекватно понять иную культуру (культуру, построенную на иной логике смысла). Однако подобное понимание должно быть построено не как прямое выражение созданных ею смысловых феноменов средствами нашего мышления, а как сперва нахождение общего выражения для логик обеих культур, а затем — формулировка изучаемого инокультурного феномена на этом общем языке с последующим переводом на логико-смысловой язык «нашей» культуры.
Я вернусь к этому вопросу в Главе III. Сейчас отмечу лишь, что нахождение такого общего выражения для параллельных логик смысла, служащих реальным основанием смыслополагания в реальных культурах, возможно как их обобщение. Что процедура обобщения — одна из логико-смысловых процедур, а значит, различается в разных логиках смысла, должно быть уже ясно. Обобщение, способное вывести на уровень, общий для параллельных логик смысла, для каждой из которых характерна своя процедура обобщения, оказывается обобщением второго порядка (общее выражение параллельных процедур обобщения).
Трансляция (адекватное отображение) феноменов одной культуры в феномены другой культуры, если их логики смысла различаются, протекает тогда в два этапа: перевод с логико-смыслового языка изучаемой культуры на язык общей логики смысла; перевод с него на язык логики смысла воспринимающей культуры.
Примером такой трансляции может служить и ответ на вопрос, вынесенный в заглавие настоящего параграфа. Минимальная общечеловеческая грамматика не может быть представлена как отражение какой-либо из частных логик смысла. Она может быть получена только как отражение описанной выше общей логики смысла, которая стоит в равном отношении к любой из частных и параллельных друг другу логик смысла.
1.4. Термин «оность» как абстрактное выражение связки
Этот разговор идет в классической арабской философии в двух основных направлениях. С одной стороны, это, как мы уже видели, обсуждение вопроса о хува «он». Постепенная философская разработка этого понятия, равно как и производного от него хувиййа «оность», наполнение их все более богатым содержанием характерны более всего для калама, исмаилизма и суфизма. С другой стороны, представители арабского перипатетизма использовали термин «оность», когда пытались выразить в терминах арабского философского мышления античные, прежде всего аристотелевские представления о связке и соотносимые с ними представления о бытии. Сделано это было прежде всего при переложении и комментировании аристотелевского корпуса, в попытке аутентично передать идеи Стагирита. Что интересно, уже отмеченные интенции арабского философского мышления отнюдь не утеряли своего влияния на собственную мысль арабских перипатетиков, хотя проявились у них скорее в выстраивании понятий «возможное» и «необходимое». Не лишено основания высказываемое историками арабской философии мнение о том, что эта пара понятий служит в арабском перипатетизме для определения изначального и далее несводимого отношения к вещи, будучи основой всех дальнейших рассуждений. В этом смысле данная терминологическая пара занимает у арабских перипатетиков (прежде всего у ал-Фараби и Ибн Сины, равно как у достаточно многочисленных продолжателей их идей) то же место, что категория «бытие» у Аристотеля и в целом в западной философской традиции. Сравнение этих идей, с одной стороны, с термином «оность», разрабатывавшимся в других направлениях арабской философской мысли, а с другой — с представлениями о вещи, которые должны были бы вытекать из категории бытия как фундаментальной, будет представлять для нас особый интерес.
1.4.1. Калам
Мы начали исследовать связку, заметив, что вещь мыслится как совпадающая сама с собой благодаря своей «утвержденности», которая не является «бытием». Мы далее нашли, что связка понимается не как «быть», но как «он» (хува). В этот комплекс представлений встраиваются высказываемые мутазилитами соображения относительно роли хува «он» как абсолютного «общего знаменателя» всех вещей. Они развивают их в ходе дискуссии о божественном атрибуте «лик», о которой сообщает ал-Аш‘ари:
Они разошлись во мнениях, говорится ли о Боге, что у Него лик (ваджх). Одни говорили, что у Бога — лик, который — Он [Сам] (хува хува). Так говорил Абу ал-Хузайл [ал-‘Аллаф]. Другие подчеркивали: мы говорим «лик» расширительно (тавассу‘ан), а отсылаем [при этом] к утверждению (исбат) Бога, поскольку утверждаем (нусбит) такой лик, который — Он [Сам] (хува хува). Ведь арабы замещают вещь «ликом», например, можно сказать: «Если бы не твой лик (лав ла ваджха-ка), я бы не сделал этого», — что значит: «Если бы не ты, я бы не сделал этого». Так говорил ан-Наззам, большинство басрийских мутазилитов, а также багдадские мутазилиты. Третьи же отрицают, что можно упоминать «лик» и говорить «у Бога лик». Если их спрашивали: «А разве Сам Бог не говорит: “Все гибнет, кроме лика Его”[68]?» — они отвечали, что читают Коран [так], но иначе нежели при чтении Корана не говорят, что «у Бога лик». Так говорили последователи ‘Аббада [Ашари, с. 189].
Оставим в стороне мнения тех (‘Аббад и его последователи), кто отрицал всякую возможность перетолковать «лик» и сделать этот атрибут философски осмысленным. Нас интересует, как поступали те, кто такую возможность признавал. Конечно, истолкование божественных атрибутов прямо связано с пониманием единства в его соотношении с множественностью (единство Бога и множественность его атрибутов), речь о которой впереди. Но вопрос о «лике» не случайно и у ал-Аш‘ари вынесен как бы отдельной строкой: в его обсуждении нет возможности применить некоторые из приемов (о них речь ниже; см. Глава II, § 2.2.1. Позиция мутазилитов (1)), которые допустимы при обсуждении других божественных атрибутов.
Как же действуют мутазилиты, признающие возможность обсуждать вопрос о «лике» Бога? Прежде всего обращает на себя внимание их фактическое единодушие, поскольку позиция ал-‘Аллафа отличается от позиции прочих мутазилитов (первое и второе мнения соответственно в изложении ал-Аш‘ари) по второстепенному вопросу, не имеющему прямого отношения к сути обсуждаемой проблемы. В том, что касается самой процедуры переформулировки атрибута «лик», между мутазилитами (повторю, признающими такую возможность) наблюдается согласие. «Лик» (ваджх) сводится к «он» (хува), причем речь идет о совпадении двух вещей: лик — не что иное, как Бог, — и такое совпадение выражается повторением «он» (хува хува). Это совпадение и оказывается утверждением (исбат). Понимание совпадения вещей с самими собой, о котором шла речь выше («вещи утверждены как вещи…»), подтверждается здесь разъяснением, которое приводит ал-Аш‘ари: «вещь» совпадает со своим «ликом», что и ведет к ее «утверждению» (исбат).
Заметим, что ни в одном из приводимых ал-Аш‘ари мнений «лик» не отождествляется с «существованием» (вуджуд) Бога. Последним, далее не сводимым и не отъемлемым от вещи ее основанием оказывается не «бытие», а «утвержденность», наиболее непосредственно выражаемая местоимением третьего лица «он». Отметим в этой связи различие между «утверждением» (исбат) и «утвержденностью» (субут, сабат), с одной стороны, и «существованием» (вуджуд), с другой: если первое фундаментально и не только не перетолковывается, но, напротив, служит основанием перетолкования другого, как в случае с «ликом», то второе может перетолковываться и, более того, требует перетолкования. «Существование» не оказывается нередуцируемым основанием вещи, но лишь качеством, привходящим к ней и дополнительным в отношении нее, причем это касается равно всех вещей, в том числе, и даже в первую очередь (в связи с проблемой единства), Бога. Поэтому здесь отсутствует аналогия с тем пониманием «бытия» как привходящего к любой вещи, но полностью совпадающего с сущностью Бога, которое было характерно для западного средневековья[69]. О том, что это различие не случайно и не второстепенно, но вытекает из самой сути обсуждаемых здесь проблем, будет возможность поговорить ниже. Отмечу здесь попутно, что такое понимание «существования» (вуджуд) как «атрибута» (сифа) вещи, присоединяемого к ее «самости» (зат) и тем самым превращающего вещь в двоицу, а не единицу, было характерно фактически для всех направлений средневековой арабской философии, начиная с калама и кончая суфизмом (включая в числе прочих и арабских перипатетиков). Но этого никогда не говорится об «утвержденности», напротив, введение этого понятия позволяет решить проблемы, возникающие при упоминании «существования». Таким образом, в самом основании онтологических построений классическая арабская философская традиция демонстрирует удивительную последовательность в принципиальном разведении двух понятий.
Вот что ал-Аш‘ари сообщает о мнениях мутазилитов по поводу «существования» Бога:
Что касается высказывания о Творце, что Он сущий (мавджуд), то ал-Джубба’и заявлял, что высказывание о Творце «Он сущий» может быть в смысле «познанный» (ма‘лум), и что [высказывание] Творец непрестанно «Дающий существование» (ваджид) вещам — в смысле непрестанно «Знающий» (‘алим) [вещи], и что «познаваемое» (ма‘лумат) — непрестанно «существующее» (мавджудат) для Бога и «познаваемое» для Него в смысле, что Он непрестанно знает его; а [что Он] «сущий», может быть в смысле, что Он непрестанно «познанный» (лам йазал ма‘луман), и в смысле, что Он непрестанно «бытийствующий» (лам йазал ка’инан).
Хишам Ибн ал-Хакам заявлял, что смысл [высказывания] «сущий» о Творце — что Он тело, поскольку Он — сущий и вещь. ‘Аббад отрицал, что о Творце можно говорить, что Он «бытийствующий» (ка’ин). Иные говорили: смысл того, что Творец «сущий», — в том, что Он «вещь». Иные говорили: смысл того, что Он «сущий», — в том, что Он ограничен (махдуд). Так говорили уподобители (мушаббиха)[70]. Иные говорили, что смысл того, что Он воплощенно-сущий (мавджуд ал-‘айн), — в том, что Он непрестанно утвержденно-воплощен (лам йазал сабит ал-‘айн). Это высказывание отсылает к Его утверждению (исбат).
‘Аббад говорил, что смысл высказывания о Творце «сущий» — утверждение (исбат) за Богом [данного] имени. ‘Аббад отрицал, что о Творце можно говорить «Само-стоятельный» (ка’им би-нафси-хи), что Он — «воплощенность» (‘айн), что Он «душа» (нафс)[71], что у Него «лик» (ваджх) и что Его лик — Он [Сам], что у Него руки, глаза и бок. Он произносил «Бог наше довольство: Он надежный защитник»[72], только читая Коран, а так, в речи, этого не говорил. Речение Божье: «Ты знаешь, что в душе моей, а я не знаю, что в душе Твоей»[73], — он истолковывал так: Ты знаешь, что я знаю, а я не знаю, что Ты знаешь. Он не говорил, что Бог — «поручитель» [Ашари, с. 520—521][74].
Как видим, упоминание «существования» составляет для мутазилитов проблему, а вовсе не то основание, к которому можно было бы приводить рассуждение, ее разрешая. «Существование» должно быть перетолковано, и тем, к чему оно сводится, оказываются в числе прочего и «вещь», и «утверждение». Я намеренно привожу соответствующее место у ал-Аш‘ари целиком, стремясь при этом не к тому, чтобы утомить читателя обилием трудновоспринимаемых цитат, но лишь желая показать масштаб проблемы перетолкования «существования», которая стояла перед мутазилитами, а также тот факт, что, кажется, никто из них не счел «существование» последним, не нуждающимся в дальнейшем объяснении фундаментом рассуждения о Боге. В отличие от этого, «он» (хува) выступает именно таким, не требующим обоснования началом рассуждения, например:
Абу ал-Хузайл [ал-‘Аллаф] говорил: Он знающий благодаря знанию, которое — Он, Он могущественный благодаря могуществу, которое — Он, Он живой благодаря жизни, которая — Он [Ашари, с. 164].
Местоимение третьего лица «он» выражает чистую «утвержденность» того, о чем идет речь, не предполагая в «утверждаемом» никаких содержательных характеристик, и именно благодаря этому и оказывается тем последним основанием, к которому может быть сводимо все, но которое само ни к чему не сводится.
1.4.2. Арабский перипатетизм
Арабский перипатетизм являет нам противоположный (если угодно, контрастный) пример опробывания термина хувиййа, который производен, по всей видимости, от хува «он», для передачи античного понятия «бытие» и последовавшего за тем отказа от него.
В своем (или приписываемом ему) переводе аристотелевской «Метафизики» этот термин использовал еще Исхак Ибн Хунайн, передавая им различные оттенки аристотелевского «бытия», которые Стагирит разводит в известном отрывке (Метафизика, V, 7). Ал-Кинди употребляет хувиййа в том же значении, образовывая производные от него хавва «давать оность» и тахавва «приобретать оность»[75]. Но уже ал-Фараби и Ибн Сина, как справедливо отмечают исследователи, отказываются от этих терминов в пользу имеющих корень в-дж-д вуджуд «существование» и мавджуд «сущее». Ибн Рушд употребляет арабское мавджуд «сущее», критикуя хувиййа «оность» в передаче того же отрывка «Метафизики», где Исхак Ибн Хунайн использовал «оность»[76]. Вероятно, ко времени Ибн Рушда стало совершенно очевидным отличие употребления хувиййа «оность» в арабской философской традиции от того смысла, который вкладывался в термины «бытие» и «сущее» античной традицией, тогда как переводчик, живший намного раньше его, использовал тот термин, который казался ему ближе к собственному восприятию проблематики.
Интересно, что Ф. Джабр и Ф. Шехади, специально исследовавшие вопрос о связке и бытии [см. Джабр, Шехади 1969, Шехади 1975], считают, что пара вуджуд-мавджуд «существование-сущее» была заимствована ал-Фараби у мутакаллимов, а затем утверждена авторитетом Ибн Сины в качестве одной из основных категорий перипатетиков. При этом молчаливо, а иногда и явно принимается положение о том, что введение этих категорий в философский лексикон снизило уровень философской рефлексии и не позволило во всей полноте отразить проблематику бытия, занимавшую античных мыслителей. Интересно, что, говоря об использовании категории мавджуд «сущее» Ибн Рушдом, Шехади замечает, что тот просто вкладывает в нее все то многообразное содержание, которое Аристотель мыслил в понятиях to on и einai. А до этого использование категорий, имеющих корень в-дж-д, выхолащивало проблематику существования: имеющие этот корень понятия буквально означают «нахождение» (вуджуд) и «находимое» (мавджуд), а мышление способно как бы беспрепятственно «найти» во внешнем существовании то, что предварительно конструирует в себе как хакика «истинность» вещи.
Так или иначе, эти исследователи, стремящиеся обосновать тезис об отсутствии принципиального культурно обусловленного отличия арабской философии от западной, а потому желающие найти свидетельства беспрепятственной возможности обсуждения понятия «бытие» так, как оно происходило в известной арабской культуре античной традиции, вынуждены признать, что арабский язык не представляет собой никакого принципиального препятствия для формулировки этой проблематики, хотя вместе с тем реально такая проблематика формулировалась только в прямых переводах Аристотеля (как упомянутый перевод Исхака Ибн Хунайна или комментарий Ибн Рушда на «Метафизику»), тогда как в традиции собственного философского мышления проблематика бытия вовсе не получила того отражения, которое поставило бы ее на уровень напряженного обсуждения этого понятия в античности.
Но это именно то, что констатирую и я. Однако в отличие от защитников разобранной позиции я добавляю: подлинный центр философских дискуссий представлен вовсе не вопросом о «бытии» как таковом, а вопросом об «утвержденности» и ее соотношении с понятиями «существование» и «несуществование». Что и для арабских перипатетиков дело обстояло именно таким образом, нам еще предстоит убедиться (см. Глава II, § 1.6. «Возможное» арабских перипатетиков); и хотя категориальное оформление их позиции отличается от иных направлений классической арабской философии (они говорят о «возможном» и «необходимом» как далее несводимом основании наличия вещи, а не о ее «утвержденности»), по сути оно составляет продолжение дискуссии в том же русле. Поэтому, если мы хотим увидеть подлинный нерв философского рассуждения в классической арабской традиции, его следует искать не там, где мы привыкли видеть основание фундаментальной философской проблематики в западной традиции.
Что касается вопроса об арабском языке как подходящем или не подходящем для «хорошей» формулировки античной проблематики бытия, то можно лишь повторить то, что выдвинуто в качестве одного из тезисов этой работы. Дело не в языке как таковом, а в той логике смысла, которая стоит и за языковыми формами, и за созданными на этом языке философскими рассуждениями: логика смысла, а не язык как таковой блокирует обсуждение одной проблематики и, напротив, предполагает формулировку другой.
Нельзя не обратить внимание на еще один ход мысли, который продемонстрировал Шехади в своей статье [Шехади 1975], поскольку рассуждения такого типа слишком распространены. Этот исследователь пишет о «необычности» и «уникальности» глагола «быть» в греческом, который совместил в себе по меньшей мере две различные функции, в других языках распределенные между разными словами, а именно — функцию выражения бытия и функцию предикации. Что при этом предикация понимается как приписывание некоторого предиката субъекту и не исследуется — да и никак не предполагается — сама возможность какого-либо различия в понимании предикации между разными традициями, различия, которое я называю процедурным, вполне очевидно и не вызывает удивления. Что бытие также понимается как предельная категория философского рассуждения, задающая проблемное поле метафизики в любой традиции, также принимается этим автором абсолютно и некритически. Однако обратим внимание, к каким содержательным выводам неизбежно ведет его такое игнорирование процедурной стороны формирования смысла. Ведь достаточно увидеть то, о чем говорю здесь я, чтобы отказаться от странных теорий, которые вынужден строить Шехади, описывая уникальность греческого: в арабской философской традиции центральной проблемой является не проблема бытия, а проблема утвержденности вещи и ее связи с существованием и несуществованием. Эта проблема выражается в философском дискурсе не только термином субут «утвержденность», но и хувиййа «оность». Предикация же здесь опирается на представление об утвержденности предиката за субъектом, которая выражена посредством хува «он».
В арабской мысли, таким образом, наблюдается вполне нормальная (а не исключительно присущая греческому мышлению, как считает Шехади) и, более того, неизбежная для любого последовательного и логично выстроенного рассуждения органическая связь между пониманием способа представленности вещи для нас и способа нашего познания этой вещи (прежде всего устроением предикации). Другое дело, что увидеть это можно, только понимая и принимая, что способ представленности вещи для нас не единствен, что можно говорить о нескольких (в этой книге речь идет о двух) таких способах. Они не сводимы друг к другу напрямую, что я и подчеркиваю, говоря об их параллельности.
Давая обзор понимания связки в философско-лингвистических учениях, Н. Арутюнова пишет:
Поскольку истинность суждения определяется отношением к действительности, первичным для связки является значение бытия, вследствие чего оно обычно выражается так называемым глаголом существования (verbum substantivum) [Арутюнова, с. 453].
Если принимать этот тезис как абсолютный (а так, по-видимому, и поступает Шехади), следует признать, что любое мышление может выражать отношение к действительности и строить предикацию только с помощью глагола, выражающего значение бытия. Что таких глаголов может быть несколько, сути не меняет, поскольку различие языковых средств не меняет тождества выражаемой мысли. Поэтому наш автор и ведет речь о «глаголах типа “быть”», которые разыскивает в арабском и функционирование которых прослеживает.
Ирония состоит в том, что Шехади, стремясь «уравнять в правах» античную и арабскую традиции и подчеркнуть, что и арабам ничто не мешало философствовать столь же успешно, как это делали греки, объективно подводит читателя к прямо противоположным выводам, заявляя, что греческий язык уникальным образом помог использовавшим его философам развить ту систему мысли, что сложилась у них. Она, согласно Шехади, может быть увидена и воспроизведена мыслителем в любой другой традиции, в том числе и в арабской, пусть и в иных языковых формах. Почему же тогда арабская традиция этого не сделала, как не может не признать сам Шехади? Если строить рассуждение таким образом и так задавать вопрос, ответ на него предрешен самой его постановкой. Увидеть собственное изучаемой традиции можно, только если мы не станем искать в ней содержание, предопределенное нашими процедурными ожиданиями (ожиданиями, сформированными привычной нам логикой смысла), и не замечать того, что этим ожиданиям не отвечает.
1.4.3. Ал-Кирмани
1.4.3.1. Термин «оность» как таковой
Как уже говорилось, от местоимения «он» (хува) был, по всей видимости, образован абстрактный термин «оность» (хувиййа). Хотя он появился довольно рано, еще в переводах Аристотеля, активное его использование в разработке собственной философской проблематики — особенность исмаилизма и суфизма. Но прежде чем говорить об этом, отметим, что это одно из понятий, которые в классическом арабском философском лексиконе занимают место, соответствующее месту категории «сущность» в западной традиции.
В арабском философском языке нет термина, который мог бы считаться эквивалентом термина «сущность». Вместо такого эквивалента мы имеем целую семью терминов: зат (самость), хакика (истинность), ‘айн (воплощенность), хувиййа (оность), махиййа (чтойность), если называть наиболее очевидные и не упоминать второстепенные, такие, как халиййа ([*]-ли-йность)[77], фардиййа (индивидуальность), шахсиййа (единичность). Из этого многообразия однозначно соотносится с разработанной в западной традиции терминологией лишь махиййа «чтойность», которая вместе со своим западным эквивалентом восходит к античной усия и имеет строго очерченную область приложения: чтойность — это родо-видовое определение вещи, отвечающее на вопрос «что это?». Установление эквивалентности остального семейства терминов понятиям западной традиции представляет большую сложность. И дело не только в этимологии («сущность» образована от «существование», тогда как такой связи не наблюдается ни в одном из перечисленных терминов). Дело в том, что за собственно этимологией действительно стоит подсказываемая ей несвязанность этих терминов с понятием «существование» и несводимость их к нему. Одни из этих терминов могут противопоставляться другим, хотя в иных контекстах могут и отождествляться. Сейчас идет речь только об одном из них — хувиййа «оность».
Именно этот термин активно использует Хамид ад-Дин ал-Кирмани, виднейший исмаилитский философ, когда выстраивает свои рассуждения о Боге. Мы не можем сказать: «о бытии Бога», поскольку именно «существование» (вуджуд) ал-Кирмани в отношении Бога отрицает. Это не значит, впрочем, что он стремится убедить нас в отсутствии Бога. С его точки зрения, если Бог не может быть назван «существующим», это не значит, что «Его нет». Ал-Кирмани выражает это положение, используя термины ’айсиййа и лайсиййа — абстрактные производные от упоминавшихся выше ’айс и лайс (см. Глава II, § 1.2.3. Отрицательная связка в арабском языкознании, перипатетизме и ишракизме). Говоря, что лайсиййа не может быть приписана Богу, ал-Кирмани просто утверждает, что отрицать Бога нельзя, поскольку лайсиййа, производное от отрицательной частицы лайса, выражает именно чистую «отрицательность» (я перевожу термин как «ничтойность»)[78]. Что касается ’айсиййа, то этот термин для ал-Кирмани выражает свойство быть неким «нечто», то есть нести какие-то положительные характеристики. Почему никакие положительные характеристики не могут быть приписаны Богу, станет ясно из текста самого ал-Кирмани, который процитирован ниже. Эта трактовка термина ал-Кирмани отправляется, очевидно, не от понимания ’айс как хува «он», а от понимания его как «нестесненности» и «наполненности» (объяснение этого термина у Ибн Манзура см. выше), то есть как указывающего на обладание какими-то положительными характеристиками.
Заметим, что ал-Кирмани вовсе не говорит о «существовании» и «несуществовании», о «бытии» и «небытии». Этот момент легко может ускользнуть от внимания. Так, издатель рукописи «Успокоения разума», известный исследователь исмаилизма Мустафа Галиб в своих постраничных примечаниях, объясняя специфическую терминологию ал-Кирмани, пишет, что, отрицая лайсиййа («ничтойность»), ал-Кирмани тем самым «подтверждает существование (вуджуд) Бога» [Кирмани 1983, с. 130], — и это при том, что сам ал-Кирмани посвящает целый параграф рассуждению о том, что «существование» (вуджуд) не может быть приписано Богу. Вероятно, тут дело не в невнимательности исследователя: вряд ли издатель произведения, сличивший несколько его списков, просто «проглядел» этот момент. Дело скорее в объективной трудности восприятия терминологической системы ал-Кирмани, с которой сталкивается сознание, не привыкшее к той логике смыслополагания, о которой у нас идет речь и которая и объясняет построение интересующего нас текста.
В самом деле, ал-Кирмани говорит, что Бог не может отрицаться и что ему в то же время не могут быть приписаны никакие положительные характеристики, в том числе и «существование». Но тогда как вообще возможен разговор о Боге? Ал-Кирмани дает очень простой ответ: он возможен как разговор об «утвержденности» Бога, то есть о его «оности». Проследив за ходом построения текста, который приведен ниже, читатель может убедиться, сколь последовательно ал-Кирмани различает «существование» и «утвержденность», говоря о том, что «оность утверждена» несмотря на отрицание любых положительных характеристик, в том числе и «существования». Мы встречаемся здесь не с чем иным, как с вариантом тезиса мутазилитов, с которого начали разговор о классической арабской философии. Если у них нечто оказывается утверждено как нечто до своего существования, то для ал-Кирмани оность Бога утверждена как оность помимо, без своего существования. Я не хочу сказать, что ал-Кирмани сознательно модифицирует тезис мутазилитов; я не могу даже с уверенностью утверждать, что ему было известно именно это их высказывание, хотя критика в адрес мутазилитов на страницах «Успокоения разума» свидетельствует о знакомстве ал-Кирмани с их взглядами. Скорее можно говорить, что одна и та же логика соотнесения «утвержденности» и «существования» руководит построениями мыслителей двух направлений. Что ал-Кирмани говорит об утвержденности, вовсе не связанной с существованием, тогда как для мутазилитов утвержденность предполагает существование, предшествуя ему, не только не отрицает, но, напротив, подчеркивает преемственность их построений, выполненных согласно одной и той же логике смысла. Почему ал-Кирмани так модифицирует соотношение между смыслами «утвержденность» и «существование» и какие это имеет последствия для его философской системы в целом, пойдет речь ниже. Сейчас же настало время обратиться к тексту.
Ал-Кирмани начинает с констатации невозможности отрицать оность Бога. Здесь, где речь идет о вещах мира, а не о Боге, «утвержденность» и «существование» употребляются рядом, как будто через запятую. Но и здесь уже неравенство этих двух понятий достаточно ощутимо: можно быть «утвержденным в существовании», говорит ал-Кирмани, что показывает, во-первых, несинонимичность этих двух терминов, а во-вторых, логическое предшествование первого второму, — совсем как в том высказывании ал-Хаййата об утвержденности вещей прежде их существования:
Поскольку одно из сущего опирается в своем существовании на другое и поскольку, будь то, на что это в существовании своем опирается и с чем существование его связано, неутвержденным (гайр сабит) в существовании и не существующим (ла мавджуд), то и существование этого было бы невозможно,— итак, поскольку доказано, что это существует только благодаря тому, то отсюда вытекает, что Тот, к Кому восходит все сущее, существующее благодаря Ему, от Него и опираясь на Него, это Бог (кроме Которого нет бога), Чья ничтойность (лайсиййа) невозможна и не-оность (ла-хувиййа) Которого ложна: если бы Он был ничем (лайс), то и все сущее было бы ничем, а поскольку сущее есть, то и Его ничтойность невозможна [Кирмани 1995, с. 51][79].
Наверное, не будет ошибкой сказать, что ал-Кирмани здесь говорит о сущем, которое «не утверждено в существовании и потому не существует». Отметим также употребление в этом отрывке термина «опора» (истинад): одно в сущем «опирается» на другое, и то, что служит «опорой», должно обладать «утвержденностью» и (вследствие этого?) «существованием».
То, что служит первоопорой всего существующего, то, что дает всему «утвержденность», не может быть, по мысли ал-Кирмани, «нечто». Он доказывает это в параграфе «О том, что Всевышний не может быть никаким “нечто”»:
Ввиду того, что нечто (’айс) как таковое нуждается в том, на что оно опирается в существовании (о чем уже было сказано), и ввиду того, что Он (да славится величие Его!), — постольку, поскольку Он — Он, — выше всякой нужды в чем-либо ином, в связи с чем Он — это Он, то отсюда вытекает, что Всевышний не может быть никаким «нечто». Ведь нечто потому нечто, что ему предшествует то, что и сделало его этим «нечто». Невозможно, чтобы Всевышний был таким «нечто», и Он (поскольку Он — Он) не нуждается в ином, посредством чего становился бы Собой, а следовательно, и опирался бы на то иное: Он неизмеримо выше и славнее подобного. И, поскольку Он (Славен Он и Велик!), будучи Самим Собою, не нуждается в чем-либо ином, в связи с чем Он — это Он, то Он не может быть никаким «нечто» [Кирмани 1995, с. 52].
Отметим настойчивое повторение формулы «поскольку Он — это Он» (фи-ма хува хува): речь идет именно о чистом случае совпадения Бога с самим собой, о том, что мы выразили бы формулой «поскольку Он есть Он». Эта чистая тавтология, рассмотрение вещи только как таковой, как совпадающей только с самой собой и ни с чем другим, выражается у ал-Кирмани термином «оность» (хувиййа), который, как увидим ниже, совершенно исключает упоминание о существовании, а значит, и о «есть». Пожелав выстроить аналог «критике метафизики», которая в западной философии основывается на представлении о том, что метафизика, исследующая «бытие», гипостазирует связку «быть», мы должны будем в нашем случае критиковать «учение об утвержденности» (вместо «метафизики» или «онтологии»), которое вырастает из внимания к связке «он» и оперирует выражающим эту утвержденность абстрактным понятием «оность». Отметим также тот факт, что, хотя текст ал-Кирмани (цитируемый здесь и ниже) пестрит упоминанием «существования», внимательное прочтение его без труда обнаружит, что все эти случаи касаются обсуждения «нечто» (’айс) или «сущего» (мавджуд), но не божественной оности, для характеристики которой исмаилитский философ последовательно применяет термин «утвержденность». «Утвержденность» оказывается синонимичной или по крайней мере совместимой с чистой оностью, тогда как «существование» несовместимо с рассмотрением чистой вещи как таковой.
Такую чистую оность ал-Кирмани в первом параграфе второй главы своего «Успокоения разума» и противопоставляет «ничтойности» (лайсиййа), говоря тем самым, что оность не может отрицаться. Речь опять-таки не идет о «несуществовании» (‘адам), как этот термин трактует уже упоминавшийся Мустафа Галиб, говоря, что лайсиййа — это ‘адамиййа («несуществовательность», «небытийность») [Кирмани 1983, с. 130]; лайсиййа у ал-Кирмани, как это следует и из приведенного выше анализа этого термина, и из контекстов его употребления у самого этого автора, не тождественна «несуществованию», но является чистым отрицанием.
Если чистой «оности» противопоставляется, с одной стороны, чистое отрицание, то с другой — наполнение ее какими бы то ни было положительными характеристиками, которые, по мысли ал-Кирмани, устраняют перво-утвержденность этой чистой оности точно так же, как ее устраняет и чистое отрицание. Таким образом, противопоставление лайсиййа и ’айсиййа у ал-Кирмани — это не противопоставление «существования» и «несуществования», а противопоставление чистого отрицания и наполнения положительными характеристиками.
Что «нечто» (’айс) для ал-Кирмани — это не «чистое сущее», а сущее, имеющее некоторые дополнительные характеристики, свидетельствует его утверждение о том, что
«нечто» обязательно является либо субстанцией, либо акциденцией
и
не может быть не субстанцией и не акциденцией [Кирмани 1995, с. 53].
Если существование является чем-то дополнительным в отношении оности[80], то свойство быть «нечто» дополнительно уже в отношении самого существования. И здесь мы встречаемся с рассуждением, которое явственно высвечивает императивность логики смысла в отношении содержания выстраиваемых учений. Речь идет о ходе мысли, который подсказан данной логикой смысла, применение которого возможно и необходимо именно в рамках данной логики смысла и теряет смысл за ее пределами. Мы увидим, далее, что этот ход мысли характерен для представителей средневековой арабской философии и проявляет себя в различных философских дисциплинах.
Этот прием завершает рассуждения ал-Кирмани о том, может ли Богу быть приписано свойство «нечто». На первый взгляд, само его применение излишне. Внимательно прочитав текст соответствующего параграфа, мы увидим, что доказательство невозможности приписать свойство «нечто» Богу является как будто совершенно исчерпывающим. Ал-Кирмани весьма последовательный и строго логичный мыслитель, и пунктуальное перечисление им всех возможностей говорить о «нечто» и отрицание их в отношении Бога совершенно исключает всякую вероятность приписать Богу свойство «нечто». «Нечто» бывает либо субстанцией, либо акциденцией, и не бывает ничем иным; между тем Бог, как обстоятельно доказывает ал-Кирмани, не может быть ни субстанцией, ни акциденцией. Казалось бы, добавить к этому нечего, а главное, нет нужды. И тем не менее ал-Кирмани считает необходимым сказать:
Кроме того, если Всевышний — «нечто», то либо сам Он дал это свойство Своей самости (’аййаса зата-ху), либо нечто иное дало его ей. Сам Он не может придать Себе это свойство[81], ибо это означало бы, что Он [до того] был лишен его, а сие было бы чудом превращения и возникновения, как если бы Он не был, а затем стал: такое невозможно, ведь то, что не воплощено ни в одной из двух частей бытия[82], не может затем обрести бытие; если же за Ним стоит нечто действующее, то с таковым действующим и связано Его бытие. Невозможно также, чтобы что-то иное придало Ему свойство быть «нечто», ибо тогда бы оно предшествовало Ему. А раз ни то, ни другое невозможно, то и чтойность (’айсиййа) Его невозможна, а оность Его следует полагать вне пределов всяких «нечто», бытие коих связано с тем, что Он создал их [Кирмани 1995, с. 54].
Обратим внимание на первую фразу этого доказательства, задающую общую логику рассуждения. В ней сказано, что обладать свойством «нечто» можно, только если что-то придает это свойство. Дальнейшее рассуждение опирается на эту начальную идею, которая как таковая никак не доказывается. Именно в этом своем аксиоматическом статусе она и представляет интерес. В самом деле, разве является безусловно очевидным положение о том, что только благодаря приданию некоторого качества это качество может быть приписано «самости» (зат) вещи? Почему вещь не может сама «быть-“нечто”»? Почему совершенно очевидный ход, который был столь успешно использован в средневековой западной философии, не пригоден ал-Кирмани? Почему он не видит (очевидной, кажется?) возможности отождествить «нечто» и «самость», не говоря уже о том, чтобы отождествить «существование» Бога и его «самость»?
В самом деле, разбираемый добавочный прием доказательства того, что Бог не может быть «нечто», кажется, достигает как раз противоположного своей цели: он открывает для нас возможность приписать Богу свойство «нечто», сказав, что «нечто» и «Бог» едины. Но все дело в том, что эта возможность очевидна только там, где фразы типа «Бог есть» и «Бог есть собственное бытие» вырастают из самой логики полагания смысла, отраженной в языке благодаря связке «быть». Если для разбираемого нами мышления связкой служит не «быть», а «он», если вещь не «есть» она сама, но «утверждена» как она сама, то уж тем более и неким свойством она может обладать не в силу того, она «есть» это свойство, но благодаря тому, что это свойство «утверждено» в ней. Именно это положение и аксиоматично для ал-Кирмани, именно его он и высказывает.
Если это так, то ал-Кирмани, собственно, просто не может использовать такую возможность отождествить Бога и «нечто» благодаря «быть», сказав, что «Бог есть “нечто”». Что такое приписывание «нечто» Богу создаст проблему, поскольку «нечто» обязательно бывает субстанцией либо акциденцией, а Бог не может быть ни тем ни другим, как то доказывает ал-Кирмани выше, нас тут не интересует, поскольку это уже следующий за данным шаг, а речь идет о том, возможен ли этот шаг как таковой. Дело, таким образом, не в том, какое качество мы приписываем вещи, говоря, что «вещь есть Х», а в том, что сама процедура такого приписывания предполагает ответ на вопрос: «Благодаря чему “вещь — это Х”», то есть — что утвердило Х за этой вещью. Именно к такому «утверждающему» и возводит ал-Кирмани гипотетическое свойство Бога «являться нечто», исследуя его допустимость, и говорит, что «дающим» это свойство может быть либо сам Бог, либо нечто иное. В первом случае ал-Кирмани никак не может отождествить Бога как «дающего» самому себе это свойство с самим свойством — потому, что такое отождествление предполагало бы, что «Бог есть “нечто”», а это высказывание возможно только при принятии связки «быть».
Здесь ал-Кирмани говорит о «нечто». Но, как станет ясно чуть ниже, точно так же строится и его рассуждение о приписывании чему-то «существования». Более того, можно выдвинуть гипотезу о том, что именно так устроена в арабской мысли предикация вообще — как исследование «утвержденности», а не «бытия».
Я рассматривал вслед за ал-Кирмани пример, в котором утвержденность свойства отрицается. Предположим, что рассуждение привело бы к противоположным выводам и такая утвержденность подтвердилась бы. Можно ли было бы в таком случае сказать «Бог есть “нечто”» так же, как о том было бы сказано в традиции западного мышления? Иначе говоря, употреблялась ли бы связка «быть», приписывающая вещи некое свойство, после того, как была установлена «утвержденность» такого свойства в вещи?
1.4.3.2. «Оность» в отношении к кана «быть-возникать» и характер последнего
Такой вопрос может показаться излишним, поскольку выше мы говорили именно о том, что связка и в языке и в логике мыслится как «он» (как утвержденность), а не как «быть». Но вместе с тем остался незатронутым вопрос о том, как же расценивать глагол кана «быть». Мы видели, что он не используется в арабской мысли там, где речь идет о восстановлении связки. Если фразы, построенные с его помощью, не расцениваются как устанавливающие отношение между субъектом и предикатом с помощью связки «быть», то что они, собственно, означают? Вернемся к разобранной нами цитате. Ал-Кирмани говорит:
батил ’ан йакун хува
му’аййисан ли-зати-хи из йактади залика ’анна-ху лам йакун ’айсан ва залика
’айат ал-истихала ва ал-хадас би-’анна-ху лам йакун фа-кана
Сам Он не может придать Себе это свойство, ибо это означало бы, что Он [до того] был лишен его, а сие было бы чудом превращения и возникновения, как если бы Он не был, а затем стал…
Здесь глагол кана употреблен ал-Кирмани именно так, как то предполагается его пониманием в традиции средневековой арабской мысли. Словарь Ибн Манзура [Ибн Манзур] объясняет соответствующее отглагольное существительное кавн через хадас «случай, новшество, возникновение». Именно в такой связи и употреблен здесь глагол кана: он указывает на то, что нечто получило какое-то свойство, иначе говоря, претерпело какое-то изменение; не случайно в арабском перипатетизме кавн обозначает «возникновение» и применяется в качестве альтернативы термина худус «возникновение», характерного для мутакаллимов, а известное словосочетание ‘алам ал-кавн ва ал-фасад означает «мир возникновения и порчи». Качеством, которое меняет данное нечто и благодаря приобретению которого оно «возникает», может быть само существование. Известное кораническое «’иннама кавлу-на ли-шай’ин ’иза арадна-ху ’ан накула ла-ху кун фа-йакун» (Коран, 16:40) с этой точки зрения следует переводить: «Когда велим Мы быть чему-либо, остается Нам только сказать: “Будь!” — и то возникает»[83]; возможно, осмысление глагола кана в средневековой арабской традиции коррелирует с его употреблением в этом аяте, фиксирующем возникновение вещи как обретение ею именно свойства кавн «возникновение». Если это так и если для глагола кана характерно именно такое значение, то понятно, что он не может служить выражением связки «быть» в том ее понимании, которое в западной традиции в конечном счете обрело отточенную форму «S есть P», поскольку не фиксирует неизменную тождественность двух вещей.
Таким образом, можно указать на дополнительный аспект занимающего нас вопроса о связке. Дело не обстоит таким образом, что связка хува «он», выражающая утвержденность, используется в арабском языке потому, что она вытеснила или заместила собой связку «быть», которая как таковая имелась и могла бы функционировать в таком качестве. Глагол, который, кажется, наиболее подходит для того, чтобы играть роль подобной связки, глагол кана, имеет значение не «быть» в смысле неизменной тождественности, но «возникать» в смысле изменяться, приобретать новое качество. Таким образом, дело не в том, что в результате конкуренции двух альтернативных связок преобладание получила связка хува «он», но в том, что связки «быть» в том ее качестве, в каком она функционировала и функционирует в традиции западной мысли, арабская мысль просто не имеет.
Поскольку речь идет о моменте, весьма значимом для общего хода рассуждений, отметим также следующее. Ат-Таханави в своем «Тезаурусе технических терминов» (Кашшаф истилахат ал-фунун) утверждает, что в каламе глагол кана не употреблялся в значении «возникновение», а производный от него термин кавн служил синонимом вуджуд «существование» [Таханави]. Это может показаться оправданным, поскольку мутакаллимы пользовались специальным хадаса «возникать» и соответствующим худус «возникновение», так что могли бы не испытывать нужды в синонимичном кана. В самом деле, для выражения идеи возникновения в каламе последовательно употребляется именно семья терминов, имеющих корень х-д-с. Но вместе с тем мнение ат-Таханави вряд ли можно признать правильным, поскольку для мутакаллимов весьма характерны высказывания типа такого:
Он (‘Аббад Ибн Сулайман. — А. С.) говорил, что познаваемое — познаваемое Богом до своего возникновения (кавн), подвластное — подвластное Богу до своего возникновения (кавн), что вещи — вещи до своего возникновения (кавн), что действия — действия до своего возникновения (кавн), но считал невозможным, чтобы тела были телами до своего возникновения (кавн), сотворенное — сотворенным до своего возникновения (кавн), а претерпевающее — претерпевающим до своего возникновения (кавн) [Ашари, с. 159][84].
Поскольку случаи подобного употребления глагола кана и однокоренных с ним слов достаточно устойчивы, можно считать неслучайным его значение «возникать».
1.4.3.3. «Оность» в соотношении с «существованием»
Вернемся к рассуждениям ал-Кирмани о соотношении между понятиями «утвержденность», «оность» и «существование». Решающим для его определения оказывается § 7 гл. II «Успокоения разума». Я привожу пространную выдержку из этого текста, демонстрирующую логику определения интересующего нас соотношения.
Прежде всего ал-Кирмани, следуя аристотелевской мысли, устанавливает, в чем состоит подлинность или неподлинность познания:
Поскольку правдивость заключается в том, чтобы утверждать в вещи что-либо действительно в ней сущее и отрицать за ней то, чего в ней нет, то мы считаем, что если мы припишем Всевышнему какой-либо атрибут, а тот атрибут — не Его, а иного (ибо он относится к сущему от Него, кое отлично от Всевышнего), то тем самым солжем — ведь ложь и состоит в том, чтобы приписывать вещи то, чего у нее нет, или отрицать за ней то, что у нее есть. А если мы будем отрицать за Ним какой-нибудь атрибут и тот атрибут будет не Его, а кого-либо иного, то мы в том будем держаться правды [Кирмани 1995, с. 63].
Следуя намеченному пути, ал-Кирмани оговаривает следующее. Необходимо различать отрицание атрибутов Бога и отрицание Бога; первое составляет условие формирования правильного представления о Боге, а второе — прямую его противоположность. Но что значит «отрицать Бога», и как этого избежать? Отрицание Бога — это отрицание его «оности», говорит ал-Кирмани:
Если, утверждая через отрицание, мы говорим: Он — ни это, ни то и ни другое,— и все, что мы отрицали, является сущим в сотворенной Природе, то тем самым оказалось утвержденным то, к чему не привходил никакой атрибут. Так Он оказывается отличен от всего сущего, поскольку мы отрицаем, что оно ― Он, Всевышний. Это вовсе не означает устранения [Бога] (та‘тил), как то представляется некоторым умникам, что мнят себя в здравом уме, а на самом деле враги себе. Всепожирающий огонь устранения [Бога] возгорается маяком безбожия только тогда, когда действие частицы «не» (а оно — отрицание) специально направляется на Всевышнюю оность, дабы подвергнуть ее отрицанию, например, если говорят «не-Он» (ла-хува) или «не-Бог». Именно это означает открытое устранение [Бога], именно оно ввергает душу в пучину гибели, в геенну огненную. Здесь же действие частицы «не» направлено на отрицание атрибутов, а не Всеславной оности, так что отрицаются именно атрибуты, но никак не Всеславная оность [Кирмани 1995, с. 64].
Итак, отрицать в принципе можно любой атрибут, если только такое отрицание не уничтожает «оность» Бога. Именно благодаря «оности» Бог оказывается представленным в нашей речи и нашей мысли. Теперь перед нами стоят два вопроса. Какие именно атрибуты Бога могут и должны отрицаться? И как следует истолковать понятие «оность»; может ли оно быть соотнесено с фундаментальными понятиями «существование» и «утвержденность», и если да, то как именно?
Ответ на первый вопрос звучит так: отрицаться должны любые атрибуты Бога. Ал-Кирмани выдвигает этот тезис, критикуя прочие направления и школы средневековой арабской философии за неполное проведение этого принципа:
Поразмыслив над сим непредвзято, всякий поймет, что все погрешившие против истины украшали учения свои, стремясь в утверждении единобожия к тому же, к чему стремимся и мы, когда используем частицу «не» для отрицания за Всевышним того, что принадлежит иному. …
Несостоятельность утверждения единобожия посредством утверждения (исбат ва иджаб) за Всевышним атрибутов (а Он превыше их) как истинных (а не метафорично или как-либо еще в этом роде, к чему бывают принуждены люди ради красноречивости) становится ясной при исследовании сего вопроса. А именно, когда приписывают Ему атрибуты, то либо приходят к невозможному, чего нельзя сказать о Всевышнем, либо уходят в бесконечность, что означает небытийность (ла-вуджудиййа) сущего; и то и другое уничтожает единобожие. А именно, если то, на что сущее опирается в своем существовании, не является утвержденным (когда оно было бы утверждено само по себе и не нуждалось ни в чем ином), но для утверждения своей оности нуждается в ином, причем оность сего иного такова же, как и его, так что это иное будет нуждаться в другом ином, и так до бесконечности, то от него самого не проистечет акт (ибо утвержденность его самости обеспечивается иным, и этим он отвлекается от акта), а значит, не от него самого будет существовать сущее, но всегда от иного. Так же и числа, существование коих связано с единицей: если не утверждена она, то и прочие числа не будут незыблемы (ла йастакирр)[85] в существовании. Однако само сущее, существуя, существованием своим глаголет о ложности того, что уводит в бесконечность; а ложность того, что уводит в бесконечность, влечет и ложность высказываний, приписывающих Ему атрибуты (Он выше и славнее атрибутов!) [Кирмани 1995, с. 65—67 (курсив мой. — А. С.)].
Исследование вопроса о возможности приписать Богу какие-либо атрибуты дает ответ и на второй вопрос. Именно благодаря отрицанию любых атрибутов достигается искомое «утверждение оности» Бога. Ал-Кирмани говорит, что «оность» характеризуется «утвержденностью», причем в отношении Бога такая утвержденность должна быть «утвержденностью самой по себе»; иначе говоря, такой, которая не привнесена извне благодаря чему-то иному, но такова изначально.
Поскольку речь идет об отрицании всяких атрибутов, ясно, что утвержденность, мыслимая ал-Кирмани как непременное условие божественной оности, не является чем-то отличным от нее. Утвержденность — лишь иная формулировка оности, так что, говоря «оность», мы, собственно, лишь указываем на утвержденность того, о чьей оности идет речь. Если для Фомы Аквинского Бог есть собственная сущность и собственное бытие, так что эти три понятия не прибавляют ничего друг к другу, то в нашем случае Бог — это собственная оность, не что иное, как собственная утвержденность, и эти три понятия не превышают одно другое. Вопрос в том, как в нашем случае соотносятся понятия «утвержденность» и «существование» и, следовательно, составляет ли ряд «Бог—оность—утвержденность», выстраиваемый ал-Кирмани, какой-либо контраст ряду «Бог—сущность—существование», выстраиваемому Аквинатом, и если да, то в чем этот контраст состоит.
Что «утвержденность» связана с «существованием», сомнения не вызывает, ведь ал-Кирмани, проводя аналогию с единицей и числовым рядом, говорит, что «если не утверждена она, то и прочие числа не будут незыблемы в существовании». Это дает нам возможность зафиксировать отношение условия между утвержденностью и существованием: без утвержденности первоначала невозможно существование следствий. Именно на эту утвержденность начала и «опирается в своем существовании» сущее, как говорит ал-Кирмани[86], так что существование сущего является следствием утвержденности начала. Таким образом, на основании вышеприведенной цитаты можно предположить: утвержденность — это то, что предшествует существованию и составляет его условие. Что такое предположение правильно, подтверждается следующим рассуждением ал-Кирмани (оно непосредственно продолжает последнюю цитату):
Мы покажем на примере одного атрибута, как это приводит к невозможному, из чего будет следовать тот же вывод для всех остальных атрибутов. Итак, мы скажем: существование — один из атрибутов; утверждение, что оно должно быть приписано Всевышнему как истинный атрибут, приводит с необходимостью к выводу о том, что у Него, во-первых, имеется Всевышняя самость (да славится Всевышний Бог!), которая имеет существование как атрибут, а во-вторых, сам сей атрибут, существование, ибо Всевышний — не этот атрибут, а этот атрибут — не Всевышний. Тогда этот атрибут, приписанный Всевышнему, неизбежно должен быть обусловлен либо Его самостью (а она превыше того!), либо чем-то иным [Кирмани 1995, с. 67].
Прервем на этом месте рассуждение ал-Кирмани, чтобы присмотреться к заявленным положениям, составляющим исходную основу для довольно пространного доказательства, которое разворачивается дальше и к которому мы непременно вернемся. Собственно, таких исходных положений два. Они заявлены во второй и третьей фразах отрывка и заключаются в следующем:
1) если «существование» — истинный атрибут, то «Бог» непременно отличен от «существования»;
2) такой атрибут должен быть чем-то обусловлен как необходимый, причем это обусловливание понимается именно как «утверждение»[87].
Немного выше ал-Кирмани поясняет, что противоположностью «истинности» (хакика) приписывания атрибута является иносказательность (маджаз). Речь идет о традиционно принятой и в классическом арабском языкознании, и в логических сочинениях средневековых арабских авторов теории «указания на смысл» (далала ‘ала ал-ма‘на), согласно которой «слово» (калима) состоит из «выговоренности» (лафз) и «смысла» (ма‘нан), связанных отношением «указание» (далала)[88]. Существенный элемент этой теории представлен положением о том, что такое указание строится не как случайное, так что выговоренность указывает на «свой» смысл «по истине» (хакикатан). Для общего хода наших рассуждений небезынтересно, что арабская филология очень ясно разводит «знак» и «выговоренность» именно по признаку произвольности-непроизвольности их связи со своим смыслом. Закономерностью соответствия своему смыслу выговоренность отличается от знака (‘алам), который указывает на свое означаемое произвольно, так что такое указание не может быть названо истинным[89]. Если выговоренность данного слова начинает указывать на какой-то другой смысл (для чего в речи должны быть найдены достаточные основания, свидетельствующие о намерении говорящего изменить истинное указание), такое указание становится «иносказательным» (маджаз).
Таким образом, ал-Кирмани говорит, что, если атрибут действительно обладает «своим» смыслом, он не может быть отождествлен со смыслом «Бог». Отметим аксиоматичность этого тезиса для ал-Кирмани: он не только не обосновывает его, но и не говорит ничего, что предполагало бы возможность подобного обоснования.
1.4.3.4. Импликации для понимания предикации
Я так подробно останавливаюсь на этом тезисе в силу его значения для понимания процедуры предикации. Ал-Кирмани фактически говорит, что нельзя предицировать «существование» «Богу» таким образом, чтобы субъект и предикат, «Бог» и «существование», оказались тождественными и в этой тождественности неразличимыми. Поскольку такое отождествление невозможно, предикат должен быть «утвержден» за субъектом.
Дополним эти рассуждения достигнутым представлением о связке. Утверждение предиката за субъектом — это употребление «утверждающей» связки хува «он». Невозможность отождествления субъекта и предиката, когда бы они сливались в нечто неразличимое, — лишь иная формулировка тезиса о том, что разбираемое нами мышление не использует связку «быть», выражающую такую тождественность предиката субъекту. Таким образом, в двух выделенных исходных тезисах рассуждения ал-Кирмани просто сказано, что предикация устроена с помощью связки хува «он», которая предполагает утверждение предиката за субъектом при их внеположности друг другу.
Если это так, то понятно, почему эти положения носят для ал-Кирмани парадигмальный характер. Если они не более чем описывают способ устроения предикации, они и не могут быть иными. Устроение предикации — фундаментальная и несводимая основа нашего мышления, поскольку мы вряд ли можем избежать использования этой формы в каком бы то ни было высказывании. То, с чем мы встретились здесь, помогает понять один из основных тезисов этой работы: предикация имеет процедурные основания, и использование связки хува «он» выстраивает отношения между субъектом и предикатом иначе, нежели использование связки «быть». Поскольку процедурой определяется и содержание, в классической арабской мысли не могут быть построены теории, прямо зависящие от того типа отождествления, который достижим только с помощью связки «быть». С одним из примеров такой зависимости мы встречаемся в данном случае.
Разобранные два тезиса ал-Кирмани высказаны относительно предицирования существования Богу, или оности. Остается вопросом, распространяется ли это положение и на другие случаи предикации; является ли оно общим или ограничено только данным частным случаем. Не будем предрешать ответ на этот вопрос; отметим лишь, что высказано это положение так, как если бы оно было безусловно общим.
Отметим далее, что проблема приписывания Богу существования как нетождественного ему атрибута возникает именно для существования, но не для оности. Текст ал-Кирмани построен таким образом, как если бы оность, собственно, и не приписывалась Богу. «Бог» и «оность» употребляются в тексте ал-Кирмани одно вместо другого. Но это вместе с тем и неудивительно, если принять во внимание, что и «Бог», и «оность» выражают не что иное, как «утвержденность». Возвращаясь к вопросу относительно ряда «Бог—оность—утвержденность», выстраиваемого ал-Кирмани, и возможности его соотнесения с рядом «Бог—сущность—существование» у Фомы Аквинского, мы можем сказать, что сходство здесь не более чем внешнее. Если Бог отождествляется у Аквината с собственными сущностью и существованием именно благодаря использованию механизма предикации («Бог есть своя сущность и есть свое существование»), то ничего аналогичного в случае ряда «Бог—оность—утвержденность» у ал-Кирмани мы не наблюдаем: эти три понятия не отождествляются за счет предикации с помощью связки «быть» (поскольку эта связка не используется в разбираемой логике смысла) и не «утверждаются» одно другим благодаря связке хува «он», поскольку в таком случае они просто не были бы неразличимым «одним и тем же». «Бог», «оность» и «утвержденность» употребляются у ал-Кирмани как синонимы, но эта синонимичность не является следствием их предикационного отождествления.
Если это так, то почему «существование» не может попасть в число взаимозаменяемых терминов, став еще одним членом цепочки «Бог—оность—утвержденность»? Это объясняется самим строением логико-смысловой конфигурации в классической арабской мысли. «Существование» занимает в ней место смысла второго уровня, тогда как «утвержденность» — место смысла первого уровня. Употребляя «Бог» и «оность» как синонимы «утвержденности», ал-Кирмани просто ставит эти понятия на место смысла первого уровня; но эта операция оказывается невозможной относительно «существования», поскольку его место в логико-смысловой конфигурации — иное.
Отметим также следующее. Устройство предикации, в которой используется утверждающая связка хува «он», отражает устройство логико-смысловой конфигурации, в которой смысл первого уровня утверждает взаимное сочетание, взаимную соотнесенность смыслов второго уровня. Продолжая эту мысль, найдем, что «оность» Бога, или его чистая «утвержденность», как раз и является в отношении связки хува «он» тем, чем понятие «чистое бытие» выступает в отношении связки «быть». Если логико-смысловая конфигурация, выражающая процедуру смыслополагания в традиции арабской мысли, отлична от логико-смысловой конфигурации, выражающей процедуру смыслополагания в традиции западной мысли, — чему вполне соответствует и различие в устроении предикации, — то понятие «утвержденность» играет в процедуре смыслополагания в первом случае ту же роль, какую во втором играет понятие «бытие».
Зафиксировав это, нетрудно будет увидеть, почему любое предицирование добавляет нечто к оности Бога, как говорит ал-Кирмани. Высказывание, в котором Богу приписывалось бы существование, могло звучать (в своей полной форме, с восстановленной связкой) ’аллах хува мавджуд «Бог он существующий». Понятно, что в сравнении с чистым «он», то есть с чистой оностью, «существующий» является добавкой, которая обусловлена этим чистым «он», этой оностью, внеположна ей и отлична от нее.
Теперь можно привести окончание доказательства ал-Кирмани:
Если сама Его самость вызывает и обусловливает этот атрибут («существование».— А. С.), то необходимость его будет связана с утвержденностью этой самости самой по себе, прежде сего атрибута и без него, дабы она могла тогда произвести это действие — вызвать необходимость [атрибута]; а изначальная утвержденность самости означает, что нет ничего ей в том препятствующего и что она не нуждается ни в чем, что как-либо уводило бы ее в сторону от этой утвержденности[90]. Если же самость утверждена без этого атрибута и не нуждается ни в чем, что уводило бы ее в сторону от утвержденности, а существование — атрибут, с которым утвержденность никак не связана, то совершенно ясно, что для самости в этом атрибуте нет нужды (ибо сама она утверждена), а значит, нет и необходимой потребности (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было). А коль скоро она в нем не нуждается и не испытывает в нем необходимости (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было), то и приписывать его Ему как обязательный явно невозможно и не соответствует Его достославности, невозможное же нельзя приписывать Всевышнему.
Это в том случае, если обязательность сего атрибута соотносится с Его самостью, которая утверждена прежде этого атрибута. Если же приписать этот атрибут Всевышнему таким образом, что самость не будет предшествовать ему по утвержденности, но они будут в том равны[91], то это вызовет потребность в чем-то ином, что сделало самость особой (так что она — не сей атрибут) и атрибут особым (так что он — не сия самость) ― ведь самость не свободна от этого атрибута, как было бы, если бы она его делала необходимым, но этот равный с самостью атрибут не вызван ею и не ею сделан необходимым. Тогда получается, что утвержденность самости связана с необходимостью иного; если же необходимо иное, то и о нем придется говорить подобным образом, и так до бесконечности, что явно невозможно.
Итак, если иное, а не Он, вызывает необходимость этого атрибута, то речь пойдет, как мы сказали, до бесконечности, против чего свидетельствует разум, ибо сущее утверждено. И коль скоро необходимость этого атрибута приводит к тому, что мы показали, а сие ложно, и все атрибуты подобным же образом влекут невозможное, то Всевышний, следовательно, свободен от атрибутов (которые под дланью Его творения) и вознесен над ними, Он — действователь их и всех вещей.
…И пусть упрямец не утверждает обратное, уподобляя необходимую утвержденность самости [Бога] атрибутам (о коих мы говорили), приходя в том к замешательству и вступая на бесовский путь, затемняя дело и вводя в заблуждение, выстраивая невозможное. Здесь следует говорить только необходимое, что утвержденная самость [Бога] превыше атрибутов (всеславен Бог и велик!), а существование сущего нуждается в утверждении со стороны Всевышнего, на коего и опирается сущее в своем существовании (как мы то показали ранее) [Кирмани 1995, с. 67—69].
1.4.4. Ибн ‘Араби
Обратимся к текстам Ибн ‘Араби. Интересующие нас понятия употребляются в них в различных контекстах. Я приведу несколько выдержек из «Гемм мудрости» (Фусус ал-хикам) и прокомментирую их. Этим, естественно, не будет дано исчерпывающее представление об употреблении этих понятий в суфийской философии, хотя такое изложение послужит достаточной для наших целей иллюстрацией.
Я выбрал для этого два отрывка. Оба они, рассматривая человека, трактуют вопрос о единстве Бога и Творения. В первом речь идет о человеке как «преемнике» Бога, во втором — как о «действователе» и «рабе» Бога.
Создав Адама обеими руками, Бог возвеличил и прославил его. Потому и сказал Он Сатане: «Что удержало тебя от поклонения тому, кого сотворил Я Своими руками?»[92]. Он (человек.— А. С.) — не что иное, как воплощенность, в которой Он объединил две формы: форму мира и форму Бога (они — две руки Бога), Сатана же — одна из частей мира, которой не дана эта совокупность. Поэтому и стал Адам преемником: не будь он в явном по форме Того, Кто сделал его преемником в том, в чем Он сделал его преемником, то он не был бы преемником; а не будь в нем всего, чего требуют подданные, над которыми он был оставлен преемником (ибо опираются они на него, а потому он должен дать все, что им необходимо), не был бы он преемником над ними. И преемничество не пристало никому, кроме Совершенного Человека, ведь его явную форму Он устроил из истинностей мира и его форм, а его скрытую форму — по Своей форме. Потому и сказал Он о нем: «Я его слух и зрение»[93], а не «Я его глаза и уши»; различай же сии две формы. Так же точно Он — в каждом сущем в мире настолько, насколько того требует его истинность, однако ни у кого нет той совокупности, что у преемника, и взял он верх над всеми именно благодаря сей совокупности [Ибн Араби 1993, с. 153][94].
Начнем комментировать этот отрывок с конца. Что Бог «в каждом сущем в мире настолько, насколько того требует его истинность», должно означать не что иное, как тот факт, что, как говорит чуть выше сам Ибн ‘Араби, сущие вещи «опираются на него, а потому он должен дать все, что им необходимо»; хотя последнее сказано им относительно человека, тем не менее сказано как о «преемнике», замещающем Бога, а значит, тем более относится и к самому Богу. Тезис о необходимости «опоры», который выдвигает Ибн ‘Араби, как таковой не отличается от аналогичного тезиса, с которым мы имели дело, разбирая построения ал-Кирмани[95]. Понятие «истинность» (хакика; я имею в виду слова «насколько того требует его истинность») и выражает не в последнюю очередь «незыблемость», достигаемую благодаря обретению подобной опоры[96]. Вопрос в том, каким образом достигается эта опора. Принципиальное содержательное отличие философии Ибн ‘Араби от построений ал-Кирмани (равно как от традиции понимания опоры как линейной упорядоченности, что характерно для арабского перипатетизма, исмаилизма и ишракизма) состоит в том, что «опора» полагается им не вне, а внутри каждого сущего[97]. Но как ни интересен этот содержательный аспект, не он нас сейчас интересует[98]. Для нас важно, благодаря какой процедуре Ибн ‘Араби достигает своей цели.
В рассматриваемом отрывке используются понятия «явное» (захир) и «скрытое» (батин), о которых уже шла речь (см. Глава I, § 1.2.1.5. Описание логико-смысловой конфигурации в собственных терминах арабской теоретической мысли). Необходимость «различать две формы», о которой говорит Ибн ‘Араби, — это именно необходимость различения явного и скрытого. Я говорил выше (см. Глава I, § 1.2.3. «Утверждаемое» как взаимный перевод «явного» и «скрытого»), что процедурное требование к этой паре понятий состоит в том, что они должны находиться в отношении точного взаимного соответствия, взаимной переводимости. Как выговоренность слова указывает на его смысл «по истине» (хакика), так и здесь правильность отношения между явным и скрытым выражено термином «истинность» (хакика). Именно тем, что этот термин выражает такую правильность соотношения, и оправданы его коннотации с «незыблемостью». То, в чем воплощено это соотношение (конкретность сущего, хотя не обязательно его единичность — для обозначения последней служит особый термин, шахсиййа), называется «воплощенностью» (‘айн), — этот термин Ибн ‘Араби употребляет в самом начале отрывка.
Как же строится соотношение между явным и скрытым у Ибн ‘Араби? Он говорит, что в совершенном человеке скрытое устроено «по форме Бога», а явное — «по форме мира». То же самое, но в более четкой терминологии выражено им в следующем отрывке:
Деяние разделено между восемью членами человека, а Бог Всевышний известил, что Он — оность каждого из них[99]; посему деяния совершает именно Бог, никто иной, форма же — раба: [божественная] оность вплетена в него (раба.— А. С.), то есть в имя Его (именно так, не иначе), ибо Всевышний — воплощенность явившегося [Ибн Араби 1993, с. 227].
То, что выше было названо «скрытым», здесь определено как «оность». Но именно оность в традиции арабской мысли выражает, как уже говорилось, утвержденность. В употреблении этого термина у Ибн ‘Араби заметна та же закономерность: скрытое, то, на что «опирается» сущее, и названо «утвержденностью».
Мы встретились почти со всеми терминами, которые в классическом арабском философском дискурсе стоят на том месте, которое в традиции западной мысли занимает «сущность». Заметим, что рассуждая о них, нам не потребовалось прибегать к понятию «существование»: отсутствие этимологической связи между этой группой терминов и понятием «существование» не случайно. В нашем рассуждении, которое следовало за мыслью Ибн ‘Араби, они выстроились вокруг соотношения между явным и скрытым, определяя его и наполняя его содержанием. Группа терминов, о которых шла речь, выражает различные аспекты этого соотношения. Они, таким образом, возможны как описание логико-смысловой конфигурации самой по себе. В этом зависимость содержания от процедуры выступает наиболее непосредственно.
1.4.5. Связь логики смысла с постановкой и развитием философской проблематики
Подведем некоторые итоги. Начав разговор о конфигурации смыслов «утвержденность/существование-несуществование», я поставил далее вопрос о связке, перейдя от него к проблеме устроения предикации. Речь так или иначе шла также о проблематике единства. Тот факт, что пришлось затронуть все эти проблемы, не случаен. Связь между ними оказывается существенной — существенной с той точки зрения, которая принята в этой работе.
Я обратился ко всем этим вопросам, когда стремился описать строение логико-смысловой конфигурации, предполагаемой логикой смысла, на которую опиралась средневековая арабская мысль. Эти вопросы, таким образом, едины именно как вопросы описания логики смыслополагания. Еще раз повторю: это вопрос о связке, механизме предикации, единстве в его связи с множественностью. К этому списку так или иначе рассмотренных вопросов должен быть добавлен вопрос о противоположности и вопрос о понимании общего в его соотношении с частным, которые мы также затрагивали.
Перечисленными вопросами исчерпывается проблематика описания логико-смысловой конфигурации. Она носит комплексный характер в том смысле, что никакой из названных вопросов не может быть вполне понят без обращения ко всем прочим и, напротив, любой из вопросов логически предполагает постановку остальных. Поэтому можно сказать, что, рассматривая перечисленные проблемы, я был занят именно описанием логико-смысловой конфигурации, не отвлекаясь от этой задачи, даже если явно об этом не шла речь. И напротив, что описание логико-смысловой конфигурации — это не что иное, как постановка и рассмотрение всех этих вопросов в их взаимной связи. Эта зависимость способа постановки и решения центральных философских проблем от логики смысла до сих пор оставалась в тени. Данное исследование имеет целью разъяснить такую зависимость.
Теперь, пройдя часть пути, можно, оглянувшись, лучше отдать себе отчет в том, как именно строилось исследование, чему в действительности оно было посвящено и какие цели преследовало. Оставшаяся его часть будет отдана сознательному прояснению процесса разворачивания названной проблематики как процесса описания логико-смысловой конфигурации.
1.5. Императивность логики смысла: мнения оппонентов независимого статуса понятия «утвержденность»
Законы рефлексивного отношения к предмету исследования заставляют вернуться к началу, чтобы, заново осмыслив его, увидеть в зеркале этого переосмысления пройденный путь. Так и поступим. Обратимся вновь к вопросу о конфигурированности смыслов субут «утвержденность», вуджуд «существование», ‘адам «несуществование».
1.5.1. Гипотеза объективности логики смысла и возможность ее проверки
Напомню: мы начали с положения, высказанного известным мутазилитом Абу ал-Хусайном ал-Хаййатом о том, что «вещи — вещи до своего существования и что они утверждены как вещи до своего существования». Поставим теперь вопрос о том, насколько общепринятым был этот тезис в средневековой арабской философской мысли. Ведь если это положение непосредственно отражает конфигурацию смыслов «утвержденность/существование-несуществование», построенную согласно логике смысла, которая обосновывала смыслополагание в средневековом арабском теоретическом рассуждении (и не только в нем, но внимание здесь сосредоточено именно на этой стороне культуры), и, более того, являющуюся наиболее фундаментальным содержательным выражением этой логики смысла, поскольку смыслы, собранные в ней, отражают не только собственное соотношение, но и соотношение любых смыслов в логико-смысловой конфигурации, выстроенной по данной логике смысла (и, напротив, в данной логике смысла логико-смысловая конфигурация может быть создана только тогда, когда отношение между входящими в нее смыслами оказывается отношением «утвержденность/существование-несуществование», так что пара смыслов второго уровня утверждает смысл первого уровня между своим существованием и несуществованием, на области их совпадения, не принадлежащей ни тому ни другому смыслу; именно поэтому связкой в предикации служит «он», выражающее утвержденность, предикация оказывается утверждающей, а производный от связки термин «оность» отражает свойство смысла занимать позицию смысла первого уровня в логико-смысловой конфигурации), — если это так, то признание именно такого соотношения смыслов «утвержденность/существование-несуществование» должно быть, казалось бы, всеобщим и не подверженным сомнению в средневековой арабской философии и культуре.
Нам предстоит проверить правильность этой гипотезы. Эта проверка будет иметь решающее значение для подтверждения высказанных в этой работе положений о смыслополагании. Ведь они исходят из того, что логика смысла является логикой не в метафоричном, а непосредственном значении этого слова: она выражает закон смыслоустроения, правильность и императивность которого не зависят от нашего желания. Иначе говоря, в культуре, строящейся на основании данной логики смысла, осмысленность как таковая возможна только в рамках данной логико-смысловой конфигурации; осмыслить — значит вписать некий смысл в подобную логико-смысловую конфигурацию, поставив его на одно из возможных в ней мест и определив тем самым его отношение к смыслам, занимающим прочие места в такой конфигурации. Смысл строится так, и только так, независимо от желания носителей данной культуры.
Таким образом, логика смысла, согласно принятой здесь точке зрения, объективна. Не будет ли в таком случае объективно необходимым для всех представителей данной культуры признать конфигурацию смыслов «утвержденность/существование-несуществование», являющуюся, как было сказано выше, адекватной концептуализацией этой логики смысла? И далее, не будет ли всеобщность такого признания решающим свидетельством действительной объективности того, что здесь названо логикой смысла? Таков смысл вопроса, который мог бы быть задан ради критической проверки выдвинутых положений.
Прежде чем отвечать на него, посмотрим, не нуждается ли он в уточнении. Логика смысла объективна; это не значит, однако, что ее положениям следуют сознательно. Она может быть осознана, хотя, как правило, остается в тени. Бессознательное следование логике смысла поэтому следует отличать от сознательного принятия или непринятия тех теоретических положений, которые ее отражают или выражают. Если конфигурация смыслов «утвержденность/существование-несуществование» является содержательным отражением логики смысла, лежащей в основании смыслоустроения классической арабской культуры, то это еще не значит, что сознательное принятие или непринятие этой конфигурации как таковой служит прямым свидетельством действенности или недейственности названной логики смысла для тех, кто принимает или отвергает эту конфигурацию. Таким свидетельством может служить только действительная свобода от необходимости конфигурировать смыслы именно так, как того требует данная логика смысла: только если мышление свободно от того, чтобы признавать смысл как «утвержденный» при том, что «утвержденность» оказывается реально отличной от приписываемого ему «существования» и «несуществования» и при этом соотносится с последними именно так, как то предполагается данной логикой смысла, — только в этом случае можно говорить, что оно свободно от объективной власти данной логики смысла, строящей осмысление именно таким, а не другим образом.
Отвечая на поставленный вопрос, я буду поэтому различать эксплицитное, сознательное обсуждение категорий «утвержденность», «существование», «несуществование» в их взаимной связи — и объективное, проявляющееся вне зависимости от осознания этого автором текста конфигурирование смыслов, отражающее неизбежность приписывания им «утвержденности», «существования» и «несуществования».
1.5.2. Мутазилизм
1.5.2.1. Варианты взглядов
Непосредственным оппонентом мнения Абу ал-Хусайна ал-Хаййата о том, что «вещи — вещи до своего существования и что они утверждены как вещи до своего существования», оказывается сам ал-Аш‘ари. Изложив упомянутое мнение, он тут же опровергает его:
Это высказывание самопротиворечиво (мунакиду-ху), поскольку [для вещей] нет разницы между тем, чтобы быть утвержденными, и тем, чтобы быть существующими [Ашари, с. 518].
Отметим прежде всего, что это опровержение самим фактом своего наличия свидетельствует о значимости вопроса о предшествовании утвержденности вещей их существованию, поскольку, вообще говоря, ал-Аш‘ари нечасто позволяет себе столь откровенные и резкие оценки излагаемых мнений. И в самом деле, тезис о неразличении утвержденности и существования станет одним из краеугольных положений ашаризма, неизменно повторяемым ашаритскими авторами в начальной части их сочинений. Отметим это значение, придаваемое данному вопросу. И в нашей, и в зарубежной литературе уже почти общим местом стала характеристика калама как «теологии», иногда с эпитетом «рационалистическая», подчеркивающим большую ориентацию на доказательство, нежели на догматическое постулирование. Но даже столь шокирующие для исламского сознания, безусловно неприемлемые не просто для «теологов», рьяно отстаивающих положения исламского вероучения, но и для умеренных «религиозных мыслителей» положения, как высказанное Джахмом Ибн Сафваном мнение о том, что рай и ад невечны и будут уничтожены, или известное положение некоторых мутазилитов о сотворенности Корана, не вызывают у ал-Аш‘ари никакого личного отношения. Упоминая их, он лишь отмечает, что большинство мусульман не принимает эти положения и считает их ошибочными. Минимально необходимая, объективная констатация, не более того; никакой развернутой критики, а тем более борьбы с этими «еретическими» положениями, которой можно было бы ожидать от «теолога», мы не находим у ал-Аш‘ари, да и не встречаем, по существу, в ашаритской традиции. Другое дело — положение о предшествовании утвержденности существованию: ал-Аш‘ари неоднократно возвращается к нему в разных контекстах, по разным поводам, всякий раз споря с ним устами своих единомышленников или от собственного имени; да и ашаритская традиция, как уже говорилось, неизменно уделяет внимание этому вопросу. Обсуждение вопроса о соотношении утвержденности и существования в той или иной форме характерно для всех философских школ арабского средневековья; ниже пойдет речь и об этом. Такая «воспроизводимость» проблематики на протяжении длительного времени в культуре свидетельствует о том, что она носит не просто содержательный, но процедурный характер, а ее постановка и опробованные в ходе развития мысли варианты ее решения прямо вытекают из логики смыслополагания, характерной для данной культуры. Обычные содержательные положения, такие, как «невечность ада и рая» или «сотворенность Корана», несмотря на свою скандальность, могут быть опровергнуты и забыты, к ним не станут возвращаться; теоретический вопрос, носящий процедурный характер, то есть вытекающий из самого способа формирования логико-смысловой конфигурации, будет оставаться вечным вопросом для этой культуры.
Вернемся к ал-Аш‘ари. Высказывая несогласие с положением о предшествовании утвержденности существованию, он следует мнению своего учителя ал-Джубба’и. Тот считал, что
неправильно говорить «вещи — до того, как им быть (кабла кавни-ха)», поскольку их бытие — это они (кавну-ха хува хийа) [Ашари, с. 522].
Далее, ал-Джубба’и устанавливает тождество не только «вещи» и ее «бытия» (кавн)[100], но также и «существования» (вуджуд), так что три понятия оказываются у него синонимами:
Он опровергал тех, кто говорил: «Вещи — вещи до того, как им быть (кавн)», говоря, что это выражение неверно, поскольку их бытие — это их существование, не что-то иное, нежели они (кавну-ха хува вуджуду-ха лайса гайру-ха), и кто говорит: «Вещи — вещи до того, как им быть», тот тем самым как бы говорит: «Вещи — до самих себя» [Ашари, с. 162].
При этом ал-Джубба’и, вероятно, полемизирует не с одним ал-Хаййатом, поскольку ал-Аш‘ари сообщает нам, что
некоторые из багдадцев говорили: «Мы говорим, что познаваемое — познаваемое до того, как ему быть (кабла кавни-ха), и что подвластное — подвластное до того, как ему быть, и что вещи — вещи до того, как им быть»; но об акциденциях [так] говорить возбраняли [Ашари, с. 160].
Итак, согласно ал-Джубба’и, слово «вещь» не сообщает нам ничего сверх собственного «бытия» (кавн). Термин кавн остается в каламе, как уже говорилось, несколько расплывчатым. С одной стороны, имеется немало контекстов, где он явно звучит в соответствии со своим общеязыковым значением «возникновение»; с другой — немало и таких, где он употребляется как синоним вуджуд «существование». Единственное, что можно с уверенностью сказать, так это то, что, даже переводя термин кавн как «бытие» и считая его синонимом «существования», я делаю это только для того, чтобы номинально отличить его от последнего, но вовсе не ради указания на особый тип бытийствования, отличный от существования в пространстве и времени: категориального сходства с западной традицией такой перевод не предусматривает.
Итак, ал-Джубба’и сообщает нам, что вещи нет до того, как она обрела существование, и что говорить о ней можно только как о существующей[101]. Вот не оставляющая сомнений констатация этого взгляда:
Он отрицал, что [можно] говорить: «Вещи — до самих себя (ашйа’ кабла анфуси-ха)» [Ашари, с. 522].
Итак, вещь не предшествует самой себе. Это положение было бы просто тривиальным, если бы под «самой вещью» ал-Джубба’и не понимал, как мы видели выше, ее существование. Но именно это отождествление «самой вещи» и «существования вещи» приведет к весьма существенным сложностям в формулировании позиции ал-Джубба’и. Проследим за этим последовательно.
Итак, вещи не предшествуют сами себе,
однако они познаваемы [как] вещи до того, как им быть. Так же и субстанции, согласно ему, именуются субстанциями до того, как им быть, а цвета — цветами до того, как им быть [Ашари, с. 522].
Уже одно это признание означает, что познаваемая вещь — совсем не та, что существующая, и, более того, не та, что вещь-вообще (поскольку сама-вещь не отличается от своего существования, согласно ал-Джубба’и). Возникает вполне естественный вопрос: что же познается, если мы не имеем никакой вещи до того, как можем указать на существование-вещи, и благодаря чему то, что познано нами до существования вещи, будет совпадать с самой вещью (иначе говоря, благодаря чему результаты познания вещи окажутся адекватными вещи)? Учение о познании не может настолько разительно не совпадать с учением о способе существования вещи (для обсуждаемой традиции мыслить вещи более правильным было бы выражение «учение о способе утверждения вещи»); между этими двумя дисциплинами должна быть внутренняя выверенная согласованность.
Заметим, что трудность возникла только оттого, что ал-Джубба’и решил отказаться от понятия об утвержденности, которая предшествовала бы существованию вещи. Она дала о себе знать, как только речь зашла о способе познания вещей. Обратимся теперь к развернутому обсуждению ал-Джубба’и вопроса о познании и посмотрим, насколько его сознательная установка на устранение «утвержденности» (как отличной от «существования») согласуется с его же позицией, формулируемой тогда, когда он, переключаясь на другой ракурс рассмотрения вещи (познание вещи вместо способа ее утверждения), уже не следует сознательно этой установке.
Ал-Аш‘ари сохранил для нас развернутое изложение этого аспекта взглядов ал-Джубба’и:
Мухаммад Ибн ‘Абд ал-Ваххаб ал-Джубба’и говорил: Я говорю, что Всевышний непрестанно знающий о вещах, субстанциях и акциденциях. Он говорил, что вещи познаются [как] вещи до того, как им быть (кабла кавни-ха), и именуются вещами до того, как им быть (кабла кавни-ха), что субстанции именуются субстанциями до того, как им быть (кабла кавни-ха), и так же [он говорил] о цветах, вкусах, запахах и желаниях (ирадат). Он говорил, что послушание именуется послушанием до того, как ему быть, и что ослушание именуется ослушанием до того, как ему быть.
Он подразделял имена следующим образом. Чем вещь именуется благодаря самой себе (ли-нафси-хи), тем она необходимо именуется до того, как ей быть, как, например, чернота названа чернотой благодаря самой себе, равно как белизна, или же субстанции названы субстанциями благодаря самим себе. Чем вещь именуется потому, что она может быть упомянута и о ней [это] сказываемо, тем она именуется до того, как ей быть. Таково, например, [имя] «вещь», ведь языковеды именем «вещь» нарекли все, что может быть упомянуто и о чем что-то может сказываться. Чем вещь именуется ради отделения от прочих родов [вещей], например, «цвет» и тому подобное, тем она именуется до того, как ей быть. Если вещь именуется так-то благодаря некоторой причине (‘илла) и та причина существует (вуджидат) прежде существования (вуджуд) вещи, то вещь должна называться этим именем до своего существования. Например, «приказанное» (ма’мур): «приказанное» говорится потому, что существует приказание (’амр) об оном, так что, если есть приказание, это должно называться «приказанным», даже если само оно не существует (гайр мавджуд), когда [уже] существует приказание. То же касается имени, которым вещь называется благодаря существованию причины, которая может существовать до самой вещи. А чем вещь именуется в силу чего-то, что возникает или что является действием, тем она не может именоваться до того, как оное возникнет, например, [имя] «претерпевающее» или «возникшее». Чем вещь именуется благодаря существованию некоторой причины (‘илла) в себе, тем она не может именоваться, пока та причина в ней не существует, например, имена «тело», «движущееся» и тому подобное [Ашари, с. 160—162][102].
Ал-Джубба’и делит все имена вещей на два класса: те, что даются вещи «благодаря ей самой», и те, что даются ей «благодаря иному», где под «иным» может пониматься «причина», «действие», «возникновение», т.д. Что касается первого класса имен, то ими вещь безусловно может именоваться «до того, как ей быть» (кабла кавни-хи). Что касается второго класса имен, то ими вещь также может именоваться «до того, как ей быть», но только в том случае, если эти причина, действие, т.п. уже существуют.
Теперь обратим внимание на понятие «благодаря себе самой» (ли-нафси-хи). Каким образом именование вещи до ее «бытия» (кавн) может совершаться благодаря ей самой, если самой вещи нет до ее «бытия», согласно тому же ал-Джубба’и (вспомним: он неоднократно приравнивает кавн «бытие», вуджуд «существование» и нафс аш-шай’ «сама вещь»)? Тот же вопрос может быть задан и относительно второго класса имен: чему, собственно, «причина», «действие», т.п. дают имена, если никакой вещи нет до ее «бытия» (кавн)? Той вещи, «которая будет»? Но ведь ал-Джубба’и подчеркивает, что эти имена даются вещи «до ее бытия», и весь смысл деления имен вещи на два класса состоит в том, чтобы указать, что может быть познано в вещи до ее бытия, а что — только в существующей вещи. Значит, имя, которое дается вещи, «которая будет» (если принять такое объяснение тезиса ал-Джубба’и), все же дается именно вещи-сейчас, вещи, которая имеется некоторым образом для нас именно сейчас, а не будет иметься тогда, «когда она будет», и притом имеется для нас сейчас, до своего бытия, именно как «сама вещь».
Об этом способе вещи иметься для нас до своего бытия я и задаю свой вопрос. Как возможен этот способ? Что такое «сама вещь» в этом отрывке, излагающем взгляды ал-Джубба’и на возможность познания вещи? То, что ал-Джубба’и говорит в контексте своей теории познания, оказывается принципиально несовместимым с тем, что он говорит в контексте теории, трактующей существование-утвержденность вещи: в первом случае он вынужден ввести для вещи тот способ наличествовать для нас, который он во втором случае отрицает как самостоятельный и отличный от существования, а именно, утвержденность. Можно, конечно, принять гипотезу о принципиальной неспособности ал-Джубба’и заметить столь явное противоречие в своих взглядах (и это при том, что он уличает в противоречивости других) или о порче текста (что, конечно, в принципе не исключено, но мы имеем дело со слишком большим отрывком, к тому же этот взгляд ал-Джубба’и находит немало параллелей у других мутазилитов); можно, конечно, принять все эти гипотезы, чтобы иметь возможность считать, что, помимо «существования» и «несуществования», ал-Джубба’и не нуждается ни в чем ином для того, чтобы понятие «вещь» стало для него осмысленным. Но от всех этих допущений, в которые очень трудно поверить, избавит весьма несложное наблюдение: процитированное рассуждение возможно, только если «вещь» для ал-Джубба’и продолжает оставаться чем-то, что предшествует равно своему «существованию» и «несуществованию» и равно не является ни тем ни другим. Заметим еще раз: «иметься до своего существования» не означает «не существовать».
«Сама вещь», о которой здесь идет речь, непременно присутствует (или «имеется»: мы не располагаем пока более удачным словом, поскольку уже не можем сказать «существует», ведь этот способ наличия вещи отличен от существования, и еще не можем сказать «утверждена», поскольку сам ал-Джубба’и здесь так не говорит[103]) для ал-Джубба’и до своего «существования». Заметим, что признать это «до» ал-Джубба’и вынужден, несмотря на свое настойчиво выраженное, сознательное желание избавиться от всякого понятия вещи «до существования»; это признание нельзя расценить иначе, нежели императив, которому вынуждено следовать выстраивание смысла, если оно стремится к универсальности, — а именно таково свойство философского дискурса. Отметим также и то, насколько это вынужденное признание ал-Джубба’и напоминает мнение ал-Хаййата о том, что «вещи утверждены как вещи до своего существования», — мнение, которое ал-Джубба’и стремится опровергнуть. Собственно, оно бы с ним просто совпало, если бы ал-Джубба’и употребил термин «утвержденность» для концептуализации своих взглядов. В том, что ал-Джубба’и вынужден чем-то заменить то понятие, от которого стремится отказаться, причем заменить так, чтобы вполне сохранить функции как будто отрицаемого им термина, я и вижу объективность логики смысла. Независимо от сознательного желания теоретика изменить содержание того или иного понятия определенные смысловые «места» все равно должны быть заняты, и философский дискурс непременно укажет на них, — в том случае, если он в самом деле философский, если он стремится к универсальности экспликации смыслового поля и если его открытость вопросам, постановка которых необходима ради такой экспликации, не ограничивается и не прерывается никакими внешними ограничениями.
Теперь рассмотрим, чья позиция, ал-Хаййата или ал-Джубба’и, более удачно сформулирована и более последовательна. Оба в конечном счете описывают одну и ту же конфигурированность смыслов, но ал-Хаййат вводит термины, вполне соответствующие позициям логико-смысловой конфигурации, тогда как ал-Джубба’и в построении своей терминологической системы пытается отождествить две позиции из трех. Но дело в том, что осмысление возможно только в пределах полной[104] логико-смысловой конфигурации, и если в данной культуре (в культуре, построенной на данной логике смысла) она строится так, как я ее описал, то стремление к достижению полной осмысленности неизбежно «выводит» ал-Джубба’и на ту позицию в логико-смысловой конфигурации, которую он стремится как будто устранить, отождествив ее с другой позицией. То, что говорит ал-Хаййат, оказывается более адекватным логико-смысловой конфигурации, а значит, в данной логике смысла его позиция менее противоречива, чем позиция ал-Джубба’и. Отметим зависимость между свойством противоречивости вводимой системы терминов и логикой смысла: при переносе в другую логику смысла то, что было гомогенным и согласованным, может утерять эти качества, а то, что было противоречивым, перестать быть таковым. Противоречивость философских тезисов (или отсутствие оной) является не свойством их содержания «как такового», а функцией отношения между содержанием и требованиями к процедуре осмысления, предъявляемыми той или иной логикой смысла.
Зададим теперь следующий вопрос: чем именно является состояние «до существования», о котором говорит ал-Джубба’и? Может ли это состояние быть отличным равно от «существования» и «несуществования», или же «до существования» — не более чем один из модусов «несуществования»?
Нетрудно заметить, в чем смысл вопроса. Если «утвержденность» — не более чем «существование» и ни в чем от последнего не отличается, так что позиция ал-Джубба’и адекватно отражает тот способ осмысления вещи, который присущ арабской философской традиции, то «существование» окажется предельной категорией, которая легко принимает дихотомическое деление: вещь либо существует, либо не существует; даже, более того, «существование» окажется предельной категорией в том смысле, что отрицать ее, то есть приписывать вещи несуществование, можно будет только в относительном, а не абсолютном смысле, поскольку высказывание «вещь не существует» уже будет указывать на некий модус ее существования, а именно, «существование в уме». Независимо от возможного категориального оформления этой позиции, сама логика такого рассуждения остается, как правило, неизменной, что хорошо известно из истории западной философской традиции. Но в том случае, если «до существования» у ал-Джубба’и (равно как и у других мутазилитов, которые используют это выражение) указывает на нечто иное, нежели «несуществование», то такая роль «существования» как предельной категории оказывается под вопросом. В таком случае «существование» и «несуществование» окажутся недихотомичными смыслами, предполагая в качестве своего «дополнения» некий третий смысл, то, что ал-Джубба’и называет «до существования», который восполнял бы оставленную ими лакуну и выражал бы то, что ни «существование», ни «несуществование», ни они оба вместе выразить не могут. При этом решающим оказывается именно последнее условие: оно предполагает, что нечто может сказываться о вещи таким образом, что на это не может быть указано ни через ее «существование», ни через «несуществование», ни через них обоих вместе, когда бы мы могли сказать: «И будучи существующей, и будучи несуществующей, вещь такова-то». Например, если бы «до существования» выражало такое состояние вещи, которое отлично от существования и несуществования и при этом устраняется равно существованием и несуществованием, то именно это состояние и удовлетворяло бы сформулированному условию.
Если вновь обратиться к последнему из процитированных высказываний ал-Джубба’и, нетрудно заметить, что он последовательно употребляет выражение «до существования», никак не расшифровывая его и не приравнивая ни к какому другому. Коль скоро учитель ал-Аш‘ари хранит по этому вопросу молчание, можно обратиться к мнениям других мутазилитов, обсуждавших тот же вопрос. Так и поступим.
Предположение о том, что «до существования» может оказаться таким модусом рассмотрения вещи, который отличен и от существования, и от несуществования и при этом утрачивается при обретении того либо иного, подтверждается следующим сообщением ал-Аш‘ари:
Он (Хишам Ибн ‘Амр ал-Фуватийй. — А. С.) не называл «вещью» то, чего Бог не сотворил и чего не было (лам йакун), а то, что Бог сотворил и уничтожил (а‘дама), то есть не-сущее (ма‘дум), он вещью называл [Ашари, с. 158].
Ал-Фуватийй ясно различает два состояния, отличных от «существования»: состояние, которое предшествует первому сотворению вещи, и состояние «несуществования» (‘адам), в котором вещь находится после того, как она хотя бы раз была сотворена и уничтожена (то есть хотя бы раз имела существование). Именно благодаря различению этих двух состояний «отсутствия вещи» ал-Фуватийй получает возможность ввести свое различение «вещи» и того, что вещью названо быть не может: «вещью» для него называется состояние существования вещи, а также то ее отсутствие, которое следует за существованием, но не то, которое ему предшествует. Совершенно очевидно, что для него первостепенное значение имеет порядок: «несуществование» (‘адам) может только следовать за существованием, но никак не предшествовать ему. То, что ал-Джубба’и называл «до существования», ал-Фуватийй совершенно очевидно отличает от «несуществования». При этом это состояние «до существования» не равно «несуществованию» не только потому, что последнее бывает только после существования, но и потому, что состояние «до существования» утрачивается тогда, когда приобретается состояние «несуществование» (равно как и состояние «существование»): это ясно видно из того, что ал-Фуватийй не считает возможным употреблять имя «вещь» в первом случае, но позволяет это во втором.
Ал-Фуватийй, в отличие от ал-Джубба’и, не присваивает имя «вещь» тому, что «до существования». Эти два мыслителя расходятся в вопросе о том, в каких (или в каком) из трех возможных модусов нечто может быть названо «вещью»: в состоянии «до существования», «существования» или «несуществования». При этом они, кажется, согласны в том, что это именно три, а не два, состояния, которые могут быть различаемы. К их полемике как бы присоединяется Ибн ар-Раванди, о котором ал-Аш‘ари сообщает:
Обо всяком имени, которым именуются вещи и которое не связано с иным, нежели они, но является отсылкой к ним и сказыванием о них, он говорил, что вещи не могут именоваться им ни до своего существования (вуджуд), ни в состоянии своего несуществования (‘адам) [Ашари, с. 160].
Совершенно очевидно, что Ибн ар-Раванди, как и ал-Фуватийй, не отождествляет состояния «до существования» и «несуществование», но в отличие от последнего, вещью не считает ни то ни другое. Для него «вещь» — только то, что находится в состоянии «существования»:
Он считал, что вещи — вещи, [только] если они существуют (’иза вуджидат), и что смысл того, что они вещи, — что они сущие (мавджудат) [Ашари, с. 160].
1.5.2.2. Логико-смысловая систематизация философских доктрин
Сопоставив мнения ал-Хаййата, ал-Джубба’и, ал-Фуватиййа и Ибн ар-Раванди, получим следующую картину. Все они выделяют три состояния, в которых может рассматриваться вещь, и одинаково понимают отношения между ними, конфигурируя их одним и тем же образом. Разногласия касаются того, как называть эти состояния и в каком именно состоянии вещь может именоваться вещью, а в каком нет. Все они указывают на состояние, именуемое «до существования», и все фактически признают его как независимое. Ал-Хаййат называет его «утвержденность», хотя этот термин не употребляют ни ал-Фуватийй, ни Ибн ар-Раванди, продолжающие говорить «до существования». Интересно, что мнения этих трех мутазилитов представляют собой не что иное, как перебор возможных вариантов присваивания термина «вещь» конфигурации смыслов «до существования», «существование», «несуществование»: первый рассматривает вещь во всех трех состояниях, второй — во вторых двух, а третий говорит о «вещи» только как о «существующей», при том что само соотношение между этими тремя состояниями они понимают одинаково. Оба термина, «до существования» и «утвержденность», употребляет ал-Джубба’и, но он, в отличие от ал-Хаййата, ал-Фуватиййа и Ибн ар-Раванди, пытается отождествить их, хотя эта попытка, как видели, оказывается непоследовательной. Повторю, что «до существования» понимается как состояние, предшествующее равно существованию и несуществованию и отличное от обоих; в связи с этим существование и несуществование также оказываются строго упорядоченными, так что второе следует за первым, но не наоборот. Пара терминов «существование» и «несуществование» поэтому недихотомичны, а для соотношения между ними, равно как и между ними и третьим понятием, «до существования», принципиально важными оказываются отношения порядка, собственно и позволяющие различать эти термины именно так, как мы видели[105]. Фундаментальность отношений порядка проявляется и в том, что состояние «до существования» утрачивается после того, как вещь обретает свое существование или несуществование.
Подчеркну еще раз, что рассмотренные мнения логически упорядочиваются как перебор возможных вариантов описания соотношений между смыслами «до существования» (=«утвержденность»), «существование», «несуществование», как это предполагается логико-смысловой конфигурацией. При этом одни варианты оказываются вполне адекватными ей (ал-Хаййат), другие менее адекватными (ал-Фуватийй и Ибн ар-Раванди), третьи представляют собой попытку модифицировать саму конфигурацию (ал-Джубба’и). Такая адекватность вполне соотносится с внутренней непротиворечивостью, и те мутазилиты, которые как-либо отходят от полноты описания логико-смысловой конфигурации, испытывают видимые затруднения в последовательном проведении своих взглядов. Прекрасный пример собственного признания невозможности последовательного выстраивания философской позиции при принятых ограничениях на понятие «вещь» дает нам ал-Фуватийй:
Хишам Ибн ‘Амр ал-Фуватийй говорил: «Бог непрестанно знающий и могущественный». Если его спрашивали: «Так Бог непрестанно знающий вещи?» — он отвечал: «Я не говорю: “Он непрестанно знающий вещи”, я говорю: “Он непрестанно знающий о том, что Он один и Ему нет пары”. Ведь сказав: “Он непрестанно знающий вещи”, я буду утверждать их (саббатту-ха) как непрестанные вместе с Богом (Славен Он и Велик!)». Когда его спрашивали: «Значит, ты говоришь, что Бог непрестанно знающий о том, что вещи будут (би-’ан сатакун ал-ашйа’)?» — он отвечал: «Если я скажу: “…что вещи будут”, то тем самым укажу на них, а указывать можно только на существующее (мавджуд)» [Ашари, с. 158].
Здесь хорошо видно, что в результате принятого ограничения ал-Фуватийй вынужден ограничивать и объем божественного знания, запрещая тем самым спрашивать о том, каково отношение знания Бога к вещам. Показательно также, что, отвечая на такой вопрос, ал-Фуватийй, по собственному признанию, должен будет употребить именно термин «утверждать» (саббата), — тот самый, от которого столь настойчиво пытается избавиться ал-Джубба’и. Само это признание показывает, что термин «утвержденность» остается релевантным и вполне осмысленным и для тех, кто не принимает его в том значении, которое придавал ему ал-Хаййат. Что касается вынужденной неспособности ответить на ряд вопросов, в которой столь красноречиво признается ал-Фуватийй (и не он один, как увидим ниже), то трудно избавиться от впечатления, что именно такая неспособность послужила основой выдвижения в ашаризме принципа би-ла кайфа «не [задавай вопрос] как?», согласно которому необходимо принимать ряд положений, не спрашивая об их осмысленности и связанности с другими положениями.
Ас-Салихи, занимающий в вопросе о вещи позицию, сходную с позицией Ибн ар-Раванди, вынужден признать, что вещи до существования не являются «подвластными» Богу, и тем самым сузить понятие божественного могущества:
Абу ал-Хусайн ас-Салихи говорил, что Бог непрестанно знающий о вещах в их моменты [существования] (фи авкати-ха), что Он непрестанно знающий, что они будут (сатакун) в свои моменты [существования], и что Он непрестанно знающий о телах в их моменты [существования] и о сотворенном в его моменты [существования]. Он говорил, что познаваемо только сущее (мавджуд), не называл не-сущее познаваемым, а несуществовавшее (ма лам йакун) подвластным (макдур), и называл вещи вещами, только если они существуют (’иза вуджидат), и не называл их вещами, если они не существуют (’иза ‘адимат) [Ашари, с. 158].
Что касается божественного знания, то ас-Салихи применяет ход, который как будто спасает ситуацию и который воспроизводится и другими мутазилитами[106]: Бог знает не вещи, а то, что «они будут». Но вряд ли это нечто большее, чем софизм, поскольку «они» — не что иное, как «вещи», так что и здесь оказывается неизбежным указание на вещи до их существования.
Что касается ал-Джубба’и, который пытается модифицировать саму логико-смысловую конфигурацию, отождествляя «утвержденность» и «существование», то его позиция оказывается еще более проблематичной. С одной стороны, он отождествляет «утвержденность» с «существованием», когда прямо говорит об этом и эксплицитно употребляет термин «утвержденность»; но с другой, говоря о понятии «до существования» (а это понятие, как и «утвержденность», выражает предшествование «существованию»), он отождествляет его с «несуществованием». Это отождествление мы встречаем во второй части Макалат, в отрывке, который представляет собой практически полную параллель приведенному выше, но лишь с одной разницей: здесь появляется термин «несуществование», употребляемый так, как если бы ал-Аш‘ари считал его в учении ал-Джубба’и синонимом термина «до существования»:
Ал-Джубба’и говорил, что Бог непрестанно знающий и могущественный [в отношении] вещей благодаря Самому Себе до того, как им быть (кабла кавни-ха). Он говорил, что неправильно говорить «вещи до того, как им быть» (ашйа’ кабла кавни-ха), поскольку их бытие — это они (кавну-ха хува хийа). Он отрицал, что [можно] говорить «вещи до самих себя» (ашйа’ кабла анфуси-ха), однако они познаваемы [как] вещи до того, как им быть. Так же и субстанции, согласно ему, именуются субстанциями до того, как им быть, а цвета — цветами до того, как им быть. Но он был против того, чтобы именовать фигуры (хай’ат) фигурами до того, как им быть, тела телами до того, как им быть, и действия действиями до того, как им быть.
Он говорил, что высказывание «вещь» — свойство (сима) всего познаваемого. Поскольку вещи являются познаваемыми до того, как им быть (кабла кавни-ха), то они и именуются вещами до того, как им быть. То, чем вещь именуется благодаря самой себе (ли-нафси-хи), тем она должна именоваться до того, как ей быть, например, [именем] «субстанция», а также «белизна», «чернота» и тому подобное. Тем, чем вещь именуется благодаря существованию причины, коя не в ней, она может называться при своем несуществовании и до того, как ей быть (ма‘а ‘адами-хи ва кабла кавни-хи), если сущест-вует причина, благодаря коей она именуется тем именем, как [именуются] «позванный» и «названный», если существует (вуджида) взывание и назы-вание оных, и как вещь, несмотря на свое несуществование (ма‘а ‘адами-хи), называется «погибшей», если существует ее погибание. Он [также] говорил, что тем, чем вещь именуется благодаря существованию причины, [коя не в ней][107], вещь не может именоваться до того, как ей (вещи. — А. С.) быть, при несуществовании ее (ма‘а ‘адами-хи) (причины. — А. С.), как, например, когда говорят «движущееся», «черное» и тому подобное. Чем вещь именуется потому, что она — действие и само возникновение[108], как «претерпевающее» или «возникшее», тем она не может именоваться до того, как ей быть. Чем именуется данная вещь и другие вещи, дабы различить их роды и иные роды [вещей], тем [можно] называть[109] их до того, как им быть [Ашари, с. 522—523].
Нетрудно заметить, что эта противоречивость ал-Джубба’и (или, во всяком случае, противоречивость изложения ал-Аш‘ари взглядов ал-Джубба’и, что, впрочем, мало меняет дело, поскольку речь идет об одном из основополагающих для ашаризма тезисов — неразличении «утвержденности» и «существования»), когда он отождествляет это третье состояние, для других мутазилитов равно отличное от «существования» и «несуществования», то с тем, то с другим, объясняется лишь тем, что и для него эти два понятия остаются недихотомичными. Как то предполагается логико-смысловой конфигурацией, область их частичного совпадения, которая для других мутазилитов образует новый смысл, равно отличный и от «существования», и от «несуществования» (мы видели, что они называют его «утвержденность» или «до существования»), ал-Джубба’и стремится истолковать не как новый и самостоятельный смысл. Но поскольку смыслы «существование» и «несуществование» и для него остаются сконфигурированными так же, как для его коллег, то в результате его отказа от самостоятельного понятия эта область совпадения двух смыслов вполне естественно оказывается для него то «существованием», то «несуществованием».
Более того, ал-Джубба’и, по-видимому, прибегал-таки к понятию «утвержденность» как самостоятельному, отличному и от «существования», и от «несуществования». Довольно неожиданно ал-Аш‘ари сообщает:
Чем вещь именуется, когда сообщают о ее утвержденности или указывают на оную, как высказывание «бытийствующее» (ка’ин), «утвержденное» (сабит) и тому подобное, тем она может именоваться до того, как ей быть (кабла кавни-хи). Он не называл знание «знанием» до того, как ей (вещи. — А. С.) быть, поскольку знать — это считать вещь такой, какова она, необходимым образом[110] либо благодаря доказательству. Приказание не именуется приказанием до того, как ему быть, поскольку оно является приказанием благодаря намерению (касд) того, кто намеревается именно [отдать приказание], поскольку нечто может выглядеть так же, как приказание, но при этом оно — угроза, а не приказание [Ашари, с. 523][111].
Если это сообщение верно, то оказывается, что даже позицию отказа от утвержденности как самостоятельного понятия учитель ал-Аш‘ари не мог провести последовательно.
1.5.2.3. Еще раз о полисемантичности и ее зависимости от логики смысла
Завершим рассмотрение взглядов ал-Джубба’и следующим. В дополнение к двум упомянутым гипотезам, объясняющим имплицитное введение «утвержденности» в контексте теории познания несмотря на отрицание этого понятия как самостоятельного в контексте теории существования-утвержденности у ал-Джубба’и его «противоречивостью» или «порчей текста», возможна еще одна: мы имеем дело с «многозначным термином». Термин «вещь», скажет возможный оппонент, просто имеет два значения — только и всего. И это решение настолько просто и очевидно, что с ним трудно не согласиться. Однако все дело в том, что я с ним и не спорю. Я лишь предлагаю задаться вопросом, почему слово «вещь» получает в данном тексте «два значения». Далее, я предлагаю узнать, имеются ли эти «два значения» для нас, и только для нас (для воспринимающей культуры, но не для культуры, создавшей этой текст), и если да, то почему именно. Иначе говоря, я предлагаю посмотреть на причины пресловутой полисемантичности, заглянуть туда, куда теория, довольствующаяся постулированием многозначности, заглядывать не решается, а точнее, не может, поскольку для нее этой области — области, где формируется то, что она называет «значением» — просто не существует. Я, таким образом, предлагаю выяснить, почему мы вынуждены говорить о многозначности, почему для нас оказывается необходимым прибегнуть к этому допущению, почему та система «значений», которой оперируем мы, не может однозначно отразить смысл воспринимаемого нами текста. Традиционные теории ограничиваются указанием на имеющуюся в нашем распоряжении сетку значений, в которую переводимый текст может «не попадать» точно, вследствие чего в разных случаях оказывается необходимым отыскивать разные значения. Такая «сетка значений», однако, всякий раз понимается содержательно, то есть как уже готовая, установленная система смысловых связей между имеющими определенное смысловое содержание элементами. Такое указание в лучшем случае переформулирует поставленный вопрос, но не отвечает на него, поскольку я спрашиваю как раз о том, почему в разных случаях (в разных культурах, в разных традициях мысли) устанавливается разная система смысловых элементов и смысловых связей между ними[112].
1.5.2.4. Что такое объективность логики смысла
Этот вопрос касается процедуры формирования смысла. Видение этой процедуры позволяет ответить на вопрос, почему при описании одного и того же (в данном случае — при описании взаимного отношения существования и несуществования, двух категорий, которые трудно не счесть предельными для философского мышления) в двух традициях мысли формируются разные смысловые содержания. Указание на процедуру формирования смысла позволяет понять, что дело не в том, что кто-то «вложил» в некое понятие «такое-то содержание», а в том, что содержание понятий «существование» и «несуществование» не может не быть таким, и именно таким, коль скоро они соотносятся между собой согласно данной процедуре смыслополагания. В этих смыслах нельзя увидеть другое содержание, пока мы остаемся верны принятой логике смыслополагания; попытка «вложить» в них другое содержание (чему мы были свидетелями на примере ал-Джубба’и), хотя ее и можно предпринять, непременно будет иметь следствием «сбой» в системе смысловых связей между данными смысловыми элементами (что мы и видели как несогласованности и противоречия у самого ал-Джубба’и, или что проявляется как неспособность дать ответ на задаваемые вопросы у других мутазилитов, также отходящих от содержания понятий «существование-несуществование», естественно предполагаемого данной логикой смыслополагания). Именно это я и подразумеваю, говоря, что логика смысла объективна: это не значит, что смысловое содержание любого слова заранее предопределено (тогда вовсе не могло бы быть никакого непонимания или недопонимания между людьми, а как каждый знает из своего опыта, верно скорее обратное), это значит, что заранее предопределено, при каком содержании оно будет вести себя «естественно», выстраивая все возможные смысловые связи с окружающими смысловыми элементами и, в свою очередь, встраиваясь в предполагаемые ими смысловые связи, и к каким последствиям приведет то или иное вмешательство в это содержание.
Говоря, что содержание смыслов «существование» и «несуществование», сополагаемых между собой в данной логике смысла, не может не быть именно таким-то, я имею в виду то, что уже неоднократно повторял на страницах этой работы: что эти смыслы не могут не соотноситься между собой таким образом, что будут частично совпадать, частично не совпадать, при этом область их совпадения будет областью смысла, отличного от них обоих. По мере развития рассуждения мы получаем возможность наращивать характеристики смыслов, соотносящихся между собой в логико-смысловой конфигурации. В данном случае можно добавить, что «существование» и «несуществование» вещи не будут дихотомичными, и при этом одно будет мыслиться как имеющееся непременно «после» другого, но не наоборот. Можно говорить также о том, что единство будет соотноситься с тем смыслом, который образовался на области частичного совпадения смыслов «существование» и «несуществование» (арабская традиция называет этот смысл «утвержденностью»), тогда как множественность — с парой «существование-несуществование», причем единство будет полагать свою множественность вне себя. В связи с тем, что сказано о недихотомичности смыслов «существование-несуществование» (равно как и вообще любой пары смыслов, занимающих те же места в логико-смысловой конфигурации, создаваемой согласно данной логике смысла), а также в соотнесении с тем, что сказано о понимании единства и множественности, можно предвидеть и соответствующее понимание противоположности.
1.5.2.5. Формирование смыслового содержания процедурой смыслополагания
Это позволяет поставить следующий вопрос. Объективность логики смысла была определена не как предзаданность содержания любого слова, а как зависимость содержания слова от его позиции в логико-смысловой конфигурации, позволяющая, благодаря знанию процедуры смыслополагания, просчитать, насколько и как именно изменится это содержание при той или иной деформации или трансформации логико-смысловой конфигурации. Более того, изменение «вкладываемого» в данный смысл содержания будет изменением логико-смысловой конфигурации, ничем иным. Когда ал-Джубба’и захотел изменить содержание смыслов «утвержденность» и «существование», он прибег к трансформации логико-смысловой конфигурации. Конечно, эта трансформация была проведена им имплицитно, а не рефлексивно; но в том-то и дело, что, независимо от осознания осуществляемых логико-смысловых процедур, мы получаем «на выходе» те результаты, которые объективно из них следуют. Это опять-таки не означает предзаданности смыслового содержания того или иного слова. Всякий знает, что волен перестать понимать любое слово в его общепринятом значении и вложить в него любое другое, даже если такая операция замены значения будет понятна только тому, кто ее произвел. Если подобные подмены или трансформации признаются большим количеством людей, новое значение может закрепляться в жаргоне или языке. Эта непредзаданность содержания языкового знака нередко обманчиво понимается как свобода вложить любое содержание в такой знак или любым образом трансформировать содержание, вкладываемое в него. Но дело в том, что на этом шаге операция изменения значения не заканчивается. Новое значение (вновь присвоенное или получившееся в результате изменения старого) не произведено из ничего нашим свободным актом «присваивания значения», оно обнаруживает внутри себя закономерности своего выстраивания. Эти закономерности оказываются процедурными, то есть одними и теми же для разных содержаний, и объективными в отношении содержания. Мы можем изменить значение слова или понятия, но мы не можем избежать тех следствий в изменении содержания связанных с ним значений, которые наступят независимо от нашего желания. Более того, эти следствия могут быть просчитаны, если мы знаем, в какой логико-смысловой конфигурации функционирует данное понятие.
Дело, таким образом, обстоит так, что содержание понятия по меньшей мере до некоторой степени сформировано процедурой, а не просто каким-то образом «зависит» от нее. Иными словами, можно утверждать, что зависимость содержания понятия от процедуры его формирования является и генетической. Насколько далеко простирается такая зависимость — это вопрос, который здесь можно только поставить. Определено ли содержание в конечном счете полностью процедурой формирования смысла и сводимо ли оно к ней, или такая зависимость верна лишь до определенной степени и в смысловом содержании в любом случае остается несводимый остаток, — этот вопрос остается здесь открытым.
1.5.2.6. Определенность логикой смысла дискуссии о статусе «утвержденности»
Отметим существенную особенность обсуждения вопроса о том, совпадают или не совпадают утвержденность и существование. Независимо от позиции спорящих сторон, «утвержденность» оказывается необходимым элементом мысли, который не списывается за ненужностью и не отбрасывается как излишний, даже несмотря на его отождествление с существованием. Это коррелирует с тем, что, как мы видели, даже те мыслители, которые не признают самостоятельность утвержденности в отношении существования, не могут избежать выделения этой ипостаси вещи как отдельной и самостоятельной, когда переходят к теории познания. Но и сам факт неизбежности введения этого модуса рассмотрения вещи (как «утвержденной») должен и может быть объяснен. Это объяснение состоит именно в том, что такое соотнесение смыслов составляет предпосылку любого процесса осмысления, априори задаваемую принятой логикой смысла. Тот факт, что эксплицитное обсуждение понятия «утвержденность» в его соотношении с понятием «существование» обнаруживает возможность двух пониманий, вовсе не отменяет, а, напротив, подчеркивает тот факт, что обе точки зрения обеспечены (в самой своей возможности) одной и той же логико-смысловой конфигурацией.
Обратимся в этой связи к мнению, которое демонстрирует логику равновероятностной трактовки предшествования утвержденности существованию и их совпадения. Именно как реализация обеих вероятностей в арабской философской мысли оказываются возможны две спорящие точки зрения (утвержденность предшествует существованию, утвержденность не отличается от существования). Сама возможность сформулировать эти две точки зрения, равно как постоянство их воспроизведения и столкновения между ними, обеспечивается чем-то одним — а именно, логико-смысловой конфигурацией в том виде, который здесь обсуждается.
Он (‘Аббад Ибн Сулайман. — А. С.) говорил, что познаваемое — познаваемое Богом до своего возникновения (кавн), подвластное — подвластное Богу до своего возникновения (кавн), что вещи — вещи до своего возникновения (кавн), что действия — действия до своего возникновения (кавн), но считал невозможным, чтобы тела были телами до своего возникновения (кавн), сотворенное — сотворенным до своего возникновения (кавн), а претерпевающее — претерпевающим до своего возникновения (кавн). Он считал действие вещи иным, нежели сама вещь, равно как и ее творение — иным, нежели она. Если его спрашивали: «Говоришь ли ты, что вот эта сущая (мавджуд) вещь — именно та, что не была существующей (лам йакун мавджудан)?» — он отвечал: «Нет, я этого не говорю». А если его спрашивали: «Говоришь ли ты, что она — [нечто] иное?» — он отвечал: «[И] этого я не говорю» [Ашари, с. 159][113].
Обратим внимание на то, что необходимо, чтобы такое рассуждение было проведено. Какие представления о возможном наличии и сорасположении смыслов делают его возможным? Я таким образом спрашиваю о процедурной обусловленности данного рассуждения — обусловленности, которая предшествует самому рассуждению, оказывается общей для него и по крайней мере для некоторых других рассуждений, не зависит от конкретного содержания самого рассуждения, но составляет его априорную возможность. Это — представление о том, что «существование» и «несуществование» могут быть соотнесены между собой так, что равновозможным оказывается увидеть их совпадение и несовпадение. Такое представление возможно только в том случае, если это соотношение мыслится не как дихотомия (не важно, строгая или нестрогая; важно лишь, что не такая, которая делает возможной формулировку закона исключенного третьего равноистинной в его императивной и негативной формах — см. выше), а как частичное совпадение, так что возможным оказывается и отождествление «существующей» и «несуществующей» вещи, и разведение этих двух ее состояний. Ответ, который ‘Аббад Ибн Сулайман давал на заданные ему вопросы, демонстрирует как нельзя лучше эту возможность двойной трактовки проблемы, предоставляемую строением логико-смысловой конфигурации в данной логике смысла. Если обратить внимание на совпадение существования и несуществования, то существующая вещь оказывается «той же» (нафсу-ху), что несуществующая. Если обратить внимание на несовпадающие области смыслов «существование» и «несуществование», нетрудно увидеть их инаковость. Конфигурация, строящаяся как частичное совпадение, позволяет заметить и то и другое, в зависимости от того, на что обращено внимание. Но растерянность, которую демонстрирует нам ‘Аббад, возникает в том случае, если область совпадения не мыслится как новый, отличный и от существования, и от несуществования, смысл, и только в этом случае возможны те два ответа, которые он дает. Если эта область совпадения видится как «утвержденность», такой двойственности не возникает[114].
1.5.3. Ашаризм
Позиция, сформулированная ал-Джубба’и в вопросе о соотношении «утвержденности» и «существования», стала основой для авторов ашаритской школы. Но в их сочинениях можно заметить и то, что мы заметили на примере ал-Джубба’и: как только речь заходит о том, каким образом возможно познание вещей, вещи оказываются «утвержденными». Ситуация воспроизводит себя с неизбежностью логического следствия, неизменно вытекающего из тех же посылок.
Один из ранних ашаритских авторов, ‘Абд ал-Кахир ал-Багдади, предельно ясно излагает аргументацию, направленную против понятия «утвержденность». Признание «утвержденности» вещей до их существования может быть истолковано как вечность вещей, следовательно, такое признание невозможно. Что этот аргумент отправляется не от сути философского рассмотрения вопроса, а от догматического постулата, заранее фиксированного ограничения на те или иные положения, достаточно очевидно. Если мутазилизм еще философски свободен, то в ашаризме эта свобода существенным образом ограничивается:
Что касается мутазилитов, говоривших, что не-сущее (ма‘дум) — вещь, а также тех, кто говорил, что чернота в состоянии[115] своего несуществования — чернота и что субстанция в состоянии своего несуществования — субстанция, то они должны признать и вечность (кидам) субстанций и акциденций, поскольку они утвердили за ними безначально (фи ал-’азал) все самостные атрибуты (сифа нафсиййа). А существование не служит смыслом, превышающим самость, ведь возникшее является возникшим не благодаря какому-то смыслу, который был бы иным, чем само оно (нафс). Итак, если, согласно им, субстанции и акциденции безначально являются субстанциями и акциденциями, они должны существовать безначально, поскольку их существование — не что-то сверх их самостей (зават).
Мусульмане же говорят, что Бог (Славен Он и Велик!) сотворил вещь не из вещи. А мутазилиты говорили, что Он сотворил вещь из вещи, и так скрыто допустили вечность вещей, ибо сказали то, что ведет к этому {как если бы они скрыто допустили вечность мира, но не осмелились заявить это открыто и сказали то, что ведет к этому} [Багдади, с. 71][116].
Отметим характерное положение: существование вещи не превышает саму вещь. Это положение было выдвинуто, как мы видели, еще в мутазилизме, и на нем особенно настаивал ал-Джубба’и. Нетрудно заметить, что такое утверждение ведет, быть может, к еще более неприятным для тезиса о невечности мира последствиям, чем мутазилитская концепция утвержденности вещей до их существования. Ведь если существование вещи — не нечто сверх ее самости, то либо Бог изначально не знает вещи как таковые, либо они, будучи объектом знания Бога, уже тем самым должны существовать, коль скоро их существование никоим образом не превышает их самих. Позиция ал-Багдади была бы непротиворечива в том случае, если бы понятие «существование» было им вовсе устранено. Заметим также, что ал-Багдади спорит с мутазилитской концепцией утвержденности не вполне корректно, отождествляя утвержденность и существование, тогда как мутазилиты эти два понятия разводили.
Логика неизбежности обращения к понятию «утвержденность» как самостоятельному и отличному от «существования» и «несуществования» при эксплицитном отказе от него воспроизводится в ашаритской школе и у известного ее представителя Абу Бакра ал-Бакиллани. В своем сочинении ал-Инсаф фи-ма йаджиб и‘тикаду-ху ва ла йаджуз ал-джахл би-хи «Правильное изложение того, что следует исповедовать и чего нельзя не знать» он в качестве одного из первых пунктов выдвигает следующее положение. В обязанности «ответственного за выполнение Закона» (мукаллаф)[117] входит
знать, что все познаваемое двух видов: несуществующее (ма‘дум) и существующее (мавджуд). У этих двух нет никакого третьего или середины. Несуществующее — это то, что отрицается (мунтафин), не являясь вещью. Бог (Славен Он и Велик!) рек: «Я уже сотворил тебя прежде, когда ты ничем не был»[118]. А также говорит Всевышний: «И было такое время, когда человек не был вещью поминаемой»[119], сообщая, что несуществующее (ма‘дум) — это то, что отрицается (мунтафин) и не является вещью. А существую-щее — это вещь, сущая (ка’ин) и утвержденная (сабит). Наше речение «вещь» — это утверждение (исбат), а речение «не вещь» (лайса би-шай’) — отрицание (нафй). Ведь Всевышний говорит: «Скажи: Какая вещь более всего свидетельствует? Скажи: Бог»[120], а Он, Преславный, — сущий, не несуществующий.
Языковеды, говоря ‘алимту шай’ан «я узнал нечто (букв. вещь. — А. С.)», ра’айту шай’ан «я видел нечто (букв. вещь. — А. С.)», сами‘ту шай’ан «я слышал нечто (букв. вещь. — А. С.)», указывают на сущее и утвержденное (ка’ин сабит), тогда как их речение лайса би-шай’ «не вещь» налагается на отрицание несуществующего (нафй ал-ма‘дум). А если бы несуществующее было вещью, то их речение лайса би-шай’ «не вещь» оказалось бы отрицанием, которое всегда накладывается [на несуществующее] как ложное, тогда как это, согласно консенсусу (би ал-иттифак), неверно [Бакиллани, с. 25—26].
Это высказывание как будто совершенно определенно вычеркивает «утвержденность» из списка самостоятельных понятий, устанавливая ее синонимичность «существованию» и, далее, «вещи». Однако не будем торопиться с выводами, а проследим за мыслью ал-Бакиллани дальше.
Зафиксировав эту уже знакомую позицию, которая, кстати, никак не аргументируется, но вводится как изначальное положение, ал-Бакиллани переходит к другому столь же аксиоматичному положению, тезису о «возникновении» (худус) мира, то есть его невечности. Впрочем, здесь важен не сам этот тезис, а то, как ал-Бакиллани доказывает наличие акциденций в телах, что составляет важнейшую часть доказательства возникновения мира во времени. Вот что он пишет:
[Необходимо] знать, что мир возник и что ни на небесах, ни на земле нет ничего, что не было бы составным телом, одиночной субстанцией или несомой акциденцией, так что он в целом — возникший. Путь, которым узнается возникновение тел мира и возникновение его акциденций[121]. Доказательством утвержденности (субут) акциденций в мире служит то, что покоившееся тело приходит в движение, что сложное тело распадается, что оно меняет свои состояния, а его атрибуты (сифат) приходят и уходят. Если бы оно двигалось благодаря самому себе и благодаря себе изменялось, то было бы необходимо, чтобы оно двигалось[122], когда покоится, и испытывало изменения и превращения, когда уравновешено (и‘тидал). Невозможность этого доказывает утвержденность (исбат) движения тела, его покоя, цветов, возникновений (акван) и прочих атрибутов, поскольку, раз тело таково не благодаря самому себе, следовательно, оно [таково] благодаря некоему смыслу, в соответствии с состоянием которого оно изменяется и в соответствии с атрибутом которого оно испытывает превращения (тагаййара ‘ан хали-хи ва истахала ‘ан васфи-хи).
Доказательством возникновения этих акциденций служит их взаимное отрицание (танафин) и противоположность (тададд). Если бы все они были вечными, то были бы непрестанно существующими, не переставая являться таковыми. Тогда в теле, в котором имеется движение, должен был бы иметься и покой, из чего следовало бы, что это тело движется в состоянии своего покоя и что оно живо, когда мертво. Поскольку это невозможно, доказано, что покой привходит[123] [в тело] после того, как его [в нем] не было, и что движение становится невозможным с привхождением покоя. А то, что привходит после своего несуществования и становится несуществующим после своего существования, является, согласно консенсусу, возникшим, поскольку вечное (кадим) не возникает, не становится несуществующим и не бывает невозможным [Бакиллани, с. 28].
Сопоставим две цитаты, которые в тексте Инсаф разделены не более чем парой страниц, и попытаемся прочитать вторую, имея в виду тождество «утвержденности» и «существования», заявленное в первой. Ал-Бакиллани говорит об «утвержденности» акциденций, которые то существуют, то не существуют; но если всерьез принять его заявление о том, что «утвержденность» — это «существование», то ал-Бакиллани никак не мог бы говорить об акциденциях как «утвержденных», имея в виду, что их существование сменяется несуществованием и наоборот. Говоря об утвержденности, ал-Бакиллани вводит понятие акциденции наряду с понятием тела и говорит, что такая вещь, как акциденция, непременно «имеется», поскольку иначе нельзя объяснить смену состояний тела. Но это «имеется», выраженное у него «утвержденностью», и оказывается как раз тем понятием, которое он как будто отрицает как самостоятельное и отличное от существования и несуществования, как нечто «третье» или «промежуточное». Ведь ал-Бакиллани не может здесь понимать утвержденность так, как он определил ее вначале, то есть как равную существованию, которое противоположно несуществованию, поскольку в таком случае он приписал бы акциденциям только существование и отрицал бы их несуществование, что прямо противоположно его намерению. Говоря, что акциденции утверждены, он имеет в виду вовсе не то, что они «существуют», а что после их существования наступает несуществование и наоборот. Утвержденность поэтому оказывается у него если не равной, то приближающейся к тому ее пониманию, которое было выработано в мутазилизме, — оказывается, повторю, вопреки его сознательному намерению.
1.5.4. Ас-Сухраварди
1.5.4.1. Критика «утвержденности» с точки зрения нормативного аристотелизма
В ашаризме полемика с понятием «утвержденность» велась с позиции неотличения существования вещи от самой вещи. Ас-Сухраварди, сохраняя и используя это положение, делает акцент на положениях нормативного аристотелизма. Опровержение релевантности понятия «утвержденность» строится у него с позиции признания, во-первых, того, что «существование» (вуджуд) — наиболее общее понятие; во-вторых, строгой дихотомической логики, так что «несуществование» (‘адам) он приравнивает к «не-существованию» (ла-вуджуд); в третьих, с точки зрения безусловной релевантности закона исключенного третьего равно в обеих формулировках, как императивной, так и негативной, которые он считает равнозначными. Что эта полемика не диалогична, но представляет собой монолог, не более чем параллельный монологу представителей той позиции, которую ас-Сухраварди стремится опровергнуть, достаточно ясно, поскольку для его оппонентов эти исходные постулаты как раз не представляются очевидными; более того, как мы могли видеть, позиция, с которой спорит ас-Сухраварди, формировалась на основаниях, несовместимых с теми, что он принимает.
Но самое интересное в том, что ас-Сухраварди в этой полемике выражает не свою точку зрения. Как он сам отмечает в своих произведениях, одни его сочинения написаны «на манер перипатетиков», другие излагают собственно «мудрость озарения» (хикма ишракиййа). К числу последних относится и Хикмат ал-ишрак «Мудрость озарения» — его главный философский труд. Там он подвергает сомнению именно то исходное положение перипатетизма, без которого становится бессмысленной вся система аргументации в полемике против «утвержденности», — положение о первичности, неопределимости и всеобщности «существования». Это не значит, что ас-Сухраварди в своих «ишракистских» произведениях занимает позицию, которую опровергает в «перипатетических» трудах, и признает так или иначе «утвержденность» в качестве самостоятельного понятия. Подобной раздвоенности в трудах «Шейха озарения» не наблюдается, но позиция, заявленная им в «Мудрости озарения», по меньшей мере несовместима с той, что он излагает от лица перипатетической школы, — не во всем, но именно в вопросе о признании «существования» наиболее общим и первичным понятием о вещи.
Поэтому тексты ас-Сухраварди представляют интерес в трех аспектах. Во-первых, в аспекте доксографическом, поскольку Шейх озарения достаточно подробно излагает взгляды, которые собирается опровергать, хотя ценность этих свидетельств в значительной мере снижена анонимностью указания на оппонентов. Во-вторых, как подтверждение безусловной значимости проблематики, которую можно назвать проблематикой «утвержденности». Так, начиная свои ат-Талвихат ал-лавхиййа ва ал-‘аршиййа «Заметки Скрижали и Трона», ас-Сухраварди пишет, что
не ограничился известными положениями перипатетиков, но, поелику смог, отобрал из них, и изложил суть положений Первого Учителя [Сухраварди 1993 (в), с. 2],
то есть Аристотеля. Какой же вопрос разбирается первым в этой книге «избранных положений перипатетизма»? Именно вопрос о соотношении понятия «утвержденность» с понятием «существование»[124]. В-третьих, эти тексты интересны как довольно убедительная демонстрация параллельности тех двух логик, в которых, с одной стороны, формулируются, а с другой — опровергаются положения о независимом статусе понятия «утвержденность». Читая соответствующие тексты ас-Сухраварди (выдержки из них я привожу ниже), трудно избавиться от впечатления, что разговор между двумя сторонами ведется с принципиально несовпадающих в самой логике выстраивания смысла позиций. История средневековой арабской философии представляет собой образец компаративистики, воплощенной не просто в сравнительном исследовании смысловых построений, созданных двумя культурами, античной и арабской, но в действительном проживании этого сравнения и сравнивания, которое стало фактом не отвлеченного исследования, но реального развития философии. И с этой точки зрения весьма показателен тот факт, что в арабской философии оказываются столь немногочисленными действительные защитники той позиции, которую, в частности, ас-Сухраварди столь подробно и изощренно излагает, но которую сам не разделяет.
Свои ат-Талвихат ас-Сухраварди начинает следующими словами:
Знай, что существование и вещность как понятия (мафхум) не имеют ни рода, ни видового отличия, а значит, не имеют определения; нет ничего сопутствующего [вещи], что было бы более явным, чем они, а значит, у них нет и описания (расм). …Между существованием и несуществованием нет никакого посредника [Сухраварди 1993 (в), с. 4].
Зафиксировав эту позицию, он сообщает нам о тех, кто считал такое «среднее между» релевантным понятием:
Но некоторые решили, что предикаты истинностей (махмулат ‘ала ал-хака’ик), такие, как цветность (лавниййа) и прочее, не являются ни существующими, ни несуществующими, и назвали их «состояниями» (ахвал). Так они допустили ошибку в отношении универсалий (куллиййат), которые не являются ни несуществующими для ума, ни существующими в воплощенностях [Сухраварди 1993 (в), с. 4].
Здесь ас-Сухраварди вводит еще одно принципиальное положение, без которого его опровержение понятия «утвержденность» не может состояться: существование возможно в двух видах, как «существование в уме» и как «внешнее существование», или, как выражается ас-Сухраварди, «существование в воплощенности»[125].
Теперь можно приступать к непосредственному опровержению противника:
Им следует возразить вот что. Если чернота — несуществующая, то и цветность ее — несуществующая, ведь если чернота не существует, то и цветность ее не осуществляется. А когда чернота существует, то если ее цветность остается несуществующей, то окажется, что сущее обладает несуществующим атрибутом, которым оно описано, что невозможно. Если же она имеется (хасалат), значит, она существует[126]… Диковинное дело: в существовании ведь только то, благодаря чему бывает соучастие или отличие (ифтирак)[127], но все это, как они говорят, не является ни существующим, ни несуществующим, и получается, что в существовании нет никакого сущего. Итак, ты узнал, что атрибут либо имеется (хасила) у вещи, а значит, он существующий, ибо «иметься» значит «существовать» (ал-хусул хува ал-вуджуд), или не имеется, а значит, он несуществующий. Нет недостатка в именах: что они называют «утвержденным» (сабит), мы называем «существующим» (мавджуд), а что они называют «отрицанием» (нафй), мы называем «несуществованием» (‘адам) [Сухраварди 1993 (в), с. 4—5].
Опровержение ас-Сухраварди построено на представлении о строгой дихотомичности понятий «существование» (вуджуд) и «несуществование» (‘адам): все, что не является существующим, тем самым оказывается несуществующим. Что понятие «утвержденность» не может быть вписано в эту строго дихотомическую систему, вполне очевидно, и опровергнуть противника для ас-Сухраварди не составляет никакого труда. Беда лишь в том, что положение об «утвержденности» сформулировано в логике, в которой понятия, как мы видели, не принимают строго дихотомического деления, а потому ас-Сухраварди на самом деле вовсе не опровергает это положение как таковое, но лишь показывает, что в той логике, в которой сформулированы постулаты аристотелизма, понятие «утвержденность» не имеет смысла. А это, собственно, именно тот вывод, на котором настаиваю и я: сравнение неких «содержательных» положений, сформулированных в тех или иных философских системах, возможно только тогда, когда вполне выяснены процедурные основания смыслополагания, руководящие выстраиванием содержательного смысла; иначе диалог рискует оказаться выстроенным вдоль параллельных, непересекающихся линий, как мы то видим на примере ас-Сухраварди.
Заметим также, что, хотя здесь ас-Сухраварди занимает ярко выраженную перипатетическую позицию, тем не менее он исподволь высказывает положение, по меньшей мере плохо с этой позицией совместимое, но входящее в состав собственного учения виднейшего философа озарения. Это — положение о том, что «существование» является чистым «умозрительным понятием» (и‘тибар ‘аклийй) [Сухраварди 1952, с. 186], которому вовне ничто не соответствует. Именно поэтому здесь ас-Сухраварди говорит о том, что «иметься» и означает «существовать», а в других местах отождествляет «существование» и «чтойность» вещи, причем под существованием здесь везде подразумевается «внешнее существование». Эта позиция ас-Сухраварди принципиально отлична от известной авиценновской, согласно которой обладать чтойностью еще не значит обладать существованием, тогда как причинно-следственный ряд и является рядом наделения чтойностей существованием в соответствии с тем, как они того заслуживают (согласно истихкак ал-вуджуд «заслуживанию существования», как выражается Ибн Сина). Впрочем, нас здесь интересует не этот аспект взглядов ас-Сухраварди, и я отмечаю его лишь постольку, поскольку он слишком заметен в приведенной цитате.
Ас-Сухраварди упоминает и положение, с которого был начат разбор проблематики утвержденности в средневековой арабской философии, а именно, что утвержденность предшествует существованию:
Говорят также, что несуществующее возможное (ма‘дум мумкин) — вещь, а отрицаемое (манфийй) — невозможное (мухал) и что утвержденное возможное (мумкин сабит) предшествует существованию (кабла ал-вуджуд). Им мы скажем: несуществующая чтойность не является существующей, значит, ее существование отрицаемо (манфийй) и отнимаемо [от нее] (маслуб), но при этом возможное. Этим опровергаются их речи [Сухраварди 1993 (в), с. 5].
Но если в мутазилизме «утвержденность» связывалась непосредственно с понятием «вещь», то здесь ас-Сухраварди упоминает о более тонкой позиции, согласно которой утвержденной должна считаться вещь как «возможное». Понятие «возможное» (мумкин) появляется еще в мутазилизме, хотя в систему категорий, описывающих отношение вещи к существованию, оно полноценно входит только в арабском перипатетизме, где противопоставляется «необходимому» (ваджиб). Здесь ас-Сухраварди опять-таки показывает, что в логике, не замечающей никакой другой возможности конфигурирования смысла, кроме его утверждения и дихотомичного ему отрицания, понятие «утвержденность» как «предшествование существованию» не имеет смысла, — для него этой логикой не оставлено никакой «ниши», где оно могло бы поместиться, и не предусмотрено никакой процедуры, которая наделила бы его смыслом.
В другом месте ас-Сухраварди подчеркивает принципиальность строго дихотомичного понимания соотношения между категориями вуджуд «существование» и ‘адам «несуществование», — которые, заметим, с точки зрения своей этимологии в арабском языке вовсе не дихотомичны, поскольку происходят от разных корней, и ‘адам «несуществование» не имеет морфологически выраженного отрицания, являясь с этой точки зрения столь же «позитивным» понятием, как и вуджуд «существование», — подчеркивает его тем, что отождествляет ‘адам «несуществование» и ла-вуджуд «не-существование», — понятие, своей морфологией подтверждающее строгую дихотомичность понятию вуджуд «существование».
«Несуществование» (‘адам) является либо «не-существованием» (ла-вуджуд), либо «не-вещностью» (ла-шай’иййа), каковая шире, нежели существование, поскольку сказывается о чтойности, находящейся вне [пределов] существования[128]. А между утверждением (иджаб) и отрицанием (силб) нет никакой середины[129]. Если несуществование — это не-существование, а вещь не выходит за пределы существования и не-существования, то она не выходит за пределы существования и несуществования. А если оно («несуществование». — А. С.) — «не-вещность» (ла-шай’иййа), то тем самым будет опровергнуто их учение по первому вопросу о том, что «несуществующее — вещь», поскольку в таком случае это будет означать, что «не-вещь — вещь», что нелепо [Сухраварди 1993 (а), с. 207].
Естественно, что с точки зрения логики, признающей дихотомию, позиция защитников понятия «утвержденность» выглядит нелепой. Но в том-то и дело, что само понятие «утвержденность» было сформулировано в мутазилизме именно тогда, когда было замечено, что вуджуд «существование» и ‘адам «несуществование» принципиально не дихотомичны, и именно для того, чтобы иметь возможность «схватить» ту область смысла, которая не охватывается ни каждым из этих понятий, ни ими обоими вместе, и было введено понятие «утвержденность». Это представление о недихотомичности существования и несуществования проявилось и в арабском перипатетизме, и в суфизме, где разводились ‘адам «несуществование» и ла-вуджуд «не-существование», на отождествлении которых ас-Сухраварди настаивает здесь как на условии соответствия позиции аристотелизма. Эти коллизии подтверждают тезис, выдвинутый в Главе I: логика смысла универсальна в пределах культуры, хотя, как говорилось (см. выше, а также ниже, Глава II, § 1.8.1. Язык и мышление: ложное представление о прямой взаимообусловленности), никакой язык и, следовательно, никакая культура не препятствуют принципиально воспроизведению результатов инологичного мышления. Так и здесь: строгая дихотомизация характерна для текстов, стремящихся точно воспроизвести аристотелианские построения, тогда как собственное, творческое развитие смыслопостроений в арабской культуре следует собственной логике смысла.
Позиция, с которой полемизирует ас-Сухраварди, оказывается достаточно последовательной и продуманной с различных сторон. В качестве свидетельства того, насколько тонкой может оказаться разработка вопросов, связанных с понятием «утвержденность», я приведу в изложении ас-Сухраварди концепцию, различающую понятия «воспроизведение» (и‘ада) и «восстановление существования» (исти’наф ал-вуджуд). Защитники релевантности термина «воспроизведение» указывали на то, что вещь, не существуя, тем не менее обладает оностью; хотя ас-Сухраварди не употребляет в этом непосредственном контексте термин «утвержденность», понятно, что такое наличие оности при несуществовании и означает, что вещь утверждена. Опровержение ас-Сухраварди строится по уже знакомому принципу: понятие «утвержденность» нерелевантно для дихотомического деления существования и несуществования, а силлогизмы, построенные на таком осмыслении понятий, ведут к нелепостям.
Некоторые считают, что вещь становится несуществующей (ин‘адама), а затем ее оность воспроизводится, и что она — именно та самая (хува би-‘айни-хи), что была прежде. При этом они признают, что имеется разница между «воспроизведенным» (му‘ад) и «тем, чье существование восстановлено» (муста’наф вуджуду-ху). Чернота, которая имеется в некотором вместилище, будучи восстановлена после того, как перед тем из него исчезла чер-нота, и чернота воспроизведенная, очевидно, соучаствуют в черности (савадиййа) до несуществования, в черности после несуществования и в том, что [состояния существования] чередуются (тахаллул) с несуществованием. Но между воспроизведением и восстановлением[130] должно быть различие. Однако они не различаются ни по вместилищу, ни по черности до несуществования и после оного (ведь они соучаствуют в этом). Значит, [они различаются] не чем иным, как тем, что на воспроизведенное можно было в состоянии его несуществования указать как на то, что имело существование, тогда как на восстановленное так указать нельзя.
Далее, на это несуществующее указывают как на «то, что имело существование», не потому, что некая чернота была существующей, — ведь и до восстановленного имелась некая существующая чернота, — и не потому, что с этой некой чернотой сходна (йушабиху-ху) или с ней совпадает (йутабику-ху) чернота в уме, которая и была существующей, — ведь то же верно и для черноты, восстанавливаемой после предшествующей, — а значит, [указывают так] лишь потому, что полагаемое в качестве воспроизведенного имело, вместе с несуществованием, особенную оность (хувиййа муташаххиса), к которой и пришло (варада ‘алай-ха) существование, а иначе между двумя формами нет вовсе никакого различия.
Из этого вытекает, что если несуществующее воспроизводится, то или любое восстанавливаемое — воспроизводимое, или оность вещи существует в состоянии ее несуществования. Поскольку оба следствия ложны, то и посылка ложна [Сухраварди 1993 (а), с. 214].
К этому опровержению, выполненному с позиций аристотелизма, ас-Сухраварди прибавляет собственное, в котором в дополнение к представлению о релевантности дихотомической логики вводится посылка, характерная уже собственно для Шейха озарения: существование вещи, если рассматривать саму вещь, не является чем-то иным, нежели ее чтойность или самость. Кроме того, здесь речь идет о воспроизведении вещи как воспроизведении «момента времени» вещи, что демонстрирует новый ракурс обсуждения проблематики утвержденности.
Другой способ рассмотреть это в целом: различие между двумя соучаствующими в некотором виде фигуры (хай’ат) — вместилище либо [момент] времени (заман), если вместилище одно и то же.
Вопрос. Они могут различаться по действователю или чему-то иному.
Ответ. Мы не обсуждаем [это] здесь, поскольку предполагаем, что действователь у обоих совпадает, — да и как иначе, если Истинный Действователь и согласно вашему учению, и согласно учению других один для всех вещей. А если он и дробится, то нам здесь нисхождение не мешает[131].
Итак, мы говорим: различие между двумя одинаковыми по фигуре — [момент] времени либо вместилище. Но если различающим (мумаййиз) и обособляющим (му‘аййин) двух соучаствующих по вместилищу одинаковых [по фигуре] является [момент] времени, а [момент] времени не воспроизводится, то чернота, воплотившаяся (муташаххис) в тот момент времени, не воспроизводится. А значит, то, что, по предположению, было воспроизводящимся, оказывается иным.
Вопрос. Оно воспроизводится благодаря воспроизведению его [момента] времени.
Ответ. Если [момент] времени воспроизводится, то в состоянии воспроизведения он обладает существованием, и до воспроизведения обладает существованием, поскольку был существующим. Если мы скажем, что смысл [слов] «он был существующим» — это его чтойность и его самость[132], тогда как его чтойность и его самость сейчас существующие[133], то для него «быть существующим» до сего момента (’ан) и быть существующим сейчас — одно и то же, а значит, он не становился несуществующим и не воспроизводился, тогда как, по предположению, он стал несуществующим и был воспроизведен.
Кроме того, должно быть так, что до него (до этого момента. — А. С.) он (этот момент времени. — А. С.) не был существовавшим. Ведь если для упомянутого [момента] времени «быть существовавшим» — это его самость, а его самость имеется сейчас (а быть «существовавшим» не имеет иного смысла), значит, то, что было существовавшим и стало несуществующим — не он (не этот момент времени. — А. С.), а иное, так что воспроизведено было не это несуществующее, а что-то иное.
Если же наше высказывание «[момент] времени существовал, [затем] стал несуществующим и был воспроизведен» имеет смысл иной, нежели «его самость ушла», то есть тот [смысл], что он имелся прежде (ведь сама преждевость (каблиййа) не воспроизводилась), то воспроизведенное не является [моментом] времени, тогда как, по предположению, оно — [момент] времени. Получается, что если воспроизводится [момент] времени, который был прежде, то [момент] времени не является [моментом] времени. Следствие неверно, значит, и посылка неверна [Сухраварди 1993 (а), с. 214—215].
Хотя здесь ас-Сухраварди рассматривает вопрос о воспроизведении момента времени как импликацию тезиса защитников понятия «утвержденность», следует отметить, что безусловной и однозначной связи между этими двумя положениями в истории средневековой арабской философии в целом не наблюдалось. Так, Ибн ‘Араби будет однозначно придерживаться того взгляда на утвержденность, с которым здесь спорит ас-Сухраварди, но столь же однозначно считать, что моменты времени не воспроизводятся.
Представление о том, каким образом вещь относится к своему существованию, должно быть согласовано с представлением о том, каким образом возможно постижение вещи. В этом отношении чрезвычайно интересно свидетельство ас-Сухраварди о том, что попытка понять способ постижения «утвержденной» вещи была реально предпринята, хотя Шейх озарения и не сообщает нам, как именно мыслился такой способ постижения.
Знай, что из воззрений тех, чьи взгляды на вещность несуществующего мы излагали, вытекает, что бывают вещи ни существующие, ни несуществующие. Все общее (’амр ‘амм) и всякую отличительную [черту] (мумаййиз) они считают «состоянием» (хал), ни существующим, ни несуществующим.
А некоторые из них считают, что, не будучи ни существующими, ни несуществующими, они (состояния. — А. С.) не являются также ни познанными (ма‘лум), ни неизвестными (маджхул), ни умопостигаемыми (ма‘кул). А среди этих есть такие, которые говорят, будто некоторые из них чувственно постигаемы.
Вот уж диву даешься: ни существующее, ни несуществующее, но доступное чувству! И потом, если они не познаны, то о чем мы говорим? И познано все-таки, что они не являются существующими, или не познано? Если это не познано, то как они вынесли суждение об этом? Если им известно, что они не являются существующими, но при этом они не познали их никаким образом, то откуда им знать, что они не являются существующими? И как можно было судить об истинности (тасдик), [прежде] не запечатлев (тасаввур) это[134]? И если они не познали, то почему не промолчали? Что это, как не признание в бредовости? [Сухраварди 1993 (а), с. 206—207]
В этом отрывке ас-Сухраварди, с одной стороны, применяет все тот же прием критики системы категорий, построенной принципиально недихотомически, с позиций дихотомической логики: если вещь «не познана», значит, она «непознана», — совершенно оставляя в стороне тот факт, что его оппоненты такого дихотомического деления не принимают. Но помимо способа познания, здесь затронут и вопрос об «установлении истинности или ложности» (тасдик), то есть о суждении. И в этом пункте следует отметить безусловную правоту ас-Сухраварди: если его оппоненты вводят некий третий способ постижения вещи, соответствующий ее утвержденности и отличный как от «познанности», так и от «неизвестности», ему, по всей видимости, и в области суждения должно соответствовать некое третье значение, относящееся к бинарной оппозиции «истина-ложь» так же, как понятие «утвержденность» относится к оппозиции «существование-несуществование»; иначе говоря, оппоненты ас-Сухраварди, если хотят быть последовательными до конца, должны указать такое значение для оценки суждения, которое будет «схватывать» что-то, что не схватывается значениями «истина» и «ложь» при том, что эти два понятия окажутся не дихотомичными[135]. Однако, согласно свидетельству ас-Сухраварди, его оппоненты как раз признавали дихотомичность понятий «утверждение» (исбат) и «отрицание» (нафй), когда ими обозначалась оценка истинности суждения. Отметим совпадение термина «утверждение», используемого в данном случае, с тем, что мы разбирали до сих пор. Ас-Сухраварди безошибочно отмечает, что система категорий «утвержденность/существование-несуществование», которая построена как принципиально недихотомическая, не может быть сохранена, если значение суждений, в которых используются эти категории, оценивать в бинарно-дихотомической системе «утверждение-отрицание» (или «истина-ложь»):
Вот как их можно опровергнуть. Их следует спросить: если возможное — это несуществующее, то является ли его существование утвержденным (сабит) или подвергнутым отрицанию (манфийй)? — ведь сами они признают, что вещь не выходит за пределы отрицания (нафй) и утверждения (исбат)[136]. Если они скажут: существование возможного отрицается, — а все отрицаемое они признают невозможным, — то возможное существование становится невозможным, что нелепо. А если они скажут: его существование утверждено за ним, — а ведь вещь может описываться любым атрибутом, который утвержден за ней, — то несуществующее в состоянии несуществования можно будет описать существованием, так что оно окажется сразу и существующим и несуществующим, что нелепо. Если же они запретят описывать вещь утвержденным за ней атрибутом, то нельзя будет сказать о несуществующей чтойности, что «она вещь», поскольку вещность ее утверждена за ней, а они бы согласились в таком случае, что вещь нельзя описывать тем, что за ней утверждено, — и вот, она оказывается не вещью, тогда как они говорили, что это вещь [Сухраварди 1993 (а), с. 204].
И наконец, заключительное высказывание ас-Сухраварди, которое соединяет весьма энергичное эмоциональное свидетельство несовместимости опровергавшихся им взглядов и аристотелевской дихотомической логики с интересным наблюдением, которое дополняет рассматриваемую нами картину:
А что не обладает утвержденностью (сабат) в уме и в воплощенности, относительно того говорить о его утвержденности — просто бред, и сказывание (ихбар) о нем невозможно [Сухраварди 1993 (а), с. 203].
Нельзя не согласиться с этим высказыванием ас-Сухраварди: в случае, если система категорий построена принципиально недихотомически, это должно иметь влияние не только на способ оценки истинности-ложности суждения, но и на само устроение предикации.
Весьма характерно схожее высказывание ас-Сухраварди в другой работе:
Видя, что универсалии (куллиййат) не существуют в своей воплощенности (а‘йан), некоторые люди, не дойдя до понимания того, что они существуют в уме, решили, что они — не сущие и не не-сущие, но — утвержденные (сабита). Однако то, что именуется «утвержденным», и является на самом деле сущим — либо в уме, либо в своей воплощенности; в противном случае это — чистая софистика [Сухраварди 1982, с. 152].
Здесь ас-Сухраварди вновь пытается убедить оппонентов, что нечто всегда является «существующим», лишь меняя модусы существования. Наверное, с точки зрения той логики смысла, для которой смыслы выстраиваются именно так, построения, оперирующие понятием «утвержденность», должны в самом деле выглядеть «софистикой» или, как более определенно выражается ас-Сухраварди в других местах, «бредом». Но интересно и то, что объяснение, которое ас-Сухраварди предлагает для возникновения понятия «утвержденность», стремясь выставить его защитников в невыгодном свете, само оказывается софистичным. Он представляет дело так, будто необходимость в этом понятии возникла оттого, что кто-то не разглядел модус «существование в уме», которым универсалии обладают несмотря на то, что никогда не существуют вне ума (последний тезис определен номинализмом Шейха озарения). На самом деле, как мы видели, понятие «утвержденность» было введено тогда, когда была замечена принципиальная недихотомичность «существования» и «несуществования», так что само введение этого понятия было выполнено независимо от вопроса об универсалиях. Эта независимость вполне проявила себя в дальнейшем развитии философии: Ибн ‘Араби, признавая (в отличие от самого ас-Сухраварди) «воплощенное» существование универсалий вовне, равно как (в отличие от критикуемых ас-Сухраварди непонятливых оппонентов) их «неотъемлемость» от ума (см. Главу I «Гемм мудрости» [Ибн Араби 1993]), вовсе не отказывается притом от понятия «утвержденность», напротив, считает его необходимым именно для разработки вопроса об универсалиях. Оказывается, таким образом, что потребность в понятии «утвержденность» гораздо фундаментальнее нужды в объяснении статуса универсалий, хотя, когда это понятие уже введено, оно может использоваться и для обсуждения последнего. Более того, для Ибн ‘Араби вполне очевидно то положение, непонимание которого, согласно ас-Сухраварди, породило понятие «утвержденность». Ибн ‘Араби пишет:
Вещь может быть несуществующей (ма‘дум), поскольку речь идет о чувстве, но существующей (мавджуд), поскольку речь идет о разуме [Ибн Араби 1993, с. 170],
говоря именно то, что говорит ас-Сухраварди, — но при этом он весьма плодотворно развивает понятие «утвержденность», необходимость которого вытекает из собственных потребностей логики смысла, руководящей построениями арабских интеллектуалов. Что на самом деле демонстрирует ас-Сухраварди, так это несовместимость построений, выполненных в двух разных логиках смысла вокруг одного и того же вопроса, причем его свидетельство тем интересней, что он фактически доводит свой анализ до последних оснований смыслополагания. Говоря, что история арабской философии была проживанием (а не просто теоретическим обсуждением) сравнительного подхода к философским традициям, я имею в виду как раз подобные феномены (см. аналогичное столкновение двух логик смысла в обсуждении вопроса о причинности: Глава II, § 1.6.4. Импликации для понимания причинности).
1.5.4.2. «Утвержденность» и собственная категориальная система ас-Сухраварди
Интересно задать вопрос: как соотносится эта критика понятия «утвержденность» с собственной категориальной системой ас-Сухраварди и его взглядами на существование? В этом отношении ключевое значение имеет следующий пассаж из «Мудрости озарения»:
Правило. Поскольку существование является умозрительным понятием (и‘тибар ‘аклийй), вещь получает от своей причины свою оность. …Претерпевающее порчу существо может исчезнуть при том, что его изливающая (файйада) причина пребывает, поскольку оно зависит от других, исчезнувших причин. Вещь может иметь разные причины для своего возникновения (худус) и для своей утвержденности (сабат), как, к примеру, каркас[137] [для света], причиной возникновения которого служит его действователь, а причиной утвержденности — сухость первоэлемента; а может быть и так, что причина возникновения и утвержденности — одна и та же, как сосуд, придающий фигуру воде[138]. Свет светов — причина существования всего сущего и его утвержденности… [Сухраварди 1952, с. 186].
Мы видели выше, что ас-Сухраварди даже в пассажах, выполненных в русле перипатетизма, отождествляет существование с чтойностью и самостью вещи. Здесь он выражается более определенно: поскольку термину «существование» ничто не соответствует вне ума, в самой вещи, то причина дает вещи ее оность, а не существование. Употребление трех разных терминов (чтойность, самость, оность) в одном и том же контексте не дает оснований искать особое содержание, которое ас-Сухраварди вкладывал бы в каждый из них; они служат у него для указания на «саму вещь», вещь «как таковую». Далее, в такой вещи ас-Сухраварди различает ее «возникновение» и ее «утвержденность», которая, как то видно из контекста, понимается у него как синоним «пребывания» (это же подтверждается и комментарием последователя ас-Сухраварди, Шамс ад-Дина аш-Шахразури [Шахразури]; ср. параллельное место у Ибн Сины в «Указаниях и наставлениях» и комментарии Насир ад-Дина ат-Туси [Ибн Сина 1958, с. 485—493], свидетельствующие о том, что само понятие «возможное» (мумкин) вводится в полемике с представителями той позиции, которая строилась на наблюдении о возможности пребывания следствия после исчезновения его причины), причем синонимом для «возникновения» (худус) у него оказывается «существование» (вуджуд: см. последнюю процитированную фразу ас-Сухраварди и параллельные места комментария аш-Шахразури [Шахразури]).
Коль скоро это так (а это, по всей видимости, именно так, и именно такое соотношение между названными категориями отражает собственные взгляды ас-Сухраварди, поскольку оно согласуется с текстом «Мудрости озарения», да и аш-Шахразури однозначно отделяет взгляды «философов озарения» от взглядов «перипатетиков» именно в этом пункте [Шахразури, с. 446—448]), оказывается, что для самого ас-Сухраварди вовсе не «существование» является наиболее общей и наиболее очевидной категорией и отнюдь не «существование» выступает категориальной основой его представлений о вещи. Таковым у него следует считать, видимо, целый комплекс понятий, которые позволяют описывать вещь «как таковую». Среди них в первую очередь стоит назвать понятие «самостоятельность» (кийам би-з-зат, произв. ка’им би-з-зат «самостоятельный»), которое выражает «независимость» (истиклал) вещи и, вследствие этой независимости, ее «постоянство» (давам) и «пребывание» (бака’). Заметим, что в понятие «самостоятельность» не входит понятие «существование», напротив, последнее может объясняться через него. Трудно избавиться от впечатления, что «самостоятельность» у ас-Сухраварди выражает примерно то же, что «утвержденность» в мутазилизме и исмаилизме (возможность говорить о вещи независимо от ее существования и несуществования, более того, до них, создавая предпосылки для наполнения «существования» и «несуществования» смыслом), хотя эта интенция осмысления у Шейха озарения далека от завершения. Вместе с тем не будет ошибкой сказать, что стремление к выработке понятия вещи независимо от ее существования или несуществования выражена у ас-Сухраварди весьма отчетливо. Я приведу в подтверждение этого пространный пассаж, в котором он доказывает, что градация вещей может быть осмыслена как градация совершенства и ущербности, а не как градация бытия, как то было принято в арабском перипатетизме:
Далее, вы[139] утверждаете, что существование в одном и том же смысле налагается и на имеющее необходимость существования (ваджиб ал-вуджуд), и на иное и что в имеющем необходимость существования существование и есть само это сущее, а для иного оно акцидентально и превышает его чтойность. На это вам скажут следующее.
[Свойство] существования не нуждаться в чтойности присоединяется к оной, если оно вызвано самим существованием, и тогда все [сущие] таковы. Если же оно — от чего-то другого в имеющем необходимость существования, то это идет вразрез с их собственными правилами: из этого вытекает множественность сущего, имеющего необходимость существования[140], что (как это доказано) невозможно.
Это не может вытекать и из того, что [имеющее необходимость существования] не является следствием [чего-либо], поскольку для него не нуждаться в причине — следствие того, что оно необходимо, а не возможно. Необходимость [существования] нельзя объяснять через отсутствие причины, ибо оно не нуждается в причине именно благодаря своей необходимости. Кроме того, если его необходимость — это нечто сверх его существования, то оно множественно, и нам придется повторить то же самое относительно той его необходимости, что сверх существования, которое служит атрибутом сущего: если она принадлежит и необходимо-сопутствует сущему именно как сущему, то это же должно быть справедливо вообще для всех сущих (а в противном случае она была бы вызвана причиной); если же она следует из самого существования, мы сталкиваемся с прежней проблемой.
Итак, если отсутствие нужды [в причине] вызвано самим существованием, то это должно быть справедливо для всего.
Если на это оппонент ответит, что необходимость такого сущего — это совершенство, исполненность и подтвержденность (та’аккуд) существования — так же точно, как для чего-то, что чернее другого, иметь большую черноту не является чем-то сверх черноты, но лишь совершенством самой черноты, не превышающим ее, и так и необходимое существование отличается от возможного своей подтвержденностью и исполненностью, — то тем самым он признает, что чтойности могут иметь в самих себе полноту, избавленную от нужды во вместилище, и ущербность, нуждающуюся в оном, подобно существованию необходимому и иному [Сухраварди 1952, с. 93—94].
Вместе с тем ас-Сухраварди сохраняет понятие «возможное» (мумкин) как то, что равно приемлет существование и несуществование и что нуждается в «дающем перевес» (мурадджих) для того, чтобы существовать[141]. Таким образом, ас-Сухраварди, с одной стороны, пытается говорить о вещах как таковых, избегая понятия «существование» как фикции ума, которой ничто не соответствует в самих вещах, а с другой — не может избежать указания на «существование» и «несуществование».
Ведь если «существование» не более чем некое понятие ума, которому в самих вещах ничто не соответствует, то и использовать термин «возможное», который определяется через особое соотношение между существованием и несуществованием («возможное» — это то, для чего «существовать» и «не существовать» равновероятны), нельзя, поскольку в таком случае возможное окажется неотличимым от необходимого. Очевидно, несистематизированность фундаментальных категорий, выражающих отношение вещи к самой себе и к своему существованию, связана и с общей несистематизированностью философского учения ас-Сухраварди, которое претендует на монистичность, сохраняя и, более того, подчеркивая принципиальный дуализм.
1.6. «Возможное» арабских перипатетиков: развитие понятия в русле той же логики смысла
Как мы видели, ас-Сухраварди полемизирует с теми, кто трактует «возможное» (мумкин) как «утвержденное». Но «возможное» и соответствующее ему понятие «возможность» (имкан), равно как и противоположные им «необходимое» (ваджиб) и «необходимость» (вуджуб) входят в основную номенклатуру терминов, с помощью которых в арабском перипатетизме описывается отношение вещи к существованию. Насколько понимание этих терминов в самом арабском перипатетизме было дистанцировано от той трактовки «возможного» как «утвержденного», с которой полемизирует ас-Сухраварди? Безусловно верно, что понятие «утвержденность» в арабском перипатетизме не играет той роли (как термин, то есть с точки зрения частотности его употребления), какую оно играет в мутазилизме и исмаилизме (и, как увидим, в суфизме), и критика, которой ас-Сухраварди подвергает отождествление «возможного» и «утвержденного», была бы с этой точки зрения признана отражающей позицию арабского перипатетизма. Но ограничивается ли правильность такой критики только терминологическим планом или она верна по существу? Насколько, иначе говоря, само понятие «возможное», как оно было выработано в арабском перипатетизме, и прежде всего в учениях ал-Фараби и Ибн Сины, дает основания для трактовки его как аналога понятия «утвержденное», и насколько оно таких оснований не предоставляет? Было ли отождествление «возможного» и «утвержденного», с чем так настойчиво спорит ас-Сухраварди, чистым произволом со стороны придерживавшихся этой позиции мыслителей, произволом, выявляющим их непонимание предложенной арабскими перипатетиками трактовки этого понятия, или же сама эта трактовка содержит в себе нечто, что оправдывает подобное отождествление? И если это так, то насколько система базовых онтологических категорий, которыми оперирует арабский перипатетизм, соответствует классическому античному пониманию бытия, вещи и соотношения между ними? И в связи с этим — насколько позиция, с которой ас-Сухраварди опровергает понятие «утвержденность», отражает собственную позицию арабских перипатетиков, прежде всего ал-Фараби и Ибн Сины, а насколько — чисто аристотелианскую позицию, прекрасно известную по переводам трудов Стагирита?
Начнем с того, что попытаемся восстановить полностью понятийный контекст, в котором функционирует понятие «возможное».
1.6.1. Разработка понятия «возможное» Ибн Синой
Хотя начало разработке понятий «возможность» и «возможное» положил, как считается, еще ал-Фараби, мы рассмотрим их в той зрелой форме, какую находим в сочинениях Ибн Сины.
Ибн Сина вводит понятие мумкин «возможное», рассуждая о сущем «в его самости» (фи зати-хи), «вне связанности с чем-либо еще». Каждое сущее, говорит он, рассматриваемое таким образом, оказывается либо ваджиб ал-вуджуд би-зати-хи «влекущим необходимость существования своей самостью», либо мумкин ал-вуджуд би-зати-хи «имеющим возможность существования благодаря своей самости» [Ибн Сина 1958, с. 447]. Это деление хорошо известно историкам философии, и его связывают, как правило, с авиценновским разделением причин чтойности и причин существования. В самом деле, непосредственно предшествующая введению понятий «возможное» и «необходимое» часть «Указаний и наставлений» посвящена разъяснению того, что можно представлять себе чтойность вещи, но совершенно не прибавлять к этому представлению понятие ее существования[142]. Из этого неизбежно вытекает принципиальная неоднородность известных четырех аристотелевских причин. И дело не только в том, что дарение бытия оказывается связано только с одной из них, а именно с действенной. Дело еще и в том, что остальные три причины так или иначе произведены этой же действенной причиной, так что на самом деле «действователь» (фа‘ил) остается единственной причиной своего следствия, то есть «претерпевающего» (маф‘ул).
Именно этот шаг и создает принципиальную возможность введения понятия мумкин «возможное», равно как и соответствующего ему ваджиб «необходимое». Для Ибн Сины дело состоит не в том, чтобы только разделить сущность и существование. Такое разделение было бы совершенно недостаточным для того осмысления понятия «возможное», которое он предлагает. Интересно, что установление параллелей между взглядами Ибн Сины и учениями о бытии и сущности в средневековой западной философии основывается именно на этом пункте авиценновской концепции и не обращает внимание на то, что он является хотя и необходимым, но отнюдь не достаточным для ее построения. Все дело в том, что для Ибн Сины важно осмыслить отношение не между обладателем полноты бытия и чтойностью, такой полноты лишенной и причащающейся ей благодаря акту передачи бытия, а между действователем и претерпевающим, где претерпевающее не обладает чтойностью прежде получения существования от действователя. Сама эта необходимость именно так осмыслить отношение между действующим и претерпевающим является, в свою очередь, следствием того, что чтойность вещи — до того, как вещь получит от действователя свое внешнее существование — не может быть у Ибн Сины помещена «внутрь» Ума или божественной сущности, когда бы ее оставалось лишь дополнить существованием-вовне, независимым бытием. Сейчас нет возможности подробно заняться выяснением оснований этой невозможности; разговор о понимании единства и его соотношения с множественностью у нас впереди. И хотя у того же Ибн Сины в понятии Действенного Разума можно обнаружить параллели неоплатоническому представлению об Уме как хранилище всех форм, и, более того, именно Действенный Разум оказывается хорошо известным в арабском перипатетизме и в других направлениях средневековой арабской философии агентом, управляющим подлунным миром, это представление никак не задействовано в контексте выработки понятия «возможное», о котором сейчас идет речь[143]. Претерпевающее у Ибн Сины оказывается не чтойностью, готовой к принятию существования, поскольку самой чтойности нет прежде действия действователя. Претерпевающее — это то, что Ибн Сина обозначает термином «самость» (зат).
Но что стоит за этим термином, если это не чтойность вещи? Что такое «сущее в своей самости», которое и бывает, согласно Ибн Сине, «возможным» или «необходимым», если такое сущее — и не существующая вещь в своем действительном бытии? Чем оказывается это общее основание деления сущего — «самость», которая не является ни чтойностью, ни существованием? И является ли понятие «самость» в этом контексте, как основание деления сущего, — понятием, логически подчиненным понятию существования, или понятием того же порядка, или, может быть, логически ему предшествующим?
Мы не обнаруживаем у Ибн Сины прямого ответа на этот вопрос. Но на то, в каком направлении его обнаружения можно было бы ожидать, нам указывает следующее принципиальное положение:
кулл хадис фа-кад кана кабла вуджуди-хи мумкин ал-вуджуд фа-кана имкан вуджуди-хи хасилан
Всякое возникшее было до своего существования имеющим возможность существования, а значит, возможность его существования была в наличии [Ибн Сина 1958, с. 507].
Итак, «возможность» (имкан) как таковая, говорит Ибн Сина, налицо до того, как сущее, «имеющее возможность существования», станет существующим. Но мы помним, что этого сущего, собственно, нет до того, как оно обрело существование; чем же является та возможность, о которой говорит здесь Авиценна? Каким образом оказывается «в наличии» эта возможность? — ведь ее следует мыслить не отдельно от самого возможного, однако, когда возможность налицо, сущего еще нет — того сущего, которое мы, рассматривая его в его самости, и считаем «возможным»?
Чем больше мы вдумываемся в это неординарное построение Ибн Сины, тем более определенно приходим к выводу о том, что «имеющее возможность существования» (мумкин ал-вуджуд), или просто «возможное» (мумкин), — это нечто такое, что совершенно не зависит от понятия «существование», это то, что наличествует независимо от того, является ли сущее собственно сущим или нет, то есть обрело оно существование или еще является не существующим. Собственно, это выражено и в хрестоматийном для средневековой арабской мысли описании возможного: возможное — это то, что равно «принимает» и существование, и несуществование. Такое понимание возможного предполагает, что это понятие логически независимо от понятия «существование»; и дело вовсе не в том, что, как пишет ас-Сухраварди, возможное, не будучи существующим вовне, тем не менее существует в нашем уме, поскольку такой ход означает принципиальную зависимость возможного от воспринимающего его человеческого разума, что нелепо и не может быть интенцией авиценновского построения. Нам приходится признать, что тот способ, благодаря которому возможное «наличествует», не является ни существованием, ни несуществованием, он равно независим от них обоих и предшествует им обоим. Собственно, сам Ибн Сина и указывает именно на это, когда говорит, что «возникшему» предшествует оно же само как «имеющее возможность существования»; но до того, как «возникшее» обрело существование, оно отсутствует и не существует. Будучи несуществующим, оно в то же время является «имеющим возможность существования»: оно, собственно, «наличествует», так же как «наличествует» и его возможность. От того, что Ибн Сина не называет этот способ наличествовать, которым «возможное» обладает независимо от своего существования и несуществования, «утвержденностью», дело никак не меняется: он оказывается именно тем, что в других направлениях арабской философии понималось как «утвержденность». В самом деле, про саму возможность Ибн Сина говорит «была в наличии» (кана хасилан), а про возможное — просто «было» (кана): либо можно «быть» (кана) прежде «существования» (вуджуд), либо «быть в наличии» означает нечто иное, нежели «существовать». Насколько известно, в арабском перипатетизме глагол кана «быть» не обозначает чего-то иного, нежели «возникновение» (худус). Но в разбираемой фразе Ибн Сины именно «возникшее» (хадис) «было возможным». Остается признать, что за этими «было в наличии» и «было» стоит представление о каком-то ином способе быть представленным для нас, нежели указание на существование или несуществование, иначе рассуждение Ибн Сины просто не может приобрести осмысленность. И когда Ибн Сина, исследуя внутреннюю логику понятия «возможность», в конце концов приходит к выводу о том, что
ал-хадис йатакаддаму-ху кувват вуджуд ва мавду‘
возможному предшествует потенция существования и субстрат [Ибн Сина
1958, с. 513],
эту его попытку свести «возможность» к чему-то внешнему для самого «возможного» трудно принять всерьез, поскольку сам же Ибн Сина неоднократно по ходу своих рассуждений напоминает о необходимости рассматривать возможное именно как «возможное в самом себе» (мумкин фи нафси-хи), да и основой деления всего сущего на возможное и необходимое служит именно рассмотрение его «в самости» (зат), вне связи с чем-либо другим.
Дополнительное значение для понимания логики осмысления «возможного» имеет представление о цели, которую преследует Ибн Сина, вводя эту категорию. С одной стороны, создается впечатление, что он стремится обосновать наличие такого сущего, которое хотя и является следствием для выше его стоящей причины, тем не менее не произведено во времени, то есть столь же вечно, как и произведшие его причины и, в конечном счете, как Первая Причина, — наряду с сущим, которое возникает во времени и уничтожается после своего возникновения. И то и другое он называет ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи «имеющим необходимость существования благодаря другому», различая их как соответственно ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи да’иман «имеющее необходимость существования благодаря другому постоянно» и ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи вактан ма «имеющее необходимость существования благодаря другому в течение некоторого времени». Из этого естественно вытекает, что существованию первого не предшествует несуществование, тогда как для второго верно обратное: его существованию всегда предшествует несуществование. Нетрудно видеть, что Ибн Сина здесь стремится описать те вечные сущности, которые занимают в структуре мироздания место между Первопричиной и подлунным миром возникновения и гибели и которые чаще всего бывают известны нам под именем космических Разумов.
Можно было бы, таким образом, считать, что сложная система категорий, которую развивает Ибн Сина, призвана не более чем обосновать этот неоплатонический по своему существу взгляд. Однако дело в том, что эта система категорий не помогает, а скорее мешает обоснованию такого построения: как раз то понятие, которое является в этом отношении решающим, а именно, понятие ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи да’иман «имеющее необходимость существования благодаря другому постоянно», совсем не вписывается в базовое деление всего сущего на ваджиб ал-вуджуд би-зати-хи «влекущее необходимость существования своей самостью» и мумкин ал-вуджуд би-зати-хи «имеющее возможность существования благодаря своей самости», которое лежит в основе разбираемой системы категорий Ибн Сины. Ведь ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи «имеющее необходимость существования благодаря другому» является не чем иным, как «возможным», но тогда, когда это возможное рассматривается в связи со своей причиной и отсутствием препятствия для ее действия, то есть как действительно существующее. Однако для понятия «возможное» принципиально именно то, что его существованию предшествует несуществование, — а как раз это условие и не выполняется для ваджиб ал-вуджуд би-гайри-хи да’иман «имеющего необходимость существования благодаря другому постоянно», поскольку ему, существующему вечно, никакое несуществование не предшествует. В таком случае либо оно не является в своей самости возможным — а значит, оно должно оказаться ваджиб ал-вуджуд би-зати-хи «влекущим необходимость существования своей самостью», поскольку никакого иного класса система категорий Ибн Сины не предусматривает, — либо для понятия «возможное» не является принципиальным несуществование, — но тогда оно не может быть отличено от ваджиб ал-вуджуд би-зати-хи «влекущего необходимость существования своей самостью», и базовая категориальная сетка у Ибн Сины опять-таки не может быть выстроена. Поэтому следует признать, что на самом деле введение категорий «возможное» и «необходимое» у Ибн Сины отнюдь не имеет целью обосновать те его построения, которые являются неоплатоническими по своему духу, и, более того, он мирится с тем, что такие построения не слишком-то хорошо вписываются в его систему категорий[144].
Подлинной же целью Ибн Сины оказывается полемика с теми, кто, по его мнению, неправильно трактовал понятие «возникшее» и вопрос о его «потребности» (ихтийадж) в действователе, давшем этому возникшему существование. Сам Ибн Сина не определяет конкретно своих оппонентов, но Насир ад-Дин ат-Туси в комментарии указывает, что в качестве таковых выступали мутакаллимы. Претерпевающее, говорили они, нуждается в действователе только в момент своего возникновения. Получив существование, оно этой потребности более не испытывает, так что действователь может исчезнуть, а то, что возникло благодаря этому действователю, будет продолжать существовать[145]. Раз так, то и мир, рассматриваемый как существующий, нуждался в Боге как действователе только в момент своего возникновения, после чего такую нужду более не испытывает, и, если бы было допустимо прекращение существования Бога, это никак не отразилось бы на созданном им мире. Кроме того, если бы сущее продолжало нуждаться в действователе после своего возникновения все время, пока оно существует, это было бы верно и для Бога, и тот также должен был бы, будучи существующим, нуждаться в действователе.
Именно с этим, деистическим по своим импликациям, взглядом борется Ибн Сина, вводя первоосновное деление всего сущего на «необходимое» и «возможное». Главным для него оказывается предложить такое осмысление вещи, при котором ее существование не могло бы быть понято иначе, нежели постоянно обеспечиваемое неким внешним фактором. Ибн Сина фактически выступает против того отождествления существования вещи с самой вещью, которое было предложено в каламе и исходя из которого ал-Джубба’и и критиковал (весьма, как мы видели, непоследовательно) понятие «утвержденность». Такое отождествление позволяет описать «возникновение» вещи как однократный акт «перехода из несуществования в существование», и поскольку существование не является чем-то прибавляемым к понятию самой вещи, вещь может пребывать совершенно независимо от того действователя, который «перевел» ее из состояния несуществования в состояние существования. Более того, она теперь в таком действователе никак не может нуждаться, поскольку ей, существующей, уже не требуется переходить из несуществования в существование второй раз[146].
Положение Ибн Сины о том, что «в своей самости» любая вещь является либо только «возможной», либо «необходимой», как раз исключает понимание существования как чего-то, что не прибавляется к самой вещи. Если такое понимание невозможно, то и вся концепция, с которой не соглашается Ибн Сина, окажется невозможной, поскольку она опирается на это понимание и не может состояться без него.
Но чем является «сама вещь», или «самость» вещи, указание на которую столь принципиально для Ибн Сины? Мы уже видели, что это, с одной стороны, «возможность» существования, предшествующая самому существованию и независимая от него. С другой стороны, понятие «самость вещи» прямо связано с осмыслением вещи как претерпевающей некоторое действие. Но понятие «действие» предполагает для Ибн Сины не что иное, как соположенность несуществования и существования, в котором первое предшествует второму[147]:
фи мафхум ал-фи‘л вуджуд ва ‘адам ва кавн залика ал-вуджуд ба‘да ал-‘адам ка-’анна-ху сифа ли-залика ал-вуджуд махмула ‘алай-хи
В понятии действия — существование и несуществование, а также тот факт, что это существование — после несуществования, что является как бы атрибутом этого существования, ему предицируемым [Ибн Сина 1958, с. 491],
причем, как поясняет далее Ибн Сина, из этих трех составляющих понятия «акт» с действователем связано только существование вещи, так что действователь у Ибн Сины, точно так же, как у его оппонентов-мутакаллимов, совершает именно «перевод» вещи из несуществования в существование. В чем же различие между двумя позициями? Только в одном: для мутакаллимов, с которыми спорит Ибн Сина, «самой вещью» и оказывалось ее существование, тогда как для Ибн Сины «сама вещь» — это то, что стоит выше существования и несуществования и для чего «существовать» поэтому нуждается в дополнительном обосновании.
Можно подвести некоторые итоги. «Сама вещь», или «самость вещи» у Ибн Сины — это нечто, что не является ее чтойностью и что может быть описано не в понятиях существования или несуществования как таковых, но только как определенное их соположение. Ближайшим образом сам Ибн Сина квалифицирует это понятие как «возможность» (имкан). «Возможность», говорит он, это то, что имеет «две стороны» (тарафан), существование и несуществование. Возможность не является ни тем ни другим, но — возможностью преобладания либо той, либо другой. Ибн Сину следует понимать так, что две стороны возможности никогда не пребывают в равновесии, когда вещь была бы только возможной, но притом ни существующей, ни несуществующей. Хотя сама возможность не является ни существованием, ни несуществованием и, как мы помним, «имеется» совершенно независимо от них, она тем не менее непременно сопровождается одним из них, так что вещь, оставаясь «возможной», является в то же время непременно либо «существующей», либо «несуществующей». Существование и несуществование вещи поэтому обоснованы не самими собой, но — логически — тем, что вещь как таковая является возможной.
1.6.2. «Возможность» и «утвержденность»
Сравним это представление о «возможности» вещи с представлением об «утвержденности», которое разбирали вначале.
Как в мутазилитской концепции вещь «утверждена» до своего существования, так и у Ибн Сины вещь «возможна» до своего существования. Однако если в мутазилизме остается открытым вопрос о том, является ли утвержденность чистым и самостоятельным состоянием вещи, когда допустимо было бы считать вещь только утвержденной и притом ни существующей, ни несуществующей, причем, по всей видимости, на этот вопрос можно дать и положительный ответ, поскольку, как мы видели, несуществование у некоторых мутазилитов понималось как следующее за существованием, но не предшествующее ему, так что вещь может оказаться утвержденной до своего существования и несуществования, тогда как в тех концепциях, с которыми полемизирует ас-Сухраварди, вещь оказывается утвержденной между своим существованием и воспроизведением, в состоянии несуществования, хотя это еще не означает однозначно отрицательного ответа на заданный выше вопрос, — то у Ибн Сины «возможность» безусловно имеется всегда как отличная от несуществования и существования, но столь же безусловно всегда сопровождается одним из этих состояний.
Ал-Джубба’и и другие мутазилиты, полемизируя с понятием «утвержденность», говорили, что существование вещи и является «самой» вещью. Интересно, что, опровергая этот взгляд, Ибн Сина выстраивает понятие, которое удивительным образом напоминает понятие «утвержденность». Это не значит, впрочем, что оно вполне ему идентично. Указанные выше отличия сопровождаются и различиями логико-смыслового плана. Понятие «возможность» у Ибн Сины строится так, как если бы оно занимало в логико-смысловой конфигурации место смысла первого уровня, и принципиальным свидетельством этого является, с одной стороны, независимость этого смысла от понятий «существование» и «несуществование», а с другой — тот факт, что существование и несуществование приходят к своей тождественности именно в понятии «возможность». В таком случае смыслы «существование» и «несуществование» должны были бы оказаться смыслами второго уровня, причем для них должно было бы быть характерно отношение принципиальной недихотомичности, как мы то видели на примере осмысления этих понятий в мутазилизме, исмаилизме и пр. Интересно, что ат-Туси в своем комментарии указывает на возможность разведения понятий ‘адам «несуществование» и ла-вуджуд «не-существование», так что, вообще говоря, не всякое отсутствие существования оказывается «несуществованием» (‘адам) [Ибн Сина 1958, с. 518—519, комментарий]. По-видимому, ат-Туси согласен с тем, что «не-существование» (ла-вуджуд) ассоциируется с «невозможным» (мумтани‘), с тем, что в принципе не может существовать, тогда как «несуществование» (‘адам) характерно для возможного: за несуществованием (‘адам) следует существование, в отличие от не-существования (ла-вуджуд), которое не сменяется существованием. Если это так, то ат-Туси здесь скорее стоит на стороне оппонентов ас-Сухраварди, нежели солидаризируется с самим Шейхом озарения, когда тот с позиций строгой дихотомии отождествляет ла-вуджуд «не-существование» и ‘адам «несуществование» (см. Глава II, § 1.5.4.1. Критика «утвержденности» с точки зрения нормативного аристотелизма), а значит, комментатор Ибн Сины, который, как известно, стремился интерпретировать текст «Указаний и наставлений» в максимальном согласии с нормативным аристотелизмом, не смог избежать влияния «родной» для арабской культуры логики смысла в этом важнейшем моменте определения основополагающих понятий. При всем этом следует отметить, что отношение «существования» и «несуществования» как смыслов второго уровня к «возможности» как смыслу первого уровня остается у Ибн Сины не вполне таким, которое соответствовало бы разбираемой логико-смысловой конфигурации: в ней смысл первого уровня должен сохранять свою самостоятельность и не требовать в качестве непременного условия наличие смыслов второго уровня (а только предполагать их логически). Однако «возможное» у Ибн Сины всегда является — не утрачивая своей «возможности» — либо существующим, либо несуществующим. Это понятие, таким образом, не становится у него независимым, всегда оставаясь как бы за понятиями «существование» и «несуществование» и в то же время не будучи сводимо к ним.
1.6.3. «Возможность» и «существование-несуществование»
В заключение отметим еще одну деталь. Понятие «возможность» остается у Ибн Сины несводимым к понятиям «существование» и «несуществование», за которыми оно постоянно стоит. Но оно еще и логически первично в отношении к ним. Верно, что вещь никогда не бывает просто возможной, не будучи в то же время либо существующей, либо несуществующей, так же как не бывает, чтобы вещь была только существующей или несуществующей, не будучи в то же время возможной[148]. Но верно и то, что состояние существования или несуществования никогда не бывает вызвано самой вещью, поскольку для возможности как таковой (а она и является «самой вещью» у Ибн Сины) существование и несуществование равно безразличны: возможность — это то, в чем они приходят как бы к тождеству. Что такое понимание естественно и является логически первичным, свидетельствует замечание Ибн Сины о том, что нарушение этого состояния возможности безусловно предполагает некоего внешнего агента. Ни существование, ни несуществование сами никогда не могут возобладать одно над другим, потому что возможность предполагает их как бы совпадение в себе, причем такое совпадение, в которой их противопоставленность исчезает. Необходимо, чтобы что-то обеспечило «перевес» (тарджих) одной из этих «сторон» возможности над другой. Таким «дающим перевес» (мурадджих) является безусловно нечто внешнее. Это положение, согласно Ибн Сине, абсолютно очевидно и не нуждается ни в каких доказательствах или иллюстрациях, хотя иногда разум может, говорит он, «в испуге» бросаться к таковым. Например, добавляет ат-Туси, к образу чашечных весов — совершенно излишнему и не проясняющему дело[149]. Очевидность положения о том, что «возможное» само по себе не предполагает ни существования, ни несуществования, но притом всегда выступает за одним из них, а следовательно, требует в любом случае некоего внешнего агента, — это логико-смысловая очевидность, обеспечиваемая на самом фундаментальном уровне, на уровне построения смысла.
Таким внешним агентом в конечном счете оказывается у Ибн Сины ваджиб ал-вуджуд би-зати-хи «влекущее необходимость существования своей самостью» — то, что утверждено безусловно.
1.6.4. Импликации для понимания причинности
Не рассматривая здесь этот вопрос подробно, не могу не отметить, что именно на этом понимании «возможного» строится понимание причинности в арабском перипатетизме. Поэтому можно утверждать, что оно определяется не только усвоением известного аристотелевского учения о четырех причинах, а может быть, и не столько этим, сколько следованием императиву собственной логики смыслополагания. Более того, понятие «возможное» оказывается непосредственно «пригнано» к понятию «причина», и даже, более того, прямо предполагает его введение для собственного объяснения.
Причина с этой точки зрения — это то, что дает перевес одной из «сторон возможности возможного», как выразился Ибн Сина. Такая причина и сообщает возможному необходимость, так что оно, «связываясь» (та‘аллук) со своей причиной, получает «перевес» (тарджих) в части своего существования и потому становится «необходимым посредством другого». Но это понимание причины логически никак не пересекается с тем, что предложено Аристотелем, поскольку выстроено по иной логике смысла, а потому два понимания причины остаются сосуществующими и как бы параллельными в арабском перипатетизме, хотя безусловно более важным — с точки зрения развития теоретических построений — оказывается первое. Хорошее представление как об этой параллельности, так и о теоретическом приоритете, отдаваемом первому пониманию причины, дает следующее высказывание ас-Сухраварди, которое взято мной из одной из тех его работ, которые он, по собственному признанию, «сочинил …на манер перипатетиков, подытожив их положения» [Сухраварди 1952, с. 10]:
Сущее распадается на причину (‘илла) и следствие (ма‘лул). Из двух пониманий причины первое состоит в том, что причина — это то, что делает необходимым существование чего-то иного, что не может без оного существовать. Тогда следствие — это то, для чего необходимость существования или несуществования следует из предположения о существовании или несуществовании иного (т.е. причины. — А. С.).
Но термином «причина» может обозначаться также и то, без чего вещь лишь не может существовать. Среди таких причин — действенная (как плотник в отношении стула), формальная (фигура стула), материальная (дерево) и целевая (потребность в месте для сидения), причем эта служит действенной причиной для той (означенной выше. — А. С.) действенной причины, хотя и является ее следствием в существовании [Сухраварди 1982, с. 160].
Я выбрал это рассуждение среди многих схожих в силу показательности его структуры. Два абзаца, определяющие причину, определяют в сущности одно и то же. Различие между ними состоит в том, что первое определение оперирует понятиями «существование», «несуществование» и «то, что одинаково относится к существованию и несуществованию», переходя из одного в другое и оставаясь в любом случае «возможным», но в состоянии существования называясь «необходимым благодаря иному» (интересно, что некоторыми вводился и симметричный термин «невозможное благодаря иному», обозначавший «возможное» в состоянии его несуществования; ас-Сухраварди этот термин не упоминает): это определение выполнено в той логике смысла, для которой требуются именно такие понятия и именно такое их конфигурирование, которое я разбирал, анализируя понятие «возможное» у Ибн Сины. Второе определение выполнено в логике, для которой достаточно понятий «существование» и «вещь». Тот факт, что ас-Сухраварди располагает два понимания причины параллельно, говорит о том, что в его восприятии эти две логики смысла не пересекаются. Интересно, что Ибн Сина занимает как будто другую позицию и как будто пытается отождествить причину, дающую возможному его необходимость, с действователем (действенной причиной), тем самым разыскивая путь к отождествлению двух подходов к пониманию причинности. Хотя такая попытка и предпринимается, вряд ли ее можно считать до конца успешной, поскольку Ибн Сина говорит, что само действие причины может зависеть от наличия «условий» (шарт), так что, собственно, действенная причина может и не производить вещь, то есть не передавать ей необходимость, тогда как согласно пониманию действенной причины, одного ее существования достаточно для существования следствия. Отметим также, что у ал-Кинди два класса причин также выступают как скорее параллельные, нежели сводимые друг к другу, причем логический приоритет оказывается на стороне той причины, которая дает сущему его «истинность». В своем трактате «О первой философии» он пишет, что, с одной стороны, «истина» вещи заключена в ее четырех причинах, так что знание четырех аристотелевских причин дает знание вещи, а с другой — что знание «первой причины», не являющейся ни одной из названных четырех, —наиболее возвышенное и благородное, поскольку в нем скрыто содержится все прочее знание [Кинди, с. 57—58]. Интересно также, что ас-Сухраварди определяет четыре аристотелевские причины ровно так, как Ибн Сина определяет «условие» (шарт) для действия причины, что может быть связано именно с тем, что Ибн Сина пытается вывести один класс причин из других, тогда как ас-Сухраварди такой попытки не предпринимает. Стоит заметить, что различие между «причиной» (‘илла) и «условием» проводилось также и в фикхе, причем разводились они по тому же признаку, по которому ас-Сухраварди разводит два класса причин.
1.7. Понятия «утвержденность» и «возможное» в философии суфизма и ответ оппонентам
Что касается Ибн ‘Араби, то для него утвержденность — состояние, отличаемое равно от существования и несуществования. Это отличие проявляется в нескольких аспектах.
Во-первых, вещь остается утвержденной и в состоянии существования, и в состоянии несуществования.
Если и открывает Бог твари своей состояния утвержденной воплощенности ее, на коих покоится форма существования, тварь эта не может ознакомиться с тем, как ознакомлен Истинный с этими утвержденными воплощенностями в состоянии их несуществования, поскольку они — самостные соотнесенности, формы не имеющие [Ибн Араби 1993, с. 157][150].
Что эти три состояния именно различны и ни одно из них не сводится к другому, свидетельствуют многочисленные пассажи у Ибн ‘Араби, например:
Подобно сему и воплощенности возможного не светоносны, ибо они небытийные; хотя и имеют они атрибут утвержденности, но не имеют атрибута существования; ведь существование — свет [Ибн Араби 1993, с. 189].
Утвержденность в несуществовании указывает на наличие вещи, хотя такое наличие не означает существования. Так, Ибн ‘Араби говорит о
самости вещи, утвержденной в состоянии несуществования [Ибн Араби 1993, с. 200],
причем эта характеристика относится к любой вещи.
Если говорить собственно о несуществовании и существовании, то первое предшествует второму:
Есть среди них знающие, что знание Бога о них во всех их состояниях таково же, каким было в состоянии утвержденности их воплощенностей, до того, как получили они (воплощенности.– А. С.) существование [Ибн Араби 1993, с. 156—157].
При этом утвержденность остается логически первенствующим понятием. Утвержденная воплощенность может быть небытийной, а может быть и бытийствующей, но определяется эта воплощенность именно своей утвержденностью. Ибн ‘Араби продолжает:
Они знают, что Бог дарует им лишь то, что даровали Ему для познания их воплощенности, то есть то, какими были они в состоянии утвержденности; знают они о себе Божьим знанием, откуда произошли они [Ибн Араби 1993, с. 157].
Еще один немаловажный аспект логического первенства утвержденности в отношении существования состоит в том, что существование может «утверждаться»:
Всеславен же Тот, на Кого не указывает никто, кроме Него Самого, и Чье бытие (кавн) утверждено лишь Его воплощенностью [Ибн Араби 1993, с. 191],
тогда как обратное соотношение понятий, «придание бытия утвержденности», невозможно. Иначе говоря, можно быть утвержденным, но не существующим, тогда как нельзя быть не утвержденным, но существующим.
Поскольку утвержденность равно отлична от существования и несуществования и равно первична в отношении их обоих, можно говорить и об «утвержденности в несуществовании»:
Он (Ездра. ― А. С.) спросил о судьбе, которая постигается только чрез откровение вещей в состоянии утвержденности их в несуществовании, ― а таковое не было ему даровано: посвящен в сие лишь Бог, и не может знать это никто, кроме Него, ибо первые ключи (я имею в виду «ключи сокрытого») известны одному Ему[151]. Однако может быть так, что в нечто из сего Бог посвятит из рабов Своих, кого пожелает [Ибн Араби 1993, с. 213][152].
Поскольку для Ибн ‘Араби несуществование предшествует существованию, а вещь утверждена в обоих состояниях и при этом утвержденность логически предшествует существованию, то
в существовании явилось только то, что было в несуществовании утверждено [Ибн Араби 1993, с. 209][153].
Это верно для различных «состояний», например, для состояния веры. Ибн ‘Араби говорит:
А в суре «Рассказы» к тому присовокупил: «И Он знает ведомых»[154], ― то есть тех, кто дал Ему знание, руководствуясь в состоянии несуществования своими утвержденными воплощенностями. Тем самым Он установил, что знание следует за познаваемым. А потому, кто является верующим в утвержденности своей воплощенности и состоянии несуществования, тот явится таким же и в состоянии существования [Ибн Араби 1993, с. 211][155].
Мы видели, что ас-Сухраварди с позиций аристотелизма рассматривает неправомочность термина «состояние», указывающего на универсалию, которая не может быть описана как обладающая идеальным бытием. Тексты Ибн ‘Араби демонстрируют пример разработки этого понятия как раз в таком направлении — в направлении осмысления его как указывающего на «утвержденность» универсалии, которая сохраняется как таковая и в состоянии ее несуществования, и в состоянии существования, но не тождественна ни одному из них. Несовпадение фундаментальных логик осмысления этих понятий здесь налицо, равно как оправданность обеих позиций, — постольку, поскольку каждая строится как осуществление собственных процедур смыслополагания[156].
Отметим теперь следующее: во всех рассмотренных цитатах речь идет об утвержденной «воплощенности». Словом «воплощенность» я передаю термин ‘айн. В обыденном языке это слово означает наличность, осязаемость, конкретность данной вещи. У Ибн ‘Араби оно также указывает на «саму вещь», хотя терминологически «воплощенность» (‘айн) отлична от «самости» (зат).
Попытаемся продумать смысловую наполненность этого понятия. Термин «воплощенность» употребляется в отношении любой вещи. Любая вещь обладает «утвержденной воплощенностью» (‘айн сабита), которая остается таковой и в состоянии несуществования, и в состоянии существования. Вместе с тем можно заметить различие между тем, как описывается «утвержденная воплощенность» в этих двух случаях. В состоянии несуществования она является «небытийными соотнесенностями» (нисаб ‘адамиййа), тогда как в состоянии существования обладает «формой» (сура). Так, Ибн ‘Араби говорит (в контексте обсуждения вопроса о знании судьбы):
Если и открывает Бог твари своей состояния утвержденной воплощенности ее, на коих покоится форма существования, тварь эта не может ознакомиться с тем, как ознакомлен Истинный с этими утвержденными воплощенностями в состоянии их несуществования, поскольку они — самостные соотнесенности, формы не имеющие [Ибн Араби 1993, с. 156].
Понятие «утвержденная воплощенность» прямо связано с понятием «возможное» (мумкин). Ибн ‘Араби вполне категоричен в вопросе о его оправданности:
Тот, кто знает подготовленность свою, знает, что приемлет, но не всякий, кто знает, что приемлет, знает и подготовленность свою: он может узнать ее уже после принятия, даже если и знал ее в целом. Некоторые из теоретиков, чей ум слаб, установив, что Бог все устрояет по Своему желанию, допустили говорить о Всевышнем противное мудрости и тому, каков на самом деле миропорядок. Так некоторые теоретики дошли до отрицания возможности (нафй ал-имкан), утверждая (исбат) лишь необходимость благодаря самости или благодаря иному. Познавший же истину утверждает возможность и знает уготованность ее; знает также о возможном (мумкин), что такое возможное и почему оно возможно, если само же оно необходимо посредством иного, и отчего правильно называть сие «иным», обусловившим необходимость его. Все эти подробности знают лишь избранные из знающих Бога [Ибн Араби 1993, с. 162].
Мы видели, что ас-Сухраварди с позиций нормативного аристотелизма критикует трактовку понятия мумкин «возможное» как мумкин сабит «утвержденное возможное». То, что говорит Ибн ‘Араби, можно расценивать так, как если бы это был его ответ ас-Сухраварди. Если исключить понятие «утвержденность» (или какой-либо его аналог — речь не о термине, а о логике смыслополагания) из осмысления понятия «возможное», то оно окажется просто излишним: пара понятий «необходимое благодаря самому себе» и «необходимое благодаря другому» будет в таком случае вполне достаточна для описания способов бытийствования. Действительное же значение это понятие, как мы видели и на примере Ибн Сины, приобретает лишь в пределах логики смысла, характерной для классической арабской культуры.
«Возможное» (мумкин) у Ибн ‘Араби оказывается понятием, синонимичным «утвержденной воплощенности». В только что разобранной цитате он говорит, что знание «подготовленности» предполагает знание «возможного», но такое знание чрезвычайно редко, поскольку, как говорит Ибн ‘Араби в другом месте,
подготовленность раба им не ощущается [Ибн Араби 1993, с. 156][157],
ибо требует знания утвержденной воплощенности в состоянии ее несуществования, а не тогда, когда на ней «покоится форма существования». Сопоставление этих двух контекстов показывает, что под «возможным» Ибн ‘Араби понимает «утвержденную воплощенность», причем преимущественно в состоянии несуществования; это же, кстати говоря, называется «подготовленностью» (исти‘дад), которой достаточно принять «форму существования», чтобы появиться как «форма», или, как иногда выражается Ибн ‘Араби, в «воплощенном существовании». Именно такое употребление понятия подтверждается следующим его высказыванием:
Далее, иная в сем вопросе, выше оной, тайна есть: возможные коренятся в несуществовании (‘ала ’асли-ха мин ал-‘адам), существование же — не что иное, как существование Бога в формах тех состояний, в коих находятся возможные в себе (фи анфуси-ха) и в воплощенностях своих, — так узнал ты, Кто наслаждается и Кто терпит муку и что следует за каждым из состояний — потому оно и названо возмездием и воздаянием [Ибн Араби 1993, с. 185].
Поэтому несуществование понимается как такое несуществование, за которым непременно следует существование; соположенность несуществования и существования и выражается термином «утвержденность». От этого термина (субут) даже может быть образовано относительное прилагательное субутийй, которое я не вижу возможности передать иначе, нежели словом «утвержденностный» и которое может служить атрибутом несуществования:
…потому, что мир любит свидетельствовать душу свою существующей (как свидетельствовал ее утвержденной), движение мира из утвержденностного несуществования (‘адам субутийй) к существованию — это во всех отношениях, и со стороны Бога, и с его стороны, движение любви [Ибн Араби 1993, с. 269].
Заметим, что у Ибн ‘Араби (как и у Ибн Сины) такое несуществование, способное сополагаться с существованием и имеющее смысл только в подобном соположении, противопоставляется несуществованию, которое в принципе не образует соположенность с существованием: первое называется у Ибн ‘Араби «утвержденностным несуществованием», у Ибн Сины «временным несуществованием» (‘адам заманийй), или, у обоих, просто «несуществованием», тогда как второе и тот и другой именуют «чистым несуществованием» (‘адам махд). Именно «чистое несуществование» у того и другого синонимично ла-вуджуд «не-существованию», так что отождествление ‘адам и ла-вуджуд, исходя из которого ас-Сухраварди, как мы видели выше, опровергает релевантность понятия «утвержденность», неверно по меньшей мере для этих представителей арабского перипатетизма и суфизма.
В «Мекканских откровениях» Ибн ‘Араби пространно рассуждает о понятии «возможное», иллюстрируя свои построения образами света (существование) и тьмы (несуществование). Стоит привести эти рассуждения во всей их полноте, поскольку они содержат немало интересных наблюдений не только относительно самого понятия «возможное», но и той связи, которая наблюдается между способом построения этого понятия и познанием обозначаемой им реальности, связывая тем самым вопрос о способе наличия вещи с вопросом о способе ее познания, в том числе и с вопросом о предикации.
Знай — да наставит тебя Бог в том, что даст тебе пребывание, и да введет тебя в число избранных, — что свет постигаем и что через него постигают [другое], а тьма постигаема, но через нее не постигают. Свет может быть столь велик, что будет постигаем, но не таков, чтобы чрез него постигать, и может быть столь тонок, что будет непостижим, но чрез него будут постигать. Постигающий всегда постигает благодаря некоему свету в нем, будь то разум или чувство. Его (да благословит и приветствует его Бог!) спросили: «Видел ли ты Господа твоего?» Он ответил: «Свет; как же видеть Его?»[158], предупредив тем самым о наивысшей близости. Ведь Он ближе к человеку, нежели его шейная жила[159], и «Мы ближе к нему, нежели вы, но этого не видите»[160], — так Бог кратко выражает это [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Интересно, что Ибн ‘Араби начинает рассуждение с истолкования двух ведущих образов, света и тьмы, в плане познания, а не существования. Впрочем, и второй план истолкования не заставит себя ждать:
Истинный — это чистый свет, а невозможное (мухал) — чистая тьма. Тьма никогда не превращается в свет, а свет никогда не превращается в тьму [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Здесь свет и тьма понимаются как «чистые», как, соответственно, необходимое благодаря себе сущее и как невозможное благодаря себе: невозможное благодаря себе никогда не «встречается» с существованием и несовместимо с ним. Но уже в следующей строке свет и тьма становятся символами таких существования и несуществования, которые сополагаются одно с другим:
Творение же — между светом и тьмой перешеек (барзах), не описываемый благодаря своей самости (ла йаттасиф ли-зати-хи) ни тьмой, ни светом. Он — перешеек и посредник (васат), определяемый с обеих своих сторон (ла-ху мин тарафай-хи хукм) [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Обратим внимание на принципиальный момент: Творение, то есть «возможное», «между», и при этом оно «не описывается само» ни как то, ни как другое из того, «между» чем оно расположено, хотя «определяемо» (хукм) и тем, и другим. «Быть определяемым» означает «принимать атрибут»: наличие «определяющего воздействия» (хукм) — это принятие атрибута от чего-то другого. Например, когда «возможное» (мумкин) принимает атрибут существования (и соответственно имеет хукм, то есть «определяющее воздействие», существования), оно становится ваджиб «необходимым», а принимая атрибут несуществования, оно становится ма‘дум «несуществующим»[161]. Заметим, что такое принятие атрибутов существования и несуществования проистекает не от самого «возможного», оно не определяется его «самостью» и, что самое главное и о чем пойдет речь ниже, превращает возможное в некий иной смысл, будь то «существующее» или «несуществующее». В отличие от этого, «самостный атрибут» (сифа фи аз-зат) — это то, что не может быть устранено и без чего данное нечто немыслимо. Для «возможного» это — не существование и несуществование как таковые, но тот факт, что у него имеются эти «две стороны», «между» которыми оно расположено и которые утверждены самой его самостью[162].
Принятие «воздействия» (хукм) означает превращение в действительный одного из тех двух смыслов, «между» которыми располагается возможное и на которые, пока рассматривается это возможное как таковое, ничто не указывает как на действительные. Я хочу обратить внимание на это обстоятельство, поскольку оно отражает суть конфигурирования смыслов в разбираемой логике смысла: говоря о том, что находится «между существованием и несуществованием», мы, имея в виду именно это «нечто», не считаем существование и несуществование действительными смыслами. Именно это обстоятельство выражено в рассуждении Ибн ‘Араби о различии между «описанием в самости» и «принятием воздействия», и именно это обстоятельство так сопротивляется нашему восприятию и мешает пониманию примера, с разбора которого я начал первую главу: названного нет, оно не имеется как таковое, пока мы говорим о том, что «между» этим названным; но оно может явиться как таковое, поскольку то, что «между», образовано слиянием и претворением этих двух смыслов, а значит, к этим смыслам возможен переход от того, что «между» ними.
Для того, чтобы какая-либо из этих «двух сторон» выявилась как таковая, требуется нечто дополнительное. Эта дополнительная процедура обозначается в арабской мысли термином тарджих «отдание предпочтения», или «обеспечение перевеса».
Сказанным определяется и тот принципиальный момент, что как только заходит речь о появлении одной из «двух сторон» «возможного» как действительного смысла — так то, на что было указано как на имеющееся «между» (то есть как на собственно «возможное»), превращается в другой смысл (а именно, в «существующее» или «несуществующее»), поскольку прежним смыслом оно не может оставаться в силу того, что одно из того, «между» чем оно имеется как смысл, стало действительным смыслом: тем, прежним, что было «между» двумя, этот смысл мог оставаться лишь постольку, поскольку ни одно из этих двух не было действительным, но было претворено в данном «между». Поэтому превращение одного из этих двух смыслов в действительный меняет и саму вещь, находящуюся и находимую нами «между» этими двумя: она теперь уже не «между» ними. Так «возможное» превращается в «необходимое», когда становится существующим, и в «невозможное», когда рассматривается как несуществующее.
Нетрудно заметить, что эти категориальные построения возможны только в пределах тех допущений относительно конфигурирования смыслов, которые определяются рассматриваемой логикой смысла.
Вот почему даны человеку два ока… — ведь он между двух путей [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Мы снова встречаемся с «между» как тем, что соединяет и претворяет соединенное, давая тем самым нечто новое. Быть «между двух путей» значит вовсе не то же самое, что «сидеть между двух стульев»: «между двух путей» указывает как на действительное на нечто третье, что самостоятельно по отношению к тому, между чем оно находится.
Одним оком своим с одного пути принимает (йакбал) он свет и взирает на оный в меру своей подготовленности, другим же оком с другого пути взирает на тьму и оказывается расположен к ней (йукбил ‘алай-ха). А в самом себе он — ни свет, ни тьма, так что он — ни существующий, ни несуществующий. Он — мощное препятствие, что не позволяет чистому свету рассеять тьму, а чистой тьме не дает устранить чистый свет [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Отметим, что человек воспринимает своей самостью те «две стороны», которые, как было сказано выше, не являются его атрибутами, но «определение» (хукм) которых он принимает. «Самость» оказывается образована между теми двумя смыслами, ни один из которых не является как таковой самой самостью, но которые оба релевантны для понимания ее смыслового строения. Здесь действует механизм смыслополагания, который я описывал в первой главе: указание на нечто, расположенное «между» двумя, не указывает ни на одно из того, «между» чем расположено данное нечто, но — на то, что соединяет и претворяет в себе их оба. Говоря о том, что располагается «между существованием и несуществованием», мы не указываем тем самым ни на существование, ни на несуществование как на то, что как будто бы ограничивает «возможное» и как будто бы в самом деле имеется, когда мы говорим о «возможном».
И вот, он самостью своей воспринимает[163] обе эти стороны, и благодаря этому восприятию стяжает свет, посредством коего описывается существованием, и благодаря этому восприятию стяжает тьму, посредством коей описывается несуществованием [Ибн Араби, т. 3, с. 274].
Так Ибн ‘Араби описывает переход возможного в существование и несуществование, которые надо стяжать (иктисаб), которых нет внутри него самого несмотря на то, что он — не что иное, как их «смешанность» и претворенность. Стяжая их, он и становится то необходимым, то невозможным.
И этим окрашено возможное с этих двух сторон. Если бы оно таким образом не сохраняло обе стороны, Бог бы не описывал Себя как предписавшего Самому Себе обязательное, сказав: «Господь ваш Сам Себе предначертал милость»[164], а также: «Милость Моя объемлет всякую вещь»[165], — награждая возможное за эту охрану [Ибн Араби, т. 3, с. 275].
Далее Ибн ‘Араби делает интересное наблюдение относительно того, каким образом существование и несуществование, смыслы второго уровня, могут предицироваться «возможному», смыслу первого уровня:
Возможное описывается и существованием и несуществованием вместе в утверждении (исбат), то есть — оно принимает и то и другое. Оно также, в силу того же, описывается в отрицании (нафй) тем, что оно ни существующее, ни несуществующее. Так оно соединило их обоих в своем описании между отрицанием и утверждением [Ибн Араби, т. 3, с. 275].
Термины «принимает» (йакбал) и «описывается» (йусаф) — собственные термины для описания проблематики предикации. Ибн ‘Араби говорит, что «возможное», смысл первого уровня, может иметь в качестве предиката оба смысла второго уровня. Но поскольку при этом он будет становиться, как говорилось выше, другим смыслом, закон исключенного третьего в его отрицательной формулировке не нарушается: не «возможное» как таковое является «и существующим, и несуществующим», но — «необходимое посредством другого» является «существующим», а «невозможное посредством другого» является «несуществующим». Вместе с тем «возможное» может не принимать ни один из них, оставаясь самим собой, — и потому закон исключенного третьего в его императивной формулировке в пределах этой логики смысла не действует. Это можно считать весьма показательным объяснением зависимости логических аксиом от процедур смыслополагания.
Итак, оно — хранящее и хранимое, предохраняющее и предохраняемое. Это определение ему сопутствует и за ним утверждено, оно не выходит за его пределы. Поэтому оно описывается также растерянностью между несуществованием и существованием (хира байна ал-‘адам ва ал-вуджуд), поскольку не переходит окончательно ни на одну сторону (ли-‘адам тахаллуси-хи ’ила ’ахад ат-тарафайн), ибо ему в его самости принадлежит это определение (ли-зати-хи кана ла-ху хаза ал-хукм).
фа-’ин култа хакк кана кавлу-ка садикан
ва-’ин култа фи-хи батил ласта такзиб
Если скажешь: «Это истина», твое высказывание будет правдивым,
А
если скажешь об этом: «Ложно», — то не обманешь
[Ибн Араби, т. 3, с. 275].
Весьма показательно, что термин хира «растерянность», который, вообще говоря, относится у Ибн ‘Араби к сфере описания познавательных процедур и обозначает собственно суфийский метод познания [см. Смирнов 1993, с. 72—95], применяется для описания способа наличествовать и быть представленным для познания. «Возможное», находящееся «между» существованием и несуществованием, описывается как «растерянное». Но это — не растерянность потерянности и отсутствия подлинного пути, какой могла бы быть растерянность человека, оказавшегося «между двух стульев»; эта «растерянность» означает «утвержденность» и самостоятельность.
Стихотворная строка заканчивает рассуждение Ибн ‘Араби не случайно. Ее можно рассматривать как ответ на вопрос, какому значению истинности («ложь» или «истина») отвечает суждение, правильно отражающее то положение о «возможном», которое сформулировано здесь. Как отмечалось выше, бинарная дихотомическая оппозиция «истина-ложь» не согласуется с той логикой смысла, в которой выстраивается конфигурация «утвержденность/существование-несуществование», и критика была совершенно права, указывая на это несоответствие между учением о вещи и учением о познании, в том числе и в части определения истинностных значений суждения. Ибн ‘Араби как будто исправляет эту ошибку предшественников и говорит, что «растерянное» рассуждение принимает — по ходу своего развития — оба значения, не будучи сводимо ни к одному из них. Оно, таким образом, не имеет фиксированного значения «истина» или «ложь», но благодаря какому-то третьему значению способно принять и то и другое. Такое принятие одного из знакомых нам значений «истинно» или «ложно» требует развития суждения — во вполне непосредственном смысле слова, как раз-вития, то есть разворачивания, а значит, перехода от одного к другому. Суть этого, пока туманно намечаемого, третьего значения истинности суждения и заключается в этой способности к переходу (от себя — к иному), способности к экспликации себя в двух противоположных и тем не менее не исключающих друг друга суждениях, которым и могут быть приписаны значения «истинно» и «ложно».
Именно в этом заключается суть суфийской гносеологии, центральное звено которой представлено учением о «растерянности» (хира) как пути познания и «растерянном» (ха’ир) знании как его результате. Такое знание представлено высказываниями, суть которых — в том, что они 1) эксплицируются как антиномии (например, «человек всемогущ»/«человек бессилен», «воля человека автономна»/«судьба человека полностью предопределена», «сущее определяет знание Бога о себе»/«Бог предвечно знает сущее» и т.п.) и 2) эти антиномии предполагают друг друга с необходимостью и только в соположении дают истину. Истина с этой точки зрения представлена не какой-либо из двух антиномий, и не ими двумя вместе как рядоположенными (в таком случае они просто образовывали бы противоречие, а закон исключенного третьего в его отрицательной формулировке нарушался бы), но таким их соположением, которое образует третье высказывание как слияние этих двух. Именно об этом говорит Ибн ‘Араби, неоднократно указывая на нефиксированность антиномий, на непременность смены одной антиномии другой: истина в том, что такая смена необходима. Нетрудно, кажется, видеть логико-смысловую обусловленность такого понимания способа формирования знания и его функционирования.
Приведем в заключение весьма интересное наблюдение Ибн ‘Араби, которое как нельзя лучше подчеркивает контраст двух пониманий «между»: релевантного для разбираемых смыслопостроений и не относящегося к ним.
Знание о возможном — это широкое море знания с громадными волнами, в котором тонут корабли. У этого моря нет берега иного, нежели две его стороны. Но о его двух сторонах нельзя воображать то, что умы, неспособные постичь это знание, воображают как правое и левое для того, что между ними. Нет, здесь не так [Ибн Араби, т. 3, с. 275].
В примере, который, по словам Ибн ‘Араби, является неверной иллюстрацией понимания «между», «правое» и «левое» ограничивают то, что «между ними», и существуют как действительные границы ограничиваемого ими одновременно с этим ограничиваемым; более того, действительное существование ограничиваемого зависит от действительного существования границ и невозможно без последнего. Именно так, если вернуться к примеру, с которого я начал это исследование, строилась «наша» интерпретация предсказания астролога о некоем месте «между огнем и водой». Но именно это представление и неверно: «две стороны» не отграничивают «море возможного» от чего-то другого и не составляют два независимо и действительно существующих элемента, но образуют это «море» благодаря своему слиянию, претворяющему их обоих. В данном случае сама традиция дает свидетельство контраста двух возможных пониманий процедуры смыслополагания.
Подведем итог. Понятие «утвержденность» у Ибн ‘Араби безусловно релевантно, и строится оно по той логике смысла, которая составила основу смыслополагания в классической арабской культуре. Кажется нелишним еще раз подчеркнуть: дело заключается не в «содержании» данного понятия, а в том, что содержание это формируется на основе определенной процедуры смыслополагания, которая — теперь, завершив анализ понимания конфигурации «утвержденность/существование-несуществование» в арабской философской мысли, можем сказать это с уверенностью — демонстрирует устойчивость на протяжении всего периода творческого развития этой традиции. Различия между направлениями и школами арабской философии в понимании содержания этих терминов сводятся к различиям в толковании данной конфигурации. Сама возможность таких различных толкований предоставлена логикой смысла, и они могут быть поняты исходя из нее, — но не могут быть адекватно прочитаны без учета фундаментального значения процедур смыслополагания для формирования смысловой содержательности.
1.8. Логика смысла, язык и мышление
Когда ас-Сухраварди формулировал аристотелианскую позицию, исходя из которой опровергал оправданность понятия «утвержденность», для него в качестве принципиальных фигурировали два тезиса: «существование» (вуджуд) служит первоосновным понятием, которое, во-первых, равно налагается на все, а во-вторых, само наиболее явно и определяет прочее, но не определяется и не описывается ничем другим; «существование» (вуджуд) строго дихотомично своему отрицанию, а потому оба термина, выражающие противоположность существованию, а именно ‘адам «несуществование» и ла-вуджуд «не-существование», тождественны. И дело, конечно, не в том, что именно ас-Сухраварди формулирует эти тезисы. Они сами по себе, совершенно независимо от формулировки или неформулировки их Шейхом озарения, выражают логику того понимания существования, которое характерно для античной и, в общем и целом, западной традиции.
1.8.1. Язык и мышление: ложное представление о прямой взаимообусловленности
Это позволяет обратиться к проблеме, тесно связанной с предметом данного исследования. В свое время активно обсуждалась тема зависимости мышления, в том числе и философского, от языка. Этот вопрос был поставлен и в таком аспекте: насколько конкретным языком, в том числе арабским, предопределено то или иное понимание проблемы бытия в философии? Интересно, что высказывалось мнение о том, что пишущие на арабском языке авторы просто не могли не выработать концепцию различения сущности и существования, — ту самую концепцию, которая была рассмотрена, которая опирается на понятие «возможность» (имкан), создателями которой традиционно считают ал-Фараби и Ибн Сину и которую, в частности, столь активно критиковал Фома Аквинский. Подобное мнение высказал, например, А. Грэм [см. Грэм], считавший, что это учение — не достижение философской мысли, а как будто простая реализация тех возможных — и, с другой стороны, неизбежных — ходов мышления, которые изначально предполагаются арабским языком. Это мнение интересно не только тем, как оно трактует конкретные факты развития арабской философской мысли, но и своими импликациями для понимания связи языка и мышления.
В Главе I уже упоминалась гипотеза Сепира-Уорфа и отношение к ней логико-смысловой теории. Теперь можно углубить намеченные представления и перености их на почву философского, а не обыденного, мышления.
Эта гипотеза, если рассматривать ее вкупе со всеми следствиями и построениями, выполненными на ее основе, в том числе и относительно связки «быть» и понимания «бытия» в культурах, использующих разные языки, выступает в своем последовательном выражении как будто в той роли, на которую заявляет свои права логико-смысловая теория. Ведь защитники взгляда о взаимообусловленности языка и мышления утверждают, что структура языка составляет непреодолимый фактор в формировании содержания доктрин, которые формулируются на данном языке, в частности, доктрин, трактующих понятия бытия и связки. Именно к этому сводится и мысль А. Грэма. Не будем обсуждать сомнения в оправданности этого крайнего взгляда, которые высказывают некоторые исследователи этой проблематики. Важно, что такая позиция может быть сформулирована и в самом деле была высказана. Поэтому необходимо ответить на вопрос: действительно ли логико-смысловая теория говорит то же, что названная гипотеза и ее варианты? Представляет ли она собой в самом деле нечто самостоятельное, или это — только плохо выполненная копия со старых идей лингвистов-культурологов?
Сомнение, выраженное в этих вопросах, представляется достаточно сильным для того, чтобы посвятить ему отдельное рассуждение, а сама возможность, а точнее, склонность многих к тому, чтобы проинтерпретировать новое (логико-смысловая теория) в терминах старого (связь языка и мышления) — достаточно большой опасностью, угрожающей правильному пониманию высказанных здесь идей относительно логики смысла, чтобы отнестись к ней вполне серьезно. Вместе с тем, как только понято то главное, что составляет суть логико-смысловой теории, ответ на подобные сомнения уже не составляет труда. Если я отложил обсуждение этого вопроса до настоящего момента, а не провел его в начале исследования, то лишь потому, что теперь накопилось достаточно фактического материала, касающегося средневековой арабской философской традиции, чтобы проиллюстрировать чисто теоретические доводы и поставить их на почву истории реального мышления.
Уже в первой главе вдумчивый читатель мог заметить очевидную вещь: та или иная логика смысла (в этой книге, повторю, речь здесь идет о двух ее вариантах) совершенно не зависит от конкретной «словесной материи», к пониманию которой она прикладывается. Иначе говоря, одна и та же логика смысла может быть приложена к словесным конструкциям на двух или более разных языках, и, наоборот, в понимании одной и той же словесной структуры одного языка могут быть применены разные логики смысла, так что результаты понимания этой словесной структуры в разных логиках смысла по меньшей мере могут демонстрировать устойчивую разницу. На данной идее, собственно, и построена вся первая глава: выявление контраста пониманий было бы изначально невозможным, если бы речь не шла об одном и том же словесном материале. В самом деле, на примере обыденного языка мы видели, что одна и та же фраза или словесная конструкция может быть понята в разных логиках смысла по-разному и дать разный содержательный результат. Уже из этого можно сделать ясный вывод о том, что разные логики смысла могут применяться к одному и тому же словесному материалу, выраженному, естественно, на одном языке, из чего недвусмысленно вытекает независимость логики смысла от конкретной языковой материи. Логико-смысловые факторы, иначе говоря, — вовсе не языковые факторы, и смешивать их было бы принципиальной ошибкой. Тут и там в первой главе, сравнивая эти два ряда, я неизменно отмечал, что логика смысла фундаментальнее языка, она как бы предшествует языковому оформлению смысловых единиц (если речь идет об их возникновении) и, следовательно, лежит в основании их понимания (обратного процесса наделения чужой речи смыслом). Именно в этом состоит основание как разведения логики смысла и языка, так и того факта, что разные логики смысла могут применяться для понимания одного и того же текста.
Лишь основываясь на внешней видимости, можно позволить себе смешивать это положение с другим, также выдвигаемым и защищаемым в этой работе. Оно состоит в том, что в своем реальном историческом развитии те или иные культуры по меньшей мере в определенные эпохи формируют свой способ осмысления мира на основании одной определенной логики смысла. Естественно, что этот способ мироосмысления находит свое выражение в определенном языке и создаваемых на нем текстах, однако это совершенно не означает, что он предопределен самим этим языком: такая констатация игнорировала бы особенности и свойства логико-смысловых факторов.
Далее, если такова действительность, это совершенно не мешает нам в теории, «в лабораторных условиях», поступить ровно противоположным образом и построить понимание одного и того же текста на одном и том же языке с применением разных логик смысла и получить разные результаты. Демонстрации такой возможности на различных примерах и была посвящена, как уже говорилось, Глава I. Однако дело обстоит таким образом, что это не просто теоретическая возможность. Результаты такого «лабораторного эксперимента» реально воспроизводятся в контактах, будь то очных или заочных, между культурами, опирающимися на разные логики смысла (а не на разные языки: такое условие может выполняться, но не является обязательным). Взаимные контакты культур, взаимное понимание будут непременно искажены неучетом логико-смысловых факторов, обусловливающих вкладываемое в словесную структуру содержание, — точно в такой степени, в какой это искажение продемонстрировано в воспроизводимых «лабораторных условиях». Что здесь важно, во всех этих случаях проблемы взаимного понимания не имеют никакого отношения к конкретности языка и его особенностям, поскольку обусловлены не ими. Хотя они могут находить выражение в тех или иных особенностях языков, такая выраженность не составляет непременного условия для их действия.
Если это верно для обыденного языка, то не менее верно и для философского мышления. Изложенный в Главе II материал позволяет сделать недвусмысленный вывод: на арабском языке могут быть с равным успехом сформулированы как выработанные античностью теории бытия, так и собственные положения об утвержденности, существовании, несуществовании, связке. Как показывают тексты ас-Сухраварди, не просто один и тот же язык, но и один и тот же мыслитель, пишущий на одном и том же языке, может при желании выражать оба взгляда: ни в конкретном языке, ни в том факте, что данная культура, а значит, и тексты на данном языке обычно опираются в формировании своей содержательности на определенную логику смысла, не заключено ничего, что служило бы абсолютным и принципиальным препятствием к восприятию или использованию другой логики смысла.
Что иная логика смысла и выстроенные на ее основе философские учения могут быть воспроизведены в условиях иной культуры и иной логики смысла, не является, таким образом, чем-то необычным или сбивающим с толку. Другое дело, насколько плодотворным именно для данной культуры, построенной на данной логике смысла, будет такое воспроизведение, в том числе и в части философского мышления; иначе говоря, насколько такое воспроизведение будет содействовать естественному развитию философского мышления, каковое опиралось бы на собственную логику смысла и в соответствии с ней видело бы философские проблемы. Априори, исходя из чисто теоретических соображений, нетрудно понять, что только «родная» для данной культуры логика смысла создает благоприятные условия для естественного смыслоформирования в мышлении, в том числе и в философском. Подтверждение этому тезису дал анализ развития арабской философской традиции, того, что касается самой сути философского осмысления мира и что принято с определенного времени в западной традиции именовать «онтологией». Теперь, кстати, становится более понятной та осторожность, с которой я подходил к использованию этого термина для характеристики классического арабского философского мышления. Ведь там, где «бытие» не является наиболее общей категорией мышления, характеризующей модус наличия вещи для нас, там, где связкой не выступает соответствующее такому «бытию» «быть» (а значит, иначе устроена и предикация, и теория познания), — там вряд ли можно вести речь об «онтологии», скорее следует говорить об «учении об утвержденности». Только в таком случае наше обозначение инокультурных философских дисциплин, учитывающее их логико-смысловое строение, имеет шанс соответствовать их сути.
Такое понимание соотношения логики смысла, языка и мышления позволяет увидеть, почему попытки найти строгую взаимосвязь языковых факторов и результатов мышления, выраженных на том или ином языке, потерпели неудачу. Прямая связь между языком и мышлением не может быть установлена потому, что и тому и другому предшествует (речь, конечно же, о логическом предшествовании) логика смысла. Поскольку это она, а не конкретный язык, определяет, каким будет мышление, установление такой прямой и строгой взаимосвязи между языком и мышлением невозможно в силу того, что логика смысла может продолжать действовать, несмотря на смену языка, и, наоборот, можно при желании мыслить в разных логиках смысла на одном и том же языке (при этом разные логики смысла оказываются распределены по разным текстам, естественно). С другой стороны, не вовсе необоснованной оказывается и позиция защитников тезиса о связи языка и мышления, поскольку в реальной истории культур, как правило, в конкретном языке действительно устойчиво находит свое отражение та одна логика смысла, которая характерна и как будто «естественна» для данной культуры. Эти-то логико-смысловые факторы в их конкретно-языковом воплощении и улавливают ученые, но, не вскрывая их подлинной природы, остаются в плену ложного тезиса об их языковой обусловленности; такой тезис их противникам, конечно же, не составляет большого труда опровергнуть на конкретных примерах.
1.8.2. Что и как видят друг в друге философские традиции, построенные на разных логиках смысла
Сказанное предоставляет удобную возможность развить рассуждение, поставив такой вопрос: что увидит традиция философского мышления, построенная на одной логике смысла, в философской традиции, которая опирается на другую логику смысла и выстраивает себя на ее основе, хотя вместе с тем способна (как любая культура способна к этому в принципе) воспроизвести рассуждения, созданные на основании другой логики смысла, и (в силу определенных исторических условий) реально делала это? Ответ не заставит себя ждать: в инокультурной (изучаемой) традиции будут совершенно отчетливо увидены те построения, что согласуются с логикой смысла, «родной» для данной (изучающей) культуры и ее философской традиции. Содержание, сформированное согласно «своей» логике смысла, будет очень легко вычитываться в текстах другой традиции, тогда как содержание, сформированное согласно другой логике смысла (но являющейся «естественной» уже для этой, инокультурной традиции), будет теряться, представляясь расплывчатым, странно не совпадающим с привычными очертаниями даже жанрового членения философии, не говоря уже о конкретном содержании тех или иных философских дисциплин.
Не с таким ли именно случаем мы имеем дело в конкретных арабистических историко-философских исследованиях, когда разные ученые так и не могут решить, относить ли, например, калам к «теологии» или все же к «философии», — и это при том, что о теологии в строгом смысле слова в исламе, не знающем догматики, говорить по меньшей мере проблематично? Это только один пример, но то же относится и к другим течениям средневековой арабской философии: при всех оговорках, «подлинно» философскими в арабской мысли до сих пор признаются только те рассуждения, которые ведутся в арабском перипатетизме, да и то не все, а лишь те, что прямо соотносятся с аристотелевским или неоплатоническим наследием. Что это, как не пример прямого вчитывания своей логики смысла в инокультурную философскую традицию? Ведь если отказаться от диктата такой привычки, совсем нетрудно будет увидеть имманентные собственно арабской традиции основания отнесения по меньшей мере пяти течений мысли к философским. Это было сделано мной в других работах[166], поэтому нет необходимости повторять здесь сказанное; отмечу лишь, что такие основания могут быть гораздо легче увидены, сформулированы и поняты при учете логико-смысловой обусловленности мышления, в том числе и философского.
Если же выходить за рамки собственно арабской философской традиции, то разве такое вчитывание собственной логики смысла в инокультурную философскую традицию (обычно происходящее, повторю, бессознательно и незаметно для самого теоретика) не происходит там, где, как выражается Ж. Деррида, мы заранее знаем, что «мы понимаем под словом философия» (см. Главу I), и пытаемся разглядеть это в иной культуре? И не будет ли сравнительное исследование, не учитывающее логико-смысловых факторов, обречено на то, чтобы вечно навязывать инокультурной[167] философской традиции неадекватное ей видение ответа на самый главный для философов и как будто вечно неразрешимый вопрос «что такое философия»?
§ 2. Конфигурация «действие/действующее-претерпевающее»
Говоря о понимании единства в той логике смысла, о которой здесь речь, я неоднократно отмечал ту его особенность, что единство полагает свою множественность вне, а не внутри себя, будучи при этом само не чем иным, как той областью совпадения образующих множественность соположенных смыслов, которая образует новый смысл. Таким образом (и это также неоднократно отмечалось), понимание проблематики единства обусловлено логико-смысловыми факторами. Более того, поскольку «единство» и «множественность» относятся к числу тех понятий, которые я называю процедурными (то есть понятий, прямо отражающих, или, если угодно, воплощающих процедуру смыслополагания в тех или иных ее аспектах), понимание единства и его соотношения с множественностью оказывается определено логикой смысла настолько тесно, что разработку проблематики единства можно воспринимать как опосредованное описание процедур смыслополагания в некоторых их аспектах или, по меньшей мере, как указание на такие аспекты.
Теперь пришло время более непосредственно обратиться к примерам разработки этой проблематики единства. Я сделаю это, перейдя в то же время к рассмотрению конфигурации «действие/действующее-претерпевающее». Это не значит, что для проблематики единства имеет значение только эта конфигурация или что эта конфигурация важна только для понимания проблематики единства. Эти два шага, рассмотрение единства и анализ конфигурации «действие/действующее-претерпевающее», если и совпадают здесь, то не в силу того, что одно сводится к другому: их можно было предпринять и раздельно. В то же время эти два аспекта, конечно же, взаимосвязаны, и характер этой связи будет представлять для нас интерес.
Безусловно, тот факт, что «действие» соотносимо со своим «действователем» и тем, что «претерпевает» действие, не является открытием арабской мысли, а внимание к нему еще не составляет ее характерную черту. Соображений в пользу того, что это наблюдение не более чем общее место, слишком много, чтобы их можно было исчерпывающе упомянуть, и они слишком очевидны, чтобы такое упоминание было необходимым. Достаточно сказать, что «действующее» и «претерпевающее» входят в число известных десяти аристотелевских категорий или что «мыслить себя», то есть быть мыслящим и мыслимым, составляет характерную черту Ума у Плотина (говорю именно об этом ввиду знакомства классической арабской культуры с аристотелизмом и неоплатонизмом). Рассмотрим употребление понятий «действие», «действующее», «претерпевающее» в классической арабской мысли, чтобы решить, составляют ли эти три понятия конфигурацию, которая строится по правилам разбираемой логики смысла, или их употребление мало отличается от того, что можно встретить в других культурах мысли.
2.1. Языковое оформление и понятийная роль категорий «действие», «действующее», «претерпевающее»
Начнем с того, что попытаемся определить соответствующие арабские категории.
Как должно быть известно всем, кто изучал арабский язык, классическая парадигма словообразования для глагола состоит из пяти элементов: двух личных форм настояще-будущего и прошедшего времени, «имени действователя» (’исм фа‘ил), «имени претерпевающего» (’исм маф‘ул) и «масдара» (масдар)[168], например, «[по]знаю», «[по]знал», «[по]знающий»[169], «[по]зна[ва]емое», «[по]знание». В качестве собственно «глагола» (фи‘л) в этом ряду выступают только первые два члена, тогда как оставшиеся три относятся, согласно определению частей речи в классической арабской филологии, к «именам»: признаком глагола является указание на время, тогда как имена такого указания лишены. Эти три имени — масдар, имя действователя, имя претерпевающего — входят, повторяю, в словообразовательную парадигму любого глагола и могут быть образованы от любого из них. Хотя некоторые формы не употребляются или употребляются крайне редко (это касается, например, формы «имени претерпевающего», то есть страдательного причастия, для возвратных глаголов, которая оказывается излишней по смыслу), в принципе все глагольные формы входят в лексический состав языка и, более того, образуют весьма значительную его часть. И напротив, упоминание любой из них как бы активизирует в сознании и все прочие в силу их непосредственной, а главное, алгоритмической связанности. При этом стоит обратить внимание на то, что масдар выступает в качестве своего рода начала этой парадигмы образования глагольных форм, что подчеркивается и этимологией этого термина: масдар означает «источник», место, откуда что-то черпается или берет начало. Правда, это замечание требует двух оговорок. Во-первых, далеко не все арабские грамматики признавали масдар истоком всех глагольных форм, считая, что этимология термина не должна приниматься в расчет[170]. Во-вторых, процесс словообразования (иштикак) мыслится арабскими грамматиками не как образование различных словесных форм из какого-то единого начала, которое как таковое может быть или не быть словом, как, например, могло бы мыслиться образование слов «домовой» и «домашний» от корня «дом», а как процесс, в котором для разных групп слов любое слово из некой группы может быть понято как образующееся от любого другого той же группы, а общность корня внутри такой группы слов оказывается функцией возможности словообразования (об этом уже шла речь выше). Поэтому, если и можно говорить о масдаре как источнике всех глагольных форм, то не в абсолютном смысле, а учитывая эти две оговорки.
«Масдар», «имя действователя» и «имя претерпевающего» и выступают в качестве обозначений для «действия», «действующего» и «претерпевающего». При этом для арабского языкового сознания многие категории, которые для нас могут иметь статус субстанции, как, например, «знание», или качества, как, например, «могущество», оказываются не чем иным, как масдарами, то есть действиями. «Знание» (‘илм), как оно выражено в арабском языке, не является чем-то иным, нежели «познание» или «знать» и «познавать»: дело не обстоит так, что ‘илм является какой-то одной из этих категорий и не является прочими или противопоставляется прочим. Еще менее мне хотелось бы быть понятым в том духе, что арабское языковое сознание «не разделяет» эти категории, что они для него существуют «в слитом виде» и т.п. Подобные квалификации, которые нередко дают инокультурным феноменам, всегда в качестве неявной, но необходимой предпосылки предполагают тезис о принципиальной смысловой соизмеримости разных культур мысли, как если бы было совершенно очевидно, что, например, ‘илм можно понять через категории «субстанция», «процесс», «действие», «результат», т.д., как если бы универсальная применимость таких категорий была безусловно установленным фактом и совершенной очевидностью, как если бы эти категории были чистой априорной формой, настолько абстрактной, что она пригодна для оценки любого смыслового содержания. Но в том-то и дело, что если и существуют абсолютно универсальные формы, не несущие на себе, а точнее, в себе, внутри себя, всех признаков уже определенного способа формирования смысла, то они, конечно, не таковы, как перечисленные, причем не таковы не содержательно, но в самом способе своего построения. Ведь очевидно, что «субстанция», «процесс», «действие» и т.д. не могут не быть определенными смысловыми содержаниями, которые как таковые созданы согласно определенной логике смысла, так что совершенно неочевидно, что они априори пригодны для того, чтобы служить формой для содержаний, созданных согласно иной логике смысла. И уж тем более для того, чтобы выносить суждения, которые, хотим мы того или нет, неизбежно проникнуты оценочным подходом: ведь утверждение о том, что арабское ‘илм «не разделяет» или «сливает» процессуальность познания и субстанциальность знания, исходит из того, что такие «процессуальность» и «субстанциальность» безусловно и всегда могут быть выделяемы и разделяемы; а значит, даже если это не говорится прямо, неосуществление этого разделения свидетельствует по меньшей мере об упущенных возможностях увидеть что-то, что выясняется только при таком условии. Если я считаю, что такие оценки неверны по самому своему существу, то вовсе не из стремления соблюсти верность идеологии политической корректности, навязчивость которой уже давно соперничает только с ее лицемерием, а оттого, что сомневаюсь в оправданности допущений, которые они скрыто вводят.
Как избежать этой искажающей априорной предзаданности? Когда речь шла о таких категориях, как «единство», «тождество» (совпадение с самим собой), «существовать» и т.п., и их понимании в той или иной культуре, я всякий раз обращал внимание на ту их выстроенность, которую назвал процедурной обусловленностью. Именно эту внутреннюю сложность подобных категорий и упускает из виду подход, считающий возможным некритически оперировать ими, как если бы они были хирургическими инструментами, пригодными для анатомирования любого смысла. Но это скорее — цветные очки, окрашивающие воспринимаемое сквозь них в свой цвет, и если глаз, привыкший к нему, уже не видит этой окрашенности, это еще не значит, что она отсутствует. И если мы не можем вовсе избавиться от этой примеси цвета, то могли бы по меньшей мере научиться ее замечать. Именно для этого я и обращаю внимание на процедурную обусловленность таких категорий, как единство, множественность, противоположность, равенство, — обусловленность, предшествующую их содержательной определенности и составляющую основу и возможность последней.
Так и в данном случае — я описываю языковые средства выражения категорий «действие», «действующий», «претерпевающее» для того, чтобы подготовить рассмотрение процедурной обусловленности этих смыслов. Если я при этом соотношу изложение с теми языковыми реалиями, в которых мы привыкли видеть воплощение этих же категорий, то вовсе не для того, чтобы ввести некую абсолютную точку отсчета, а лишь, во-первых, ради разъяснения определенных фактов, касающихся арабского языка, которые могут оказаться неизвестными читателю, а во-вторых, чтобы ввести контрастный фон, на котором проще высветить особенности рассматриваемых процедур смыслополагания, да и вообще заметить их наличие.
Итак, для арабского языкового сознания в разряд «действия» попадает многое из того, в чем мы привыкли видеть субстанциальные, качественные или иные признаки. Это не значит, что для этого сознания вовсе не существует понятия «субстанция»; это значит, что соотношение между видением субстанциальности и видением действенности для этого языкового сознания иное, нежели для нас. Многие проблемы, которые видятся нам в субстанциальном ключе, для арабской философской мысли предстают как проблемы, строящиеся вокруг обсуждения действия и его внутреннего строения. К числу таких проблем относится и проблема единства и его соотношения с множественностью.
2.2. Калам: вопрос о единстве и множественности
2.2.1. Позиция мутазилитов (1)
Вопрос о том, как единство может оказаться непротиворечащим множественности, был поднят арабской мыслью довольно рано. Его вполне можно отнести к числу проблем, осознание и обсуждение которых начало формировать арабскую философскую традицию.
Вопрос о соотношении единства и множественности встал тогда, когда было осознано, что упоминание многочисленных «имен Бога» плохо совместимо с утверждением его единства (вахда). В то же время последнее является без преувеличения стержнем исламского сознания, которое в «утверждении единства» (тавхид) видит главный признак, отличающий его от заблуждающихся «людей Писания» и, главное, многобожников и неверующих, а в нарушении этого принципа полагает основную угрозу собственным устоям. Поэтому вопрос о том, как понимать многочисленность божественных имен в свете безусловной необходимости сохранить утверждение о единстве Бога, был одним из наиболее важных для первых арабских философов.
Выше уже упоминались понятия «истина» (хакика) и «иносказание» (маджаз), которыми оперирует арабская филология, описывая прямое и переносное употребление слова[171]. Безусловно, и при обсуждении божественных имен мог быть применен прием приписывания им «иносказательного» статуса, и тогда самой проблемы соотношения единства и множественности просто не возникло бы, поскольку подобная проблема может стоять, только если множественность божественных имен действительна, то есть если сами имена понимаются «истинно», а не «иносказательно». Что мутазилитов не остановила бы вероятность сомнительных — с точки зрения религиозного благочестия — толкований такой позиции, свидетельствует известная скандальность их позиций в вопросах, касающихся толкования статуса Корана, сотворенности ада и рая и т.п. Да и, собственно, для некоторых божественных атрибутов, таких, как «рука» и т.п., они в самом деле предложили иносказательную трактовку (перетолковывая их как «милость», «благодать», т.д.).
Но дело в том, что для целого ряда божественных имен предпочтительнее оказалась именно «истинностное», а не «иносказательное» их понимание. Это прежде всего имена «знающий» (‘алим), «волящий» (мурид), «могущественный» (кадир). Они описывают ту область, которую можно назвать областью связи Бога и мира. Метафорическая их трактовка означала бы и признание неистинности такого описания. Поскольку мутазилиты стремились к рациональному продумыванию отношения Бог-мир, потребность в истолковывании «истинного» смысла этих имен была внутренней потребностью их мысли. Этим и объясняется внимание, которое уделено в раннем каламе этому вопросу. Описание того, каким образом Бог знает вещи, каким образом их желает и каким образом могуществен в отношении их (то есть способен их сотворить), фактически исчерпывает философскую проблематику отношения начала мира к самому миру. Поскольку Бог безусловно един, тогда как мир множествен, суть проблемы единство-множественность, которая возникает в данном случае, сводится к тому, не оказывается ли единство каким-то образом множественным благодаря этой связанности с множественностью мира.
Сначала зафиксируем позицию, которой, согласно ал-Аш‘ари, придерживалось большинство мутазилитов (а также представителей других ранних исламских сект), признававших действительность названных атрибутов:
Те мутазилиты, которые говорили, что Бог непрестанно знающий, могущественный и живой, разошлись в вопросе о том, является ли Он знающим, могущественным и живым благодаря Самому Себе или благодаря знанию, могуществу и жизни, и каков смысл высказываний «знающий», «могущественный», «живой». Большинство мутазилитов и хариджитов, многие мурджииты и некоторые зейдиты говорили, что Бог знающий, могущественный и живой благодаря Самому Себе, не благодаря знанию, могуществу и жизни. Они говорили, что у Бога имеется знание в том смысле, что Он — знающий, и что у Него могущество в том смысле, что Он — могущественный [Ашари, с. 164—165].
В этом отрывке не назван атрибут «волящий», что объясняется не отсутствием внимания к нему, но лишь его выпадением из именно данной цитаты; как увидим ниже, он рассматривается, как правило, вкупе с атрибутами «знающий» и «могущественный». Атрибут «живой» назван в ряду первостепенных не в силу его важности для определения отношения Бог-мир, но в силу представления о том, что действующим может быть только живое, тогда как мертвое лишено способности воздействия, — а «знающий» и «могущественный» являются именно «именами действователя» (=действительными причастиями). Как таковые, они — в силу парадигматической словообразовательной связи — вызывают представление о масдаре и имени претерпевающего, которые самим языковым мышлением оказываются подготовленными к тому, чтобы участвовать в осмыслении друг друга и все вместе — того вопроса, который описывается через них.
Заявленная позиция, отражающая мнение большинства мутазилитов, содержит два тезиса. Во-первых, важнейшим — после утверждения о действительности атрибутов Бога — вопросом оказывается вопрос о том, благодаря ли «себе» (нафс, или зат — два термина употребляются у мутазилитов как синонимы, по крайней мере в данном контексте) Бог является «знающим» или благодаря «знанию»; большинство признавало правильным первый ответ. И во-вторых, это утверждение о том, что в таком случае наличие «знания» у Бога будет означать, что он — «знающий».
2.2.2. Логико-смысловые основания философской дискуссии
Почему «знающий благодаря Самому Себе» и «знающий благодаря знанию» оказываются для наших мыслителей двумя принципиально разными смысловыми конструкциями? На первый взгляд, дело заключается в том, что в первом случае атрибут «знание» отрицается. Это наблюдение, лежащее на поверхности текста, и породило, как представляется, весьма распространенную трактовку мутазилитской позиции в вопросе о божественных атрибутах как «отрицательной теологии». Однако нетрудно заметить, что на самом деле рассматриваемое утверждение вовсе не отрицает «знание». Об этом ясно свидетельствует вторая половина процитированного отрывка. Ведь именно мутазилиты, говорившие, что Бог «знающий благодаря Самому Себе», утверждали, что «у Бога имеется знание в том смысле, что Он — знающий». Впрочем, и те, кто считал, что Бог «знающий благодаря знанию», говорили о том, что Бог — «знающий». Действительная разница между двумя позициями заключается не в отрицании или признании «знания» и не в признании того, что Бог «знающий», а в указании на то, благодаря чему он является «знающим»: имеет ли «знание» какое-то отношение к этому «благодаря» или нет.
2.2.2.1. Проблема предикации
Но что, собственно, означает такая постановка проблемы? Если, к примеру, «человек» является «живым разумным», то не потому ли, что обладает «жизнью» и «разумом», так что включенность понятия «разум» в понятие «человек» и делает возможным высказывание «человек есть разумный»? Но в нашем случае под «благодаря» подразумевается не такое включение одного понятия в другое. А кроме того, разбирая фразу «Бог знающий благодаря Самому Себе» (или «Бог знающий благодаря знанию»), следует помнить, что связкой в них не служит «быть». Коль скоро связкой, говорилось выше, служит утверждающее хува «он», то не следует ли сказать, что фраза «Бог знающий благодаря Самому Себе» означает не что иное, как утвержденность атрибута «знающий» за Богом, а ее отличие от фразы «Бог знающий благодаря знанию» состоит в указании на то, что именно утверждает этот атрибут за Богом?
2.2.2.2. Интерпретация с точки зрения строения логико-смысловой конфигурации
Особенностью отношения утвержденности в той логике смысла, о которой здесь идет речь, является тот факт, что оно связывает смысл первого уровня с парой смыслов второго уровня, причем смысл первого уровня является не чем иным, как соположенностью пары смыслов второго уровня. В этой соположенности он и утверждается, и как таковой оказывается внеположен каждому из смыслов второго уровня. К этому общему положению теперь можно добавить следующее. «Действие», «действующее» и «претерпевающее» конфигурируются именно так, как то предполагается данной логикой смысла. «Действие» оказывается смыслом первого уровня, тогда как «действующее» и «претерпевающее» — смыслами второго уровня, сополагающимися так, что на области их частичного совпадения образуется новый смысл — «действие». Если это так, то категории «действие» и «действователь» оказываются принципиально не одним и тем же. Далее, категориальное деление устроено не таким образом, что действие вместе с действователем, с одной стороны, противопоставляется претерпеванию вкупе с претерпевающим, с другой, когда бы дихотомия «действие-претерпевание» была не более чем иным выражением для дихотомии «действователь-претерпевающее». Здесь не так. Здесь «действие» утверждает пару «действователь-претерпевающее», которая, в свою очередь, в своей соположенности утверждает «действие».
С этой точки зрения «знающий благодаря Самому Себе» и «знающий благодаря знанию» оказываются действительно существенно различными смысловыми конструкциями. Если эти фразы выстроены согласно разбираемой логике смысла, то «знающий» в обоих случаях является внеположным и «знанию», и «Самости» Бога. Поэтому «знающий благодаря знанию» является не тавтологией (когда бы «знающий» мыслился как «знающий» именно из-за «знания», которое включено в само понятие «знающий»), а указанием на то, что «знающий» (вкупе с «познаваемым» — разговор о претерпевающем у нас впереди) утверждается именно «знанием». Те, кто придерживался этой позиции, как будто следовали самой логике языка и предполагаемого им сочетания понятий. Но их противники, говорившие, что Бог «знающий благодаря Самому Себе», лишь ставили в той же самой логико-смысловой конфигурации «Самость» на место смысла первого уровня и говорили, что именно «Самость» утверждает смысл «знающий». Обе позиции сформулированы исходя из одних и тех же представлений о конфигурировании смыслов и различаются именно так, как то возможно в пределах данной логико-смысловой конфигурации.
2.2.3. Суть философской дискуссии с точки зрения логики смысла
Но что же достигают формулировкой своего тезиса те, кто говорит, что «знающий» утверждается «Самостью», а не «знанием»? Коль скоро речь идет о действительных (а не истолковываемых иносказательно) атрибутах Бога, то «знание» следует понимать как нечто отличное от, например, «могущества», и то же самое придется сказать о любом подобном атрибуте. В таком случае окажется, что «знающий» и «могущественный» утверждены чем-то разным, а не одним и тем же. Но если сказать, что и «знающий», и «могущественный», и любой иной атрибут (т.е. имя действователя) утверждается не соответствующим действием (т.е. масдаром), но «Самостью», окажется, что каждое из этих имен утверждено тем же, чем утверждены остальные. Тем самым будет подчеркнуто важнейшее положение — положение о единстве Бога, сохранить которое оказывается по меньшей мере проблемой при понимании «знания», «могущества» и т.д. как реально различного и как того, что утверждает соответствующие атрибуты «знающий», «могущественный», т.д. Поэтому защитники этой позиции и говорят, что «знание» Бога имеется в том смысле, что «Он знающий»: это «в том смысле» и означает перетолкование одной позиции в логико-смысловой конфигурации через другую.
Отмечу принципиальный, с моей точки зрения, момент. Все описанные умопостроения оказываются осмысленными только в том случае, если смыслы «знающий», «могущественный» и т.п. внеположны смыслу «Самость» или «Бог». Только при этом условии в самом деле нетривиальна замена «знания» на «Самость» при сохранении «знающего» как действительно предицируемого Богу: в таком случае множественность, образуемая смыслами «знающий», «могущественный», т.д., никак не затрагивает единство смысла «Самость» или «Бог». Но эта возможность дается именно разбираемой логико-смысловой конфигурацией: в ней единство (смысл первого уровня) оказывается внеположным своей множественности (пара смыслов второго уровня). Поэтому, если для любой пары смыслов второго уровня («знающий-познаваемое», «могущественный-подвластное», т.д.) мы указываем один, и только один, смысл первого уровня, которым она утверждается, то единство «Самости», то есть смысла первого уровня, от этого никак не страдает: этот смысл остается одним и тем же во всех случаях. Заметим в этой связи, что понимание чего-то как единого и одновременно множественного нехарактерно для арабской мысли[172]: единство понимается здесь как простое, как такое единство, внутри которого множественность не может быть увидена. Можно говорить по меньшей мере о корреляции между структурой логико-смысловой конфигурации и пониманием единства: речь идет о процедурной зависимости, то есть о том, с помощью какой процедуры единство может быть достигнуто независимо от того, о единстве чего именно идет речь.
2.2.4. Комплексность логико-смысловой проблематики. Предикация и проблема определения аналитических-синтетических высказываний
Сделав еще один шаг, обнаружим, что такое понимание проблемы единство-множественность и возможность такого ее решения обусловлены вполне определенным пониманием связки и связанного с этим устроения предикации. А именно, это такое их понимание, при котором предикат не мыслится как включаемый в субъект или присоединяемый к субъекту. Если бы «знающий» понималось как априори входящее в смыслы «Бог» или «Самость» и лишь эксплицитно указываемое в нашем высказывании «Бог есть знающий»; или, напротив, как не мыслимое изначально в понятиях «Бог» или «Самость», но присоединяемое к ним, — то в таком аналитическом или синтетическом высказывании множественность субъекта никак не устранялась бы переформулировкой «знания», «могущества» и т.п. в «Самость», поскольку множественность предикатов, включаемых в понятие субъекта или присоединяемых к нему, по-прежнему сохранялась бы. Более того, в таком случае не имело бы никакого смысла переформулировать «знание» или «могущество» в «Самость», поскольку от этого в форме высказываний ровным счетом ничего бы не изменилось: хотя «знание» и «могущество» такой переформулировкой устраняются, «знающий» и «могущественный» остаются действительными предикатами «Самости».
Но разбираемый на примере арабской мысли способ предикации не включает понятие предиката в понятие субъекта, а утверждает его за ним: оставаясь внеположным своему субъекту, предикат тем не менее утвержден за ним. Таким образом, характер связки и устроение предикации оказываются непосредственно связанными с характером логико-смысловой конфигурации и теми отношениями единства, множественности, дихотомичности, противоположности, существования-несуществования и утвержденности, которые были названы процедурными смыслами.
2.2.5. Позиция мутазилитов (2)
Поскольку я утверждаю, что предложенное объяснение взглядов мутазилитов на проблему единство-множественность (единство Бога при множественности связывающих его с миром атрибутов) действительно приложимо по меньшей мере к тому материалу, который имеется в моем распоряжении, я приведу практически полностью соответствующие места из Макалат ал-Аш‘ари. Благодаря этому всякий может убедиться, что весь комплекс позиций, высказанных мутазилитами, представляет собой не более чем описание разных аспектов, или разных возможных толкований, или описание с различной степенью полноты той логико-смысловой конфигурации, которая образована согласно процедурным требованиям разбираемой логики смысла как конфигурация «действие/действующее-претерпевающее». Но прежде стоит обратить внимание на отдельные моменты полного текста цитаты, который приведен ниже.
2.2.5.1. «Претерпевающее» и его место в логико-смысловой конфигурации
Третий член конфигурации, «претерпевающее», появляется в сообщении о таком истолковании «действия»:
Некоторые из них говорили: у Него имеется знание в смысле познаваемое, у Него имеется могущество (кудра) в смысле подвластное (макдур), но ни о чем ином так не высказывались [Ашари, с. 165].
Более полно эта позиция выражена у Абу ал-Хузайла ал-‘Аллафа:
Когда я говорю «могущественный», я отрицаю за Богом бессилие, утверждаю у Него могущество, которое — [сам] Бог, и указываю на подвластное [Ашари, с. 165].
Здесь отмечены фактически все логические звенья рассуждения, о которых говорилось выше. «Могущественный» (имя действователя, «действующее») предполагает «могущество» (масдар, «действие») и «подвластное» (имя претерпевающего, «претерпевающее»). В этой конфигурации «могущество» заменяется на «Бог», или «Он»; слово «сам» добавлено в переводе исключительно для того, чтобы фраза могла сносно читаться по-русски. На самом деле ал-‘Аллаф говорит о синонимии «могущества» и божественного «Он» (то, что впоследствии будет осмыслено как «оность»):
Он могущественный благодаря могуществу, которое — Он [сам] [Ашари, с. 165].
Отметим, что ал-‘Аллаф, Дирар, ан-Наззам и ал-Джубба’и, описывая соотношение между противоположными атрибутами, указывают на закон исключенного третьего в его негативной формулировке, которая, как говорилось выше, релевантна с точки зрения разбираемой логики смысла.
2.2.5.2. Логико-смысловая интерпретация вариантов позиций мутазилитов
Я оставляю без комментариев прочие варианты взглядов мутазилитов: они будут легко поняты из сказанного. Отмечу лишь один нюанс. Я употребляю термины «действие», «действующее», «претерпевающее», говоря о таких атрибутах, как «знание» или «могущество». Между тем, как известно, сами мутакаллимы относили эти имена к «именам самости», тогда как к «именам действия» причисляли такие, как «оживляющий», «умерщвляющий», «одаривающий», «ущербляющий», то есть те, которые, как правило, образованы как пары противоположных качеств. Нормативное описание этих двух классов имен сводится к следующему. Имена самости не имеют противоположности (Бог описывается только как «волящий», но никогда не бывает «безвольным», только как «могущественный», но никогда как «бессильный» и т.д.), тогда как имена действия принципиально определены характером действия, которое может принимать два противоположных значения (Бог описывается как «оживляющий», если дарует жизнь, но как «умерщвляющий», если насылает смерть, и т.д.).
Однако дело в том, что с грамматической точки зрения практически все имена выражены масдарами, во всяком случае, имена самости и имена действия не различимы с этой точки зрения. Структура, в которой осмысляются и те и другие имена, в любом случае остается структурой «действие/действующее-претерпевающее». Однако в отношении имен действия возникает та трудность, что для них невозможно применить подстановку «действие Þ Самость», потому что в таком случае окажется, что противоположные «претерпевающие» и «действователи» утверждаются одной и той же «Самостью», что будет по меньшей мере странно. В конечном счете имена действия отличаются от имен самости именно невозможностью такой подстановки. Вместе с тем этот «дефект» имен действия не слишком заметен в рассуждениях мутазилитов, поскольку принципиальное философское значение для них имеют не они, а имена самости.
Теперь я привожу полный контекст обсуждения мутазилитами проблемы божественных имен как проблемы единство-множественность через конфигурацию «действие/действующее-претерпевающее» (начало этого рассуждения уже цитировалось выше):
Те мутазилиты, которые говорили, что Бог непрестанно знающий, могущественный и живой, разошлись в вопросе о том, является ли Он знающим, могущественным и живым благодаря Самому Себе или благодаря знанию, могуществу и жизни, и каков смысл высказываний «знающий», «могущественный», «живой».
Большинство мутазилитов и хариджитов, многие мурджииты и некоторые зейдиты говорили, что Бог знающий, могущественный и живой благодаря Самому Себе, не благодаря знанию, могуществу и жизни. Они говорили, что у Бога имеется знание в том смысле, что Он — знающий, и что у Него могущество в том смысле, что Он — могущественный, но не высказывались так о жизни и не говорили, что у Него есть жизнь, равно как слух или зрение, но говорили: сила и знание, поскольку Сам Всевышний высказался именно так.
Некоторые из них говорили: У Него имеется знание в смысле познаваемое, у Него имеется могущество в смысле подвластное, но ни о чем ином не высказывались так.
Абу ал-Хузайл [ал-‘Аллаф] говорил: Он знающий благодаря знанию, которое — Он [сам], Он могущественный благодаря могуществу, которое — Он [сам], Он живой благодаря жизни, которая — Он [сам]. Так же он гово-рил о Его слухе, зрении, вечности, величии, силе, великолепии, вознесенности и прочих самостных атрибутах. Он говорил: Когда я говорю, что Бог знающий, я утверждаю у Него знание, которое — [сам] Бог, отрицаю за Богом невежество и указываю на познаваемое, что было, есть или будет. Когда я говорю «могущественный», я отрицаю за Богом бессилие, утверждаю у Него могущество, которое — [сам] Бог, и указываю на подвластное. Если я говорю, [что] у Бога жизнь, я утверждаю у Него жизнь, которая — [сам] Бог, и отрицаю за Богом смерть. Он говорил: У Бога лик, который — Он [сам], так что лик Его — Он [сам], и душа[173] Его — Он [сам]. То, что Бог говорит о «руке», истолковывается как «благодать», а речение Бога (Славен Он и Велик!) «чтобы ты был выращен на Моих глазах»[174] истолковывается как «с Моего ведома».
‘Аббад говорил: Он знающий, могущественный и живой, но я не утверждаю у Него знание, могущество или жизнь, не утверждаю слух, не утверждаю зрение, а говорю: Он знающий не благодаря знанию, могущественный не благодаря могуществу, живой не благодаря жизни, слышащий (сами‘)[175] не благодаря слуху, и так обо всех прочих именах, коими Он именуется не благодаря Своему действию или действию иного.
Он не соглашался с теми, кто говорил, что Он знающий, могущественный и живой благодаря Самому Себе или Своей самости, не соглашался с упоминанием «себя» (нафс) или «самости» (зат), не соглашался говорить, что у Бога знание, могущество, слух, зрение, жизнь или вечность. Он заявлял: Говоря «знающий», я утверждаю имя Бога и вместе с ним [наше] знание о [наличии] познаваемого, говоря «могущественный», я утверждаю имя Бога и вместе с ним [наше] знание о [наличии] подвластного, говоря «живой», я утверждаю имя Бога. Он не соглашался говорить, что у Творца имеется лик, руки, глаза, бок. Он говорил: Я читаю Коран и произношу все, что говорил Бог в этом роде, но только когда читаю Коран. Он не соглашался, что речение о Боге «Он знающий» имеет тот же смысл, что речение о Боге «Он могущественный», или что речение о Боге «Он могущественный» имеет тот же смысл, что речение о Боге «Он живой». То же и об атрибутах, коими описан Бог не благодаря Своим действиям, например, [он говорил,] что «слышащий» имеет не тот же смысл, что «видящий», и не тот, что «знающий».
Дирар говорил: Смысл того, что Бог знающий, — что Он не является невежественным, а смысл того, что Он могущественный, — что Он не является бессильным, а смысл того, что Он живой, — что Он не является мертвым.
Ан-Наззам говорил: Смысл моего речения «знающий» — утверждение Его самости и отрицание за Ним невежества, смысл моего речения «могущественный» — утверждение Его самости и отрицание за Ним бессилия, смысл моего речения «живой» — утверждение Его самости и отрицание за Ним смерти. Так же он говорил обо всех прочих именах самости. Он говорил, что имена самости различаются благодаря различию того, что отрицается за Ним: бессилия, смерти и других противоположностей, таких, как слепота, глухота и прочее, а не благодаря различию всего этого в Нем самом. Другие мутазилиты говорили: Имена и атрибуты различаются благодаря различию познаваемого и подвластного, не из-за различия в Нем. Ан-Наззам говорил, что Всевышний упомянул «лик» в расширительном плане, не потому, что у Него есть лик по истине, и что смысл [слов] «пребудет лик Господа твоего»[176] — «твой Господь пребудет», а смысл [слова] «рука» — благодать.
А иные мутазилиты говорили, что имена и атрибуты различаются благодаря различию передаваемого ими смысла. Говоря, что Бог знающий, я сообщаю тебе знание о Нем, что Он отличен от того, что не способно познавать, опровергаю тех, кто говорит, что Бог невежествен, и указываю, что у Него есть познаваемое. Таков смысл нашего речения «Бог знающий». Говоря, что Бог могущественный, я сообщаю тебе, что Он отличен от того, что не способно мочь, опровергаю тех, кто говорит, что Бог бессилен, и указываю, что у Него есть подвластное. Сказав, что Он живой, мы дадим тебе знать, что Он не таков, как то, что не может быть живым, и опровергнем тех, кто говорит, что Он мертв. Таков смысл речения «Он живой». Так мне говорил сам ал-Джубба’и.
Абу ал-Хусайн ас-Салихи говорил: Смысл моего речения, что Бог знающий не как все знающие, могущественный не как все могущественные, живой не как все живые, — что Он вещь не как все вещи. Так же он говорил об остальных самостных именах. Если его спрашивали: «Так ты говоришь, что “Он знающий не как все знающие” имеет тот же смысл, что “Он могущественный не как все могущественные”?» — он отвечал: «Да, смысл этого — что Он вещь не как все вещи». Так же он говорил об остальных самостных именах. Он говорил, что «вещь не как все вещи» имеет тот же смысл, что «знающий не как все знающие».
О Му‘аммаре передают, что он говорил, что Творец знающий благодаря знанию, и что Его знание имеется у Него благодаря некоему смыслу, а тот смысл — благодаря другому смыслу, и так без предела. Так же он говорил и о прочих атрибутах…
А некоторые багдадцы говорили, что смысл речения «Творец знающий» — не тот же, что смысл [речения «Творец] могущественный», и не тот же, что смысл [речения «Творец] живой», однако смысл [речения] «Творец живой» тот же, что [смысл речения] «Он могущественный», а смысл [речения] «Он слышащий» — что Он знающий о слышимом, и [смысл речения] «Он видящий» — что Он знающий о зримом. Согласно им, смысл [речения] «вечный» — не тот же, что [смысл речения] «живой», и не тот, что [смысл речения] «знающий могущественный». Так же смысл речения о Творце «Он вечный» — тот же, что смысл [речения] «Он знающий», но не тот, что смысл [речения] «Он живой могущественный» [Ашари, с. 164—168].
Он (ал-Джубба’и. — А. С.) не утверждал за Творцом по истине знание, благодаря которому Он знающий, или по истине могущество, благодаря которому Он могущественный; и так [говорил] обо всем, чем описывается Вечный благодаря Самому Себе.
Атрибуты самости и атрибуты действия он различал так же, как мутазилиты, о которых мы говорили раньше.
Он утверждал, что смысл высказывания «Он знающий» — утверждение Его (исбату-ху), а также — что Он не таков, как то, что не может познавать, опровержение тех, кто утверждает, что Он невежествен, и указание на то, что у Него имеется познаваемое. [Он говорил,] что смысл высказывания «Он могущественный» — утверждение Его, указание, что Он не таков, как то, что не способно мочь, опровержение тех, кто утверждает, что Он немощен, и указание на то, что у Него имеется подвластное (макдурат) Ему. Смысл высказывания «Он живой» — утверждение Его единым, и что Он не таков, как то, что не может быть живым, и опровержение тех, кто утверждает, что Он мертв. Высказывание «слышащий» — утверждение Его, и что Он не таков, как то, что неспособно слышать, опровержение тех, кто утверждает, что Он глух, и указание на то, что слышимое, когда оно есть (иза канат), Он слышит. Смысл высказывания «видящий» — утверждение Его, и что Он не таков, как то, что не способно видеть, опровержение тех, кто утверждает, что Он слеп, и указание на то, что Он видит зримое, коли оно есть. А высказывание его о том, Он — вещь вечная и сущая, не такая, как [другие] вещи, мы уже разъяснили [Ашари, с. 524—525].
Что касается третьего из основных атрибутов Бога, а именно, атрибута «воля», то о его обсуждении ал-Аш‘ари сообщает в другом месте:
Речение о том, что «Бог волящий» (’аллах мурид).
Мутазилиты держались в этом вопросе пяти мнений.
Одни, последователи Абу ал-Хузайла [ал-‘Аллафа], считают, что воля Бога — иное, нежели желаемое Им и нежели Его приказание. Его воля [в отношении] претерпевающего Его [действие] не сотворена по истине. Она, вместе с речением Его «будьте!» — сотворение оного. А Его воля [в отношении] веры не является ее сотворением, и она иное, нежели приказание о ней. Воля Бога угнездена в Нем вне места (ка’има би-хи ла фи макан). А некоторые из последователей Абу ал-Хузайла говорили, что воля Бога существует вне места, но не говорили, что она угнездена во Всевышнем Боге.
Другие, последователи Бишра Ибн ал-Му‘тамира, считают, что воля Бога двояка. Одна — воля, которой Бог описан в Своей самости, другая — воля, которой Он описан и которая является одним из Его действий. Воля, которой Он описан в Своей самости, не связывается с ослушанием рабов.
Третьи — последователи Абу Мусы ал-Мурдара. Как передает Абу ал-Хузайл, Абу Муса считал, что Бог желает ослушания рабов в том смысле, что Он позволяет им совершать его. Абу Муса говорил: Он сотворил нечто иное, нежели Он сам, а сотворение сотворено не сотворением.
Четвертые, последователи ан-Наззама, считают, что когда описывают Бога, [говоря,] что Он желает создания (таквин) вещей, то это имеет тот смысл, что Он их создал, и что Его воля создать их — это создание их. А описание Бога, что Он желает действий Своих рабов, имеет тот смысл, что Он приказал [совершать] их, и приказание о них — это иное, нежели они сами. Они говорили: Мы можем сказать, что Он желает Часа и Воскресения, а смысл этого — что Он судил так и известил об этом. К этому речению склоняются багдадские мутазилиты.
Пятые, среди них последователи Джа‘фара Ибн Харба, считают, что Бог хочет, чтобы неверие отличалось от веры, и что Он хочет, чтобы злой поступок был иным, нежели добрый. Смысл этого — что Он судил так [Ашари, с. 189—191].
Из пяти мнений последние три представляют собой иносказательные перетолкования атрибута «воля». Поэтому интерес здесь представляют первые две позиции, авторы которых признают его истинностное значение. Ал-‘Аллаф и его последователи строят описание божественной воли вполне в соответствии с принципами, вытекающими из строения логико-смысловой конфигурации, выделяя в качестве самостоятельных и необходимых для построения рассуждения категорий «волящий», «воля» и «волимое». Вместе с тем здесь не наблюдается острота постановки вопроса о том, является ли Бог «волящим» благодаря своей «воле» или «самости»: акцент перенесен на вопрос об универсальности связи «воли» с «волимым», что вызвано принципиальным для мутазилитов положением об автономии действия человека. Интересно, что Ибн ал-Му‘тамир считает возможным толковать «волю» и как имя самости, и как имя действия: во втором случае речь идет о воле, вызывающей противоположное «волимое», например, послушание и ослушание.
2.3. Суфизм
Не будем прослеживать историю разработки конфигурации «действие/действующее-претерпевающее» во всех направлениях средневековой арабской философии, хотя она, безусловно, сохраняет для них свою релевантность. Остановимся более подробно на последнем из них — суфизме.
2.3.1. Роль конфигурации «действие/действующее-претерпевающее» в задании способа осмысления философских проблем
У Ибн ‘Араби обнаруживается яркое подтверждение той интенции не субстантивного, а действенного осмысления вещей, о которой говорилось выше. Так, он говорит:
Божественные имена утверждены действиями Его, никак не иначе, а сии действия — ты, они — возникшее [Ибн Араби 1993, с. 183].
Эта тенденция означает стремление к рассмотрению вещи в конфигурации «действие/действующее-претерпевающее»: человек рассматривается как «возникшее» (т.е. претерпевающее), которое утверждено действием действователя. Поэтому многие рассуждения строятся как описание такой конфигурации, и именно в ее рамках осмысляются многие проблемы. Так, когда в «Мекканских откровениях», подытоживая цитировавшиеся выше размышления, Ибн ‘Араби говорит о «возможном», что
оно — хранящее и хранимое, предохраняющее и предохраняемое; это определение ему сопутствует и за ним утверждено, оно не выходит за его пределы [Ибн Араби, т. 3, с. 275],
то это высказывание вряд ли стоит воспринимать как выполненное в духе гегелевской диалектики: он лишь указывает, что «возможное» утверждено между «именем действователя» и «именем претерпевающего» как смысл, образующий себя на области совпадения этих двух соположенных смыслов: ведь «возможное» — это смысл первого уровня, и именно эту позицию он здесь занимает.
Приведу также такой пример:
Поскольку миропорядок (’амр) нисходил, определяемый разрядами, то всякий, кто явился в каком-либо разряде, несет на себе печать истинности того разряда. Поэтому определяющее воздействие сего разряда, разряда получающих приказание (ма’мур), явлено в каждом из них, а разряда отдающих приказание (’амир) — в каждом из приказывающих [Ибн Араби 1993, с. 223].
Арабские термины ’амр, ’амир, ма’мур представляют собой масдар, имя действователя, имя претерпевающего. В русском языке оказывается затруднительным подобрать для них перевод, передающий их смысловое родство, совершенно очевидное для арабского языкового сознания. Здесь ’амр — я перевожу этот термин как «миропорядок» — оказывается областью, где ’амир «приказывающий» и ма’мур «получающий приказание» совпадают и образуют новый смысл. ’Амр — это не просто «приказание» как действие, но и — «всё», поскольку речь идет об отношении между Богом как «приказывающим» и миром как «получающим приказание»[177].
Сказанное означает, что конфигурация «действие/действующее-претерпевающее», когда она выработана традицией и хорошо согласуется с релевантной для нее логикой смысла, оказывается удобной формой для осмысления самых разных проблем, в том числе и тех, обсуждения которых совсем в другом ключе могли бы ожидать мы. Инокультурный текст становится в своем внутреннем строении гораздо более понятным, если принять во внимание этот логико-смысловой момент: выбор формы обсуждения и осмысления проблемы продиктован процедурными соображениями.
2.3.2. Понимание единства
Что касается понимания единства, то у Ибн ‘Араби вполне сохраняется фундаментальное, вытекающее из самого строения логико-смысловой конфигурации в рассматриваемой логике смысла представление о том, что единство внеположно своей множественности. Проиллюстрирую это двумя образами, геометрическим и числовым, которые он привлекает для разъяснения своих взглядов.
Говоря о том, чему может быть уподоблен Бог в отношении мира, Ибн ‘Араби рисует образ окружности и ее центра-точки.
Миропорядок (ша’н) в самом себе — как [центральная] точка относительно окружности (мухит) и то, что между ними. Эта точка — Истинный, пустота (фараг) вне окружности — несуществование (или скажи: тьма), а то, что между этой точкой и пустотой вне окружности — возможное, как мы то нарисовали на полях[178]. Мы взяли точку потому, что она — основа (’асл) существования окружности круга (мухит ад-да’ира): он появился благодаря точке. Так же и возможное появилось только благодаря Истинному. Если предположить, что из [центральной] Точки (ан-нукта) проведены линии к окружности круга, то они закончатся[179] [каждая] в [некоторой] точке (нукта). И вся окружность таким же образом — из [центральной] Точки [Ибн Араби, т. 3, с. 275].
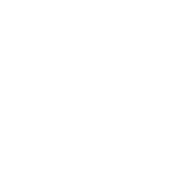
Прервем здесь цитату, чтобы обратить внимание на последние две фразы. В первой из них сказано, что точка на окружности совпадает с точкой центра потому, что и то и другое — точка, и лишь поэтому во второй делается вывод, что окружность — «из Точки»[180], ведь любая точка окружности совпадает с Точкой. Такое совпадение — совпадение единства с внеположной ему множественностью. Точка центра способна совпасть с любой точкой окружности потому, что единство способно совпадать с внеположной ему множественностью. «Содержательный» вывод о том, что «мир — из Бога», делается на основе предоставленной процедурой смыслополагания возможности отождествить внеположное, увидеть совпадение внеположного. Заметим, что при таком понимании совпадения единства и множественности совершенно отпадает необходимость помещать Бога внутрь мира и утверждать, что Бог составляет «внутреннюю сущность» любой вещи. При всех высказываниях Ибн ‘Араби, как будто дающих основание для такого представления[181], характеристика его взглядов как пантеистических промахивается мимо принципиального положения: мир и Бог внеположны друг другу. Их внеположность означает, что Бог не находится «внутри» мира, хотя и составляет «скрытое» (батин) для мира, который рассматривается как «явное» (захир).
2.3.2.1. Единство как перевод явное Û скрытое
Как различить отношение между явным (захир) и скрытым (батин), которое предполагается разбираемой здесь логикой смысла и которое проявляется у Ибн ‘Араби, и соотношение между явленностью (вещью) и ее внутренней сутью (Богом), которое характерно для мистического пантеизма?
Критерий различения достаточно прост и в то же время эффективен, и о нем уже говорилось в Главе I. Отношение между захир и батин — это отношение между двумя различными сторонами, которые, хотя и совпадают, внеположны каждая другой и ни одна из которых не включена в другую. Батин является «скрытым» не для захир, а для того, что образовано их совпадением, так же как захир является «явным» не для батин как такового, а для того, что образовано их совпадением. В разбираемом Ибн ‘Араби случае Бог является скрытым не для «мира» (‘алам) как такового, а для того, что он называет совсем другим термином — ’амр или ша’н и что я передаю как «миропорядок». Если задать вопрос: что такое «Всё» для Ибн ‘Араби? — ответом на него будет именно ’амр или ша’н «миропорядок», в котором мир (‘алам) составляет явное, а Бог — скрытое. Уже из этого видно, что Бог, собственно, не включен внутрь мира (‘алам). Более того, поскольку отношение между захир «явным» и батин «скрытым» — это такое отношение, в котором одно ведет к другому и как бы «переводится» в другое, так что в одном нет ничего, чего не было бы в другом, то вполне возможно утверждение, что Бог является явным, а мир скрытым. Здесь подлинность — не в Боге как таковом, и не в мире как таковом, а в возможности перехода от одного к другому: их взаимный перевод и составляет истину миропорядка[182]. Но — и я тем самым возвращаюсь к тому, с чего начал, — такой взаимный перевод и переход возможен только между тем, что относится одно к другому как одноуровневое и внеположное.
Однако если считать, что «Всё» — это Бог, то понятно, что утверждение о том, что Бог составляет внутреннюю суть вещей, тогда как вещи — не более чем явленность, предполагает отношение однозначной иерархичности между явленностью и внутренней сутью: вторая как бы вбирает в себя первую, составляя ее истину; здесь уже подлинность окажется целиком на стороне Бога. Здесь составлять внутреннюю сторону вещи будет означать вполне включать в себя вещь.
Принять, что мир и Бог совпадают, оставаясь внеположными друг другу (как совпадают захир «явное» и батин «скрытое», оставаясь каждое иным, нежели другое, но и неиным благодаря взаимному переводу), составляет принципиальную трудность для сознания, привыкшего мыслить совпадение как интериоризацию.
2.3.2.2. Содержательный аспект философской доктрины как следствие процедурного
Сказанное означает, что отсутствие пантеистических построений у Ибн ‘Араби является следствием того представления о возможности совпадения единства и множественности, которое не реализуется — в своем явном виде — ни в каких «содержательных» тезисах, хотя и лежит в основании любого из них и всего их ансамбля. Это понимание предоставляется логикой смысла, хотя и не эксплицировано в качестве явно сформулированного положения[183]. В данном случае мы имеем один из довольно ярких примеров принципиальной обусловленности содержательных положений логикой смысла.
Ибн ‘Араби продолжает свое рассуждение:
О том речение Его: «Бог отовсюду окружает (мухит) их»[184], а также: «Он все объемлет (мухит)»[185]. Так каждая точка на окружности — предел (интиха’) линии, а точка, из которой выходит линия, [идущая] к окружности — начало (ибтида’)[186] линии. Так «Он — Начальный и Конечный»[187]. Он — начальный для любого возможного, как [центральная] точка — начало для любой линии. А то, что вне существования Истинного, что отвернулось от Него, — несуществование, которое не принимает существования. Линии, исходящие [из центральной точки], — это возможное. Они в Боге берут свое начало, и в Боге приходят к своему пределу: «К Нему возвращается все»[188]. Ведь линия заканчивается точкой, а потому начальность (’аввалиййа) и концовость (’ахириййа) линии принадлежат линии, [или] не принадлежат линии — скажи как хочешь. Вот это и должно говорить о Нем: они — не Он и не нечто иное, чем Он, — как атрибуты у ашаритов [Ибн Араби, т. 3, с. 275].
Здесь со всей определенностью сказано то, на что я обращал внимание выше: хотя Бог является лишь началом окружности и составляет только ее центральную точку, так что не делается утверждение о том, что окружность — это Бог, всякая точка окружности совпадает с Богом, оставаясь внеположной ему. Это значит, что можно говорить, что возможное — это Бог, и что возможное — само по себе: оба ответа верны, и истина только в обоих вместе. Отметим еще раз, что эти два ответа понимаются как правильные сразу (а не так, как это поняло бы диалектическое движение мысли, переходящее от одного тезиса к противоположному как развитию первого и его отрицанию) и в силу этого совпадающие на внеположной обоим области (благодаря переходу от которой то к одному, то к другому и становятся возможны они оба). Я не могу не подчеркнуть еще раз связь этого рассуждения с вопросом о релевантности строго дихотомического понимания значений «истина-ложь» для высказываний, сформулированных в разбираемой логике смысла.
Поэтому я и говорю, что неверна характеристика философии Ибн ‘Араби (и вообще суфийской философии) как пантеистической, поскольку пантеизм предполагает безусловно позитивное и конечное утверждение о всеприсутствии Бога, тогда как здесь совершенно принципиально, что такое утверждение, даже если оно делается, не может быть конечным и позитивным, оно должно быть дополнено противоположным. Самое же главное состоит в том, что внеположность Бога множественности мира не предполагает его «присутствия в нем», как такое присутствие полагается западной пантеистической традицией. Содержательный контраст двух учений является непосредственным следствием процедурного.
Обратим внимание на то, что Бог (центральная точка) совпадает с любой точкой окружности, то есть с тем состоянием «возможного», когда оно обретает существование и становится «необходимым благодаря другому». Но Ибн ‘Араби нигде не говорит, что Бог совпадает с «линией» как таковой вне ее начальной и конечной точек, со всем, что составляет внутреннюю наполненность круга между центральной точкой и окружностью. Именно эта область соответствует тому, что категориально осмысляется как собственно «возможное», как то, что не является ни существующим, ни несуществующим. Если построение этого образа следует логике смысла, лежащей в основании классической арабской культуры, то должно обнаружиться, что «возможное» представляет собой совпадение существования и несуществования. Так ли это?
Может показаться, что нет. Ведь «возможное», образно выраженное радиусом окружности, представляет собой, согласно Ибн ‘Араби, совпадение центральной точки (Бога) и точки самой окружности (существования). Более того, несуществование представлено, как говорит философ, «пустотой» вне окружности, которая никак не сополагается с элементами образа «возможного». (Это отсутствие соположения ясно хотя бы из того, что образ радиуса выстраивается без обращения к образу пустоты, следовательно, последний не является необходимым для первого.) Это значит, во-первых, что существование не совпадает с несуществованием, как должно было бы быть согласно разбираемой логике смысла, а во-вторых, что «возможное» образовано совпадением Бога и сущего, а не существования и несуществования.
Однако такая интерпретация построена на двух ошибках. Во-первых, внешняя «пустота» — это не просто несуществование, а чистое несуществование, никогда в существование не превращающееся. Верно, что оно не сополагается с существованием, но так же верно и то, что оно с существованием сополагаться просто не может. Соположение ведь, как неоднократно говорилось выше, допустимо не для «чистого несуществования», а для «несуществования», которое, не будучи «чистым», предполагает наступление «существования». Во-вторых, «Бог», центральная точка окружности, и «существование», внешняя точка окружности, с которой центральная совпадает, принадлежат разным понятийным рядам, не описывая одно и то же. «Возможное» (радиус) является «существующим» как точка окружности, это верно, — но не верно, что оно является «Богом» как центральная точка. Это значит, что понятийная интерпретация центральной точки как «Бога» не подходит: следует найти возможность интерпретировать центральную точку в терминах самого «возможного», ответив на вопрос, чем является «возможное», когда обнаруживается нами в центральной точке.
Изложенные выше положения философии Ибн ‘Араби позволяют без труда ответить на этот вопрос. Любое сущее, говорит он, находится в Боге в состоянии несуществования[189], появляясь затем в мире в состоянии существования, причем точно таким, каким было в состоянии несуществования. Но это именно то, что подразумевает разбираемый образ: точка окружности, «сущее», совпадает с центральной точкой, т.е. с самим собой как «несуществующим», и это совпадение обеспечивается радиусом, т.е. «возможным». Более того, можно было бы сказать, что радиус создан этим совпадением, или что наличие радиуса предполагает это совпадение. Так радиус окружности, или «возможное», названное на рисунке «пространством между точкой Истинного и окружностью» (фараг байна нуктат ал-хакк ва ал-мухит), являет собой совпадение Бога и мира, совпадение, как раз и образующее «миропорядок» (’амр), имеющий две стороны, «явную» (захир) и «скрытую» (батин), внеположные друг другу и тем не менее друг с другом совпадающие.
Так логика смысла, влияние которой на построение категории «возможное» обсуждалось выше, проявляет себя и в создании образной иллюстрации, и в ее разъяснении.
2.3.3. О совпадении, или выразимо ли существо процедуры смыслополагания дискурсивно?
Бог — только центральная точка, но всякая точка вне его, на окружности, вне центра, совпадает с ним, оставаясь внеположной ему. Так реализуется тот принцип совпадения, который предполагается рассматриваемой логикой смысла. В Главе I шла речь о нетривиальности понятия «совпадение», о том, что отослать, как это делает Фреге, к представлению о «совпадении» для того, чтобы вполне дать понять, что же такое тождество (он пишет: я понимаю тождество строго, как совпадение), совершенно недостаточно: само совпадение может быть разным, и совпадать можно по-разному. Речь не идет о содержательно различаемых видах совпадения (частичное совпадение, совпадение на пересечении, т.д.), речь идет о процедуре, благодаря которой в каждом таком случае устанавливается, что совпадение имеет место и что имеет место именно совпадение, а не что-то иное.
Как выразить эту процедуру? Ее, вероятно, нельзя выразить в терминах тождества или совпадения, поскольку эти понятия сами должны быть определены через нее. Может быть, нам поможет понятие «включение»? Можно мыслить совпадение так, что из двух совпадающих одно непременно включает другое, и «совпадать» для двух значит «включать в себя другого» на области совпадения. Кажется, это хорошо выражает суть понимания совпадения в западной традиции. В разбираемой логике смысла это условие не выполняется, что и выражается внеположностью совпадающего. Бог совпадает с любым «возможным», это верно, как верно и то, что это не вообще-совпадение, а конкретный вид совпадения, частичное совпадение (любое возможное — не весь Бог, и Бог не полностью реализуется в возможном). Но вопрос в том, как достигается это совпадение, какова процедура, обеспечивающая совпадение.
2.3.4. Логико-смысловое объяснение контраста с западной традицией в понимании проблемы единства
У Плотина есть образ, удивительно схожий с тем, что приводит Ибн ‘Араби, по своему строению (это тоже образ круга, центра и радиусов) и соответствию его элементов понятиям (центр — Бог, радиусы — «отображающие» его вещи), но совершенно не согласующийся с ним по своей внутренней логике. Плотин пишет:
Нам должно быть присуще начало, которое выше самого ума, причина его — сам Бог, единый, нераздельный, который не в пространстве, а в самом себе существует, который созерцается во множестве существ, в большей или меньшей степени способных воспринять и отображать его в себе, но который отличен и обособлен от всех их, подобно тому как один центр в круге остается один сам по себе, между тем как множество радиусов со всех точек периферии к нему сходятся [Плотин V 1, 11, т. 1, с. 25].
Конечно, верно, что образ совершенно обособленного ото всего центра-Бога отражает понимание Единого у Плотина как совершенно «закрытого» от всякой множественности и потому как бы обособленного ото всего, хотя и служащего началом всему. Но вопрос в том, почему для Плотина, кажется, абсурдным было бы утверждение о совпадении такого центра с любой точкой окружности, тогда как для Ибн ‘Араби такое утверждение очевидно? Дело не объясняется какими-либо содержательными расхождениями их учений (хотя таковых более чем достаточно), поскольку и для Ибн ‘Араби (как и для традиции арабской философской, да и вообще теоретической, мысли) единство принципиально представляется как строгое и исключающее всякую внутреннюю множественность. Вопрос, который следует задать в отношении двух процитированных отрывков, звучит, следовательно, так: почему в одном случае утверждение о строгом единстве означает утверждение о совершенной обособленности (центр круга, не совпадающий ни с чем, хотя к нему ведут все радиусы-вещи, его в себе отображающие), тогда как в другом случае такое же утверждение совместимо с утверждением о совпадении этого строгого единства с множественностью? Ответ на этот вопрос не может быть дан на уровне сравнения содержательного пласта двух учений, он может быть получен только при сравнении логик смысла, которые руководили этими построениями. Пикантность ситуации возрастает еще и оттого, что Ибн ‘Араби вполне мог быть знаком с образом, использованным Плотином, поскольку последние три Эннеады были включены в состав апокрифической «Теологии Аристотеля», известной арабам. Если это так, то сравнение текстов Ибн ‘Араби и Плотина показывает, что заимствование образов, идей или учений не может быть просто заимствованием содержания, оно предполагает непременное изменение этого содержания в соответствии с собственной логикой смысла. Поэтому совершенно недостаточной представляется традиционная установка сравнительных исследований на поиск содержательных схождений-расхождений сравниваемых традиций: если традиции построены на различающихся логиках смысла, такое сравнение не может быть корректным без привлечения логико-смыслового анализа.
Что различие логик смысла объясняет и различие в содержании столь схожих образов и рассуждений, лишний раз показывает сравнение этих построений с тем, что говорит в этой же связи Николай Кузанский. Для него также центр круга служит его началом, но никакая точка на окружности не равна центру как таковому: «свернутость» круга предполагает его «развернутость» в любую точку на окружности, но именно поэтому точка на окружности не совпадает с центральной, поскольку она-то таким началом свернутости не служит и не может служить. Заметим, кстати, что для Николая Кузанского любая точка круга — не что иное, как развернутость центральной точки, в отличие от Ибн ‘Араби, для которого «радиус» вне своей начальной и конечной точки принципиально не получен «из» центра. Круг как развернутость центра Николая Кузанского предстает логически необходимым завершением плотиновского образа, поскольку разрешает его противоречивость (у Плотина центр совершенно обособлен от радиусов, которые тем не менее его «отображают» и им произведены), — но при этом остается в пределах все той же логики смысла, которая руководила его начальным построением и которая контрастирует с той, что релевантна для Ибн ‘Араби.
В проанализированном примере у Ибн ‘Араби множественные точки на окружности вне точки-центра совпадают с последней как точки. Так же и единица рождает числа вне себя, но совпадает с любым числом: числа — вне единицы, хотя являются «подробностями» единицы; эти «подробности» находятся вне, а не внутри, своего целого. Этот образ появляется у него в другом рассуждении:
Благодаря Единице появились числа по известным разрядам. Так Единица дала существование числу, число же раздробило (фассала) Единицу; а воздействие (хукм) числа выявилось не иначе, как через исчисляемое… Потому не миновать числа и исчисляемого, как не миновать Единицы, сие устрояющей и по причине этого самой устрояющейся [Ибн Араби 1993, с. 170].
Обратим внимание на последнюю фразу: в ней упомянуты «число», «исчисляемое» и «Единица», причем утверждается, что все три члена этой совокупности необходимы друг для друга. Казалось бы, привлечение «исчисляемого» является излишним для образа, оперирующего понятиями числового ряда и единицы как его начала. Если привлекается «исчисляемое» как категория, соответствующая «числу» (что означает конкретные вещи мира, находящиеся под воздействием чисел), то должна быть привлечена и категория, соответствующая «единице» и выражающая на терминологическом языке идею неделимого начала. Такое «начало» и «исчисляемое» составили бы не более чем аналог «единицы» и «числа» и ничего бы не добавили по сути к этому пифагорейскому построению. Но для Ибн ‘Араби «исчисляемое» не принадлежит ряду, параллельному тому, куда входит «число», а оказывается стоящим в одном ряду с «числом», так что понятие числа у него не имеет смысла без понятия исчисляемого. В пифагорейской модели можно мыслить единицу и числовой ряд самостоятельно, и они как таковые имеют смысл независимо от параллельного им категориального ряда, проецирующего их на реальный мир. Точно так же Николай Кузанский, охватывающий единым взором историю предшествовавшей мысли, представляет соотношение начала и порождаемого им множества вещей как соотношение единицы и чисел, так что, говорит он, можно видеть
во всяком числе только проявление возможности неисчислимой и бесконечной единицы, ведь числа суть лишь видовые модусы проявления возможности единицы [Николай Кузанский, 14],
причем параллельность понятийных пар «единица-число» и «начало-множественность мира» у него совершенно очевидна и последовательно выдерживается. Но для Ибн ‘Араби осмысленной оказывается именно и только конфигурация «единица-число-исчисляемое», причем добавление «исчисляемого» не может быть объяснено какими-либо тезисами или положениями его теории, носящими содержательный характер. Продолжая рассуждения там, где я прервал цитирование, Ибн ‘Араби говорит:
Ведь любого разряда число — единая истинность, как, например, девятка или десятка, и большие их, и меньшие их, и так до бесконечности: они и не суммы, и неотъемлемо от них название сложения единиц. Двойка — единая истинность, и тройка — единая истинность, в которых имеется все от сих разрядов, хотя они и едины: воплощенность одной из них — не воплощенность никакой другой. Ведь распространяется на них сложение, и сами они позволяют нам говорить о себе, и по ним мы судим о них [Ибн Араби 1993, с. 170].
Этого рассуждения было бы довольно, чтобы описать число и его отношение к единице как началу: каждое число — и единица, многажды умноженная, и вместе с тем — нечто единое и самостоятельное. Такой образ «единица-числа» вполне мог бы, кажется, описать отношение Бог-мир. Тот факт, что для Ибн ‘Араби недостаточно указать на соотношение между единицей и числом, ею порождаемым (и вместе с тем сохраняющим свою самостоятельность и отличенность от единицы), имеет иные основания, нежели располагающиеся и находимые в содержательном срезе его текста.
Обратим внимание на первую фразу процитированного рассуждения Ибн ‘Араби. «Воздействие» (хукм) числа, говорит он, проявилось благодаря исчисляемому, и именно необходимостью указать на это воздействие объясняется привлечение «исчисляемого» к рассмотрению. Хотя число «сделало подробной» (фассала) единицу, не в этом видит Ибн ‘Араби действие числа: последнее проявляется только в его отношении к исчисляемому. Но «исчисляемое» (ма‘дуд) является не чем иным, как именем претерпевающего, и хотя слово «число» (‘адад) образовано не как имя действующего, оно явно связано с «исчисляемым» именно так, как имя действующего связано с именем претерпевающего. «Действующим» для Ибн ‘Араби оказывается число, которое у него символизирует универсалии (куллиййат), или «соотнесенности» (нисаб), «претерпевающим» — исчисляемое, или то, что он называет «воплощенностями», то есть конкретные вещи мира. Связь первого со вторым — это парадигматическая связь «действующего» (фа‘ил) с «претерпевающим» (маф‘ул), строящаяся как соположенность смыслов второго уровня в логико-смысловой конфигурации разбираемого типа. Хотя число «раздробило» единицу, оно не воздействовало на нее саму в том смысле, что все эти «подробности» полагают себя вне единицы как таковой, а не внутри ее: единица здесь занимает место смысла первого уровня. Соотношение понятий, привлекаемых в рассуждении, оказывается определено не просто и не только вкладываемым в них содержанием, но и, если не в первую очередь, теми требованиями процедур смыслополагания, которые обосновывают осмысление любого из них. Эти логико-смысловые императивы практически никогда не появляются на поверхности текста, и тем не менее именно ими соткано его полотно.