| А.В.Смирнов. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001 |
|
|
(с) А.Смирнов 2001
Глава III
Интуиция, лежащая в основании процедур смыслополагания
В Главе I мы были заняты исследованием языковой материи и, наблюдая за ее поведением, задавали вопрос, могут ли воплощенные в ней феномены мышления быть сполна объяснены в пределах допущений существующих теорий значения. В Главе II были введены основные понятия логико-смысловой теории; расширяя пределы своей свободы в ее применении, мы постепенно выработали способность рассматривать материал исследования с ее точки зрения, выясняя, каковы преимущества этой новой позиции, что она позволяет увидеть и какие интерпретации предлагает из числа тех, что остаются принципиально недоступными теориям, принимающим традиционные ограничения в понимании значения. Естественно, что при этом нужно было всякий раз объяснять основания логико-смысловой теории. Это объяснение не было легко воспринимаемым, к его пониманию приходилось находить дорогу, отказываясь от привычных интерпретаций как будто совершенно ясных и недвусмысленных положений. Необходимость такой работы по своеобразному воздержанию от соскальзывания на знакомый и интуитивно-понятный путь и составляет главную трудность восприятия логико-смысловой теории.
§ 1. Основание осознания логико-смысловых отношений: интуиция или понятие?
Эта глава будет ответом на вопрос: возможно ли решающее понятийное разъяснение положений логики смысла или ее основания лежат глубже, на том уровне, к которому любое понятийное объяснение неизбежно вынуждено апеллировать?
На этот вопрос нетрудно ответить, если встать на позиции самой логико-смысловой теории. Формулировка любого понятийного (а значит, тем самым вербального) объяснения неизбежно подчиняется императивам логики смысла и нагружает его логико-смысловой определенностью. С другой стороны, любое объяснение должно быть понято, а понимание также формирует содержание находящейся в поле внимания смысловой структуры благодаря процедурам смыслополагания. Поэтому всякое понятийное объяснение будет нуждаться, в свою очередь, в разъяснении, которое бы показывало, что вербальные структуры самого объяснения должны пониматься не в соответствии с привычными процедурами смыслополагания, а в свете иных, характерных для иной культуры, процедур, и так далее. Например, разъясняя в Главе II логико-смысловые различия в понимании «совпадения», я ссылался на понятия «единство» и «множественность», но и их нужно было объяснить с логико-смысловой точки зрения как предполагающие возможность контрастирующих пониманий, для чего следовало или вновь обратиться к понятию «совпадение», или ввести понятие «противоположность», которое, в свою очередь, нуждалось в разъяснении логико-смысловых оснований своего понимания, и т.д.[1]
Понятийное разъяснение, таким образом, всегда направлено вовне, но не на самого себя, а значит, оно в принципе не может решить задачу собственного логико-смыслового обоснования. Единственный способ остановить этот порочный круг или не менее порочный регресс в бесконечность — предположить, что на каком-то шаге наше объяснение становится интуитивно понятным, как бы схватываемым без объяснений.
§ 2. Объяснима ли конечная интуиция понимания как схватывание субстанциальных смыслов?
Признав это, нельзя не задать следующий вопрос. Пафос введения логики смысла как теории, описывающей формирование значений вербальных структур, состоял в том, что интуитивная понятность ряда отношений (совпадение, единство, существование, противоположность) вводит в заблуждение, поскольку за ней кроется не осознаваемое, как правило, многообразие понимания этих отношений. Ясное представление об этом многообразии со всеми его следствиями, которое логика смысла ставит на место обманчивой однозначности интуитивного восприятия, и составляет заслугу этой теории. Если я теперь вынужден констатировать необходимость апелляции к интуиции, то в чем различие между моей и критикуемой мной позициями?
Примером такой неприемлемой для меня точки зрения может служить высказывание уже упоминавшейся А. Вежбицкой (см. Главу I):
Как красноречиво доказал Лейбниц, не все можно объяснить: в какой-то момент все объяснения должны считаться законченными, поскольку regressus ad infinitum ничего не объясняет. Какие-то вещи должны быть самоочевидными (интуитивно ясными), а иначе мы бы никогда ничего не могли понять [Вежбицкая, с. 171—172].
Это общее положение я вполне разделяю. Мое сомнение вызывает переход к частной его трактовке. Этот переход стал для многих весьма привычен, и его принимают настолько без размышлений, что даже не считают нужным обосновывать. Автор непосредственно продолжает:
Объяснительная сила любого объяснения зависит поэтому от интуитивной очевидности неопределяемых элементарных концептов, которые и составляют его конечное основание [Вежбицкая, с. 172].
Сомнение, достаточно ясно высказанное и обоснованное в этой работе, касается того, как исследователи, придерживающиеся подобного — я называю его «субстантивным» — подхода к пониманию категории «смысл» (или «значение», что в данном случае не важно), поступают, когда необходимо найти предмет интуиции, составляющей основу понимания, коммуникации и мышления. Они, как видим, отыскивают его в виде элементарных смысловых атомов, причем делают это совершенно без колебаний.
Между тем, с моей точки зрения, предметом интуиции являются вовсе не такие смысловые атомы, а только взятая в общем виде способность к их выстраиванию. Реализация этой общей способности различна в разных культурах. Я собираюсь показать, как такая реализация может оказаться различной. На этом пути будет раскрыто содержание интуиции, обосновывающей формирование и понимание словесных структур, и показано, что она не может быть понята в пределах субстантивной трактовки смысла, характерной для традиционной семантики.
§ 3. Характер интуиции, признаваемой логико-смысловой теорией
Апелляция к интуиции, хотя и сохраняется в логико-смысловой теории как конечное обоснование процедур формирования и понимания смысла, признается на ином, нежели в традиционных теориях значения, уровне. Я не претендую на то, чтобы вывести окончательно и полностью на свет тот загадочный процесс, благодаря которому возникает смысл. Однако можно сделать его значительно менее загадочным, чем он представлялся до сих пор, открывая эту тайну до некоторой степени, отодвигая ее завесу несколько вглубь. Безусловно, это лишь относительный прогресс. Логико-смысловая теория в ее нынешнем виде и не претендует на то, чтобы дать абсолютное объяснение формирования смысла, показав, каким образом он возникает «из ничего»; более того, она еще и не утверждает, что это в принципе возможно.
Однако и относительный прогресс, достигаемый таким образом, заслуживает проделанного труда. Не говоря уже о расширении горизонта нашего знания и действия в разных областях, который составляет следствие этой теории, мы таким образом получаем возможность прояснить интуицию, к которой вынуждены апеллировать как к основанию формирования «смысловой субстанции». Уже одно это заслуживало бы внимания, поскольку таким образом разговор об этой интуиции перестает быть абсолютно туманным, он приобретает взамен зримые черты. Эту сторону вопроса я намерен исследовать в данной главе.
3.1. Смысловая атомарность и возможность референции к простому объекту (первый набросок вопроса)
К данной проблеме лучше всего приблизиться, попытавшись ответить на следующий вопрос: как возможна референция к простому объекту (если, конечно, она вовсе возможна)?
Этот вопрос уже обсуждался в Главе I (см. одноименный § 2.3.1). Я возвращаюсь к нему здесь для того, чтобы оглянуться назад и сравнить те его решения, которые были предложены в аналитической философии и близких или зависимых от нее течениях мысли, с теми, что предполагает логико-смысловая теория. Необходимой оговоркой послужит следующее замечание. Здесь вовсе не место для сколько-нибудь подробного или претендующего на академическую полноту изложения истории этого вопроса, пусть даже ограниченного названным направлением современной мысли. Здесь также не место для того, чтобы добавить несколько удачных или неудачных строк к идущей внутри этого направления дискуссии по данному вопросу. Моя задача скорее — обратить внимание на те основания, которые как будто задают общие границы этой дискуссии, в целом разделяются ее участниками и имеют отношение к поставленному вопросу.
3.1.1. «Факт» и «вещь»: формулировка вопроса в ракурсе проблематики аналитической философии
На первый взгляд, сделать это совсем нетрудно. Чтобы ответить на заданный вопрос положительно, достаточно обратить внимание на тот факт, что в основании расселовской теории классов, столь много значащей для современной аналитической философии, философии науки и формальной логики, лежит представление об индивидуальном объекте как о чем-то, что безусловно представлено нашему вниманию как таковое, как некая целостность. Здесь не просто «имена вещей» составляют отдельный класс, но и разграничение отдельных классов отношений (одноместных, двуместных, т.д.) оказывается невозможным без такого представления. Далее, от него должно, скорее всего, зависеть само различение имен и пропозиций, равно как и возможность отличить отношение от имени.
Однако этот вывод вряд ли удержит свою однозначность, если обратиться к понятию «факт», как оно было развито Витгенштейном и Расселом. И если внимание к этому понятию как таковому несколько сужает поле зрения, то это более чем компенсируется тем, что разрабатываемая в этой связи концепция далеко выходит не только за границы собственных учений названных философов, но, скорее всего, и за границы самой аналитической философии.
Для понимания сути этого понятия едва ли не кардинальное значение имеет замечание Рассела, когда он говорит, что
рассмотрение проблемы комплексности должно начинаться с анализа фактов, а не с анализа явно комплексных предметов,
поскольку
анализ явно комплексных предметов… может быть различным образом редуцирован к анализу фактов, которые явно относятся к этим предметам [Рассел, с. 18].
«Предметом», который имеет в виду Рассел, является не просто единичная вещь как одна из целого класса подобных, но вещь одиночная, обладающая именем собственным, следовательно, та, на которую как будто безусловно можно указать как на «вот этот» объект. И тем не менее «Пикадилли» для Рассела — предмет, как он говорит, комплексный. (Ведь «Пикадилли» вчера — не то же, что «Пикадилли» сегодня, или «Пикадилли» для водителя автомобиля — не то же, что «Пикадилли» для пешехода.)
Важнейшая характеристика этой комплексности состоит в том, что ее очень трудно уловить. Начать с «факта» поэтому — гораздо проще и понятней, и гораздо полезней для целей построения правильного знания о мире. Поэтому сам мир, по известному выражению Витгенштейна, есть «целокупность фактов, а не вещей». Факт, а не вещь, становится первичным и элементарным объектом внимания — и в онтологическом, и в эпистемологическом аспектах. Не случайно замечание Витгенштейна о том, что
вещь самостоятельна, поскольку она может наличествовать во всех возможных ситуациях, но самостоятельность такого рода есть форма взаимосвязи с со-бытием, некая форма несамостоятельности. (Невозможно, чтобы слова выступали двумя разными способами — сами по себе и в предложении) [Витгенштейн 1994, 2.0122][2].
Именно поэтому носителем истинностного значения выступает пропозиция (не будем обращать сейчас внимания на критику релятивистского толка в адрес этого тезиса), но никогда не имя; и напротив, пропозиция не может выступать в качестве имени. На это фундаментальное различие и указывает Витгенштейн в словах, взятых в скобки (ставя вместе с тем вопрос о его оправданности). Однако факт, вероятно, должен схватываться пропозицией, а никак не именем; как самостоятельность вещи уступает место ее несамостоятельности в отношении события, так и самостоятельность имени должна уступать свое место его несамостоятельности в отношении пропозиции.
3.1.2. Язык и метаязык, язык и мышление
Что такое понимание содержит в себе круг, увидеть нетрудно. Возможность построения пропозиции определяется наличием имени, то есть того, что указывает на единичную вещь как таковую; но как таковая единичная вещь — лишь конструкт из совокупности фактов, выражаемых пропозициями. И дело не собственно в том, что это круг; такой логической погрешностью можно было бы (как это фактически и делает Рассел) пожертвовать ради построения успешного языка, пригодного для описания фактов науки и правильного схватывания нашего отношения к миру. Дело в следствиях этого круга, которые легко просматриваются даже в приведенном элементарном изложении. Они заключаются в том же, что выявил Тарский в своей семантической концепции истины: «метаязык» и «объектный» язык должны непременно различаться, при этом метаязык должен быть богаче объектного языка. Сама концепция факта, равно как и выстраиваемый на ее основе язык, блестяще разработанный и разрабатываемый современной логикой, несут в себе не просто возможность, но фатальную неизбежность такого разделения: язык, на котором мы описываем свою теорию (свою философскую концепцию), предполагает понятие «единичный объект» как предшествующее понятию «отношение», тогда как язык самой нашей теории (нашей философской концепции) утверждает нечто противоположное. Речь в данном случае, таким образом, не просто о несовпадении двух языков или принципиальной необходимости их разделения, но и о том, что можно назвать противоречием между ними: теория высказывает свое кардинальное положение на языке, сформулированном так, что относительно него самого такое положение в принципе неверно. Язык говорит то, что не относится к нему самому; язык как будто неким решительным, богоподобным действием выносит себя за пределы собственной юрисдикции: язык готов описать все что угодно, при том непременном условии, что в это «все» не будет включен он сам.
Безусловно, понятие «факт» в его интерпретации Витгенштейном и Расселом не может не напомнить понятие «структура», разрабатывавшееся еще неокантианцами с целью построения «наук о культуре», как и концепцию «различия», развитую Делёзом. Эти протянутые в прошлое и будущее нити — не просто вольные ассоциации, но свидетельства того, что введение названного понятия отражает умонастроения, не ограничивающиеся горизонтом аналитической философии. Вряд ли будет неправильным сказать, что они сходятся в устремленности к тому, чтобы найти существенно иной путь к пониманию «отдельного» или «единичного», нежели тот, которым традиционно шла западная философия.
Именно «отдельного» или «единичного», а не «отдельной вещи» или «единичной вещи». Если этот акцент не всегда явен у других, то у основателей аналитической философии он вполне заметен. Речь не о том, что они изымают понятие «вещь» из философского лексикона. Речь о том, что этот акцент намекает на постановку кардинальной важности вопроса: чем является то, что изначально предстает нашему вниманию как «вот это»? Как мы схватываем то, о чем можем сказать «вот это»?
Отвечая (или как бы отвечая) на этот вопрос, аналитическая философия предлагает нам понятие факта и органично связанную с ним стратегию разделения объектного языка и метаязыка. Такое разделение — лишь проработка известного тезиса Витгенштейна, высказанного им как объяснение замысла «Логико-философского трактата» и многими воспринятого в качестве своеобразного лозунга:
Замысел книги — провести границу мышления, или, скорее, не мышления, а выражения мысли: ведь для проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мыслить по обе стороны этой границы (то есть иметь возможность мыслить немыслимое) [Витгенштейн 1994, Предисловие автора].
«Выражение мысли» таким образом кардинально отделено от того, выражением чего оно является; это уже, если воспользоваться хайдеггеровским приемом письма, «выражение-мысли», некое образование, способное на самостоятельность и даже на отделенность от самой мысли. Как ни парадоксален этот вывод, он находит подтверждение у самого Витгенштейна, который продолжает:
Такая граница поэтому может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей [Витгенштейн 1994, Предисловие автора].
Но что верно для мышления, верно и для языка: язык, проводящий границу выражаемого, стоит по обе ее стороны, а значит, выражает невыражаемое (осмысляет бессмысленное). Почему же Витгенштейн соглашается принять эту явную несообразность; более того, почему эта несообразность выступает для него как будто на острие его мысли, поскольку служит выражением едва ли не основного достижения его философии? Почему, иначе говоря, языку позволено то, что не позволено мышлению?
Такое оказывается возможным только потому, что мышление и язык здесь принципиально неравноправны. Они соподчинены таким образом, что второй служит инструментом первого. Инструментом немаловажной операции: мышление ведь устанавливает не что иное, как границу осмысленности. Мышление оказывается как будто вольно решать, что осмысленно, а что нет, и затем устанавливать, какие выражения языка удовлетворяют выдвинутому условию, а какие нет; что, следовательно, имеет смысл, а что нет[3]. — Но каким образом, спрашиваю я, мышление может быть способно к такой операции над языком, при которой язык оказывается внешним для мышления, его объектом? Как мышление мыслит осмысленность, чтобы затем придать ее языку, если язык при этом — вне его? Ведь если мы признаем, что мышление пользуется для формулировки правил осмысленности тем же языком, относительно которого они формулируются, мы получим тот самый парадокс, от которого хочет уйти Витгенштейн, который он, более того, и стремится разрешить. Признание неизбежности разделения мета- и объектного языков — естественный (и, возможно, единственный в этой парадигме) способ избежать этого противоречия.
Но дело, как говорилось, не только в разделении двух языков как таковом, но и в их принципиальном соподчинении. Правила построения самой теории выражаются метаязыком, тогда как высказывания об описываемом теорией мире строятся на объектном языке. В данном случае важно не само это хорошо известное положение, а тот факт, что метаязык — на каком бы уровне он ни формулировался — оказывается всякий раз вне критического исследования собственных оснований: он — инструмент рефлексии, но сам недоступен этой рефлексии. Пожелав подвергнуть его таковой, мы просто превратим его в объектный язык и примем некий другой язык за метаязыковое средство его анализа.
Такое построение метаязыков будет отодвигать нахождение решающего инструмента кардинального понимания (понимания самих основ нашего понимания) в бесконечность[4], а потому на каком-то шаге должно быть остановлено. Это, конечно же, как раз та необходимость, на которую ссылается А. Вежбицкая, прибегая к авторитету Лейбница. Если я указываю на это довольно очевидное обстоятельство, то для того, чтобы сделать два вывода. Во-первых, стратегия выяснения осмысленности языка, предложенная и во многих вариантах реализованная в аналитической философии и зависимых от нее течениях мысли, занята разделением того, что считается осмысленным и бессмысленным при принимаемых на веру кардинальных условиях осмысления, когда — вне рефлексии аналитика и независимо от нее — выполнены предельные условия формирования смысла как такового (или — можно сказать и так — наличествуют предельные условия понимания как такового): здесь лишь формулируются условия принятия в качестве «осмысленных» уже понятых выражений. Эта стратегия вполне подпадает, таким образом, под выраженное Лейбницем ограничение, никоим образом не снимая его. Поэтому, во-вторых, та апелляция к смысловым единицам (субстанциальным смыслам), на которой построена исследовательская программа А. Вежбицкой, вряд ли связана просто с принятием атомарной теории значения в каком-либо из ее вариантов. Скорее она выражает необходимость наличия неких субстанциальных смыслов, которые предшествуют всякому пониманию уже потому, что только с их помощью понимание может начаться[5], а значит, только после этого может быть построена любая концепция значения, будь то атомарная или холистская: вопрос о наличии таких субстанциальных смысловых единиц лежит поэтому глубже проблемы разграничения двух типов концепций значения.
Именно этот пункт и заботит меня, когда я спрашиваю об оправданности представления о предзаданности неких субстанциальных смыслов всякому акту понимания. Но я формулирую свой вопрос с учетом некоторых основополагающих идей аналитической философии, что позволяет выбрать соответствующий ракурс его модификации. Я спрашиваю поэтому о том, насколько оправданным является представление о безусловной и однозначно-определенной возможности референции к простому объекту. Я при этом имею в виду, что между этими двумя аспектами существует прямая связь (если они вообще не равнозначны), и именно в этом смысл такой постановки вопроса.
3.2. Решающие основания понимания и объективность внешнего мира (два аспекта вопроса)
Необходимы два предварительных разъяснения.
Во-первых, речь не о том, как можно выстроить референцию к простому объекту, речь о том, что она возможна в принципе как обращение к «вот этому». В последнем вряд ли кто-то сомневается всерьез; и когда Куайн говорит, что
нет ничего более достоверного, чем существование внешних вещей [Куайн 1998, с. 322],
то это оказывается констатацией не просто отправной точки здравого смысла, но и той уверенности, без которой вряд ли возможна философия, именующая себя «научной». Мой вопрос относится к тому, что представляет собой границу между солипсизмом как принимаемой всерьез неуверенностью в существовании внешнего мира и безусловно господствующей противоположной точкой зрения, которая при всей ее привлекательности не может предложить в качестве своего обоснования ничего, кроме соображений здравого смысла. Но если я здесь не согласен некритически принять вторую точку зрения, то не потому, что склоняюсь к первой. Я задаю свой вопрос, чтобы понять, как возможно формирование «вот этого», попадающего в поле нашего внимания в качестве простого объекта референции. Подчеркну логическое предшествование этого вопроса вопросу о выстраивании референции: как она возможна и как может быть выстроена, зависит от того, каков «вот этот» объект, ставший в поле нашего внимания. Быть может, наличие внешних вещей и в самом деле представляет собой нечто самое достоверное на свете; вопрос в том, как формируется то, что выступит для нас в качестве «вот этой» внешней вещи. И если для Куайна такой вопрос вполне решен существованием внешних рецепторов человека, которые и дают как будто объективное «вот это» внешнего мира (с чем при всех возможных усложнениях все же согласятся приверженцы антименталистских концепций значения), то я намерен показать, что он требует принятия несколько более сложной картины. Предлагаемое решение позволяет не только увидеть вариативность внешнего мира (то, что я называю параллельностью логик смысла), но и одновременно обосновать его объективность (а не просто принимать ее на веру), которая вместе с тем перестает быть простым эквивалентом внешней предзаданности субъекту.
Во-вторых, вопрос о возможности референции к простому объекту в связи с проблемой оснований понимания не означает игнорирования серьезных попыток современной философии уйти от такого представления как фундамента выстраивания знания о внешнем мире. Однако такие попытки всегда ограничены и, даже если предпринимаются всерьез, не касаются метаязыка — то есть, собственно, самих оснований понимания. Мой вопрос поэтому вполне сохраняет свою правомочность.
Трудно не высказать предположение, что названные два обстоятельства как-то связаны. Вынужденная апелляция к здравому смыслу вместо действительного обоснования объективности внешнего мира не может не иметь отношения к неясности для нас того, как мы понимаем внешний мир; как он, собственно, становится для нас — внешним миром. Вот почему в этом вопросе — метафизический фокус поднятой проблематики. Понятие «смысл» имеет к этому прямое отношение. Я ввожу его, чтобы указать на процесс, в котором осуществляется овнешнение того, что изначально не стоит ни по одну из сторон разделения внешнего и внутреннего. В этом процессе формируется внешнее как осмысленность — как то, что в качестве «понятого смысла» будет увидено как наше внутреннее. Что это именно формирование, я и стремился на протяжении этой книги постоянно подчеркивать, указывая также, что такое формирование может быть схвачено в своих существенных чертах.
3.2.1. Референция к внешнему
объекту и решающие основания понимания:
окончательная формулировка вопроса, позволяющая применить метод контрастного понимания
Теперь можно более отчетливо сформулировать вопрос о взаимосвязи представления о том, что любому акту понимания (формирования осмысленности) обязательно предпосланы некие субстанциальные интуитивно ясные смыслы, и представления о безусловной возможности отсылки к внешнему объекту в акте референции. Следуя методу контрастного понимания, зададим вопрос: всегда ли (в любой ли культуре) одинаково выполняются эти условия? Напомню, что предположение об одинаковости того и другого составляет необходимую предпосылку универсалистской картины — во-первых, рациональности и, во-вторых, внешнего физического мира; а значит, заданный вопрос имеет отношение и к проблеме оправданности этой картины в ее обоих аспектах.
В самом деле, к чему отсылают нас слова «между огнем и водой», которые тождественны (для самой арабской культуры) выражению «огонь и вода»? Что представляет собой объект их референции?
Рассматривая этот вопрос в Главе I, я спрашивал: обстоит ли дело так, что такой референт принадлежит некой «предметной области», которая объективно и универсально (попросту говоря, одинаково) предзадана любому акту понимания, — или так, что объект референции формируется в ходе выстраивания самой референции? Нет смысла повторять этот вопрос здесь и проговаривать возможные ответы на него. Вместо этого рассмотрим, что необходимо, чтобы первый, универсалистский ответ был верен.
3.2.2. Проверка универсалистского ответа методом контрастного понимания
Один из аспектов такого ответа — представление о безусловной возможности отсылки к внешнему объекту в акте референции. Даже рискуя показаться кому-то навязчивым, я не могу не отметить еще раз отличие этой постановки вопроса от многих других, по внешней видимости весьма похожих формулировок проблемы, которые на самом деле принимают именно такую возможность как базовую очевидность, только на основании которой сами эти формулировки могут быть построены. Например, известная теория «радикального перевода» и невозможности отличить указание на часть кролика от указания на целого кролика (см. [Куайн 1969; 2000 (а), с. 43 и далее]) как будто напоминает то, о чем идет речь здесь. На самом деле сходство не более чем словесное: ведь радикальный перевод является таковым именно потому, что мы совершенно не знаем значения туземного «гавагай», и именно в силу этого, дабы быть в состоянии интерпретировать поведение туземца, указывающего пальцем на тушку животного, обязаны считать твердо установленным, что «гавагай» отправляют нас прямо к «вот этому» объекту. Такая твердая установленность и выражается «прямой стрелкой», как будто прочерченной от слова к референту и дублируемой указующим пальцем говорящего. Невозможность отличить при этом «вот этот» целый объект от «вот этой» его части уже зависит от того, что мы предварительно решим, что «гавагай» — некое единое слово, как таковое (то есть как единый, цельный и внутри-себя-неразъемный знак) отправляющее нас к своему референту: определяют характер референта после того, как референция установлена.
Заметим, что в отсутствие остенсии подобное представление также безусловно сохраняется: оно предпослано и самой теории радикального перевода, и отличающимся от куайновской концепциям как их общий базис. В этом смысле антименталистские теории значения вовсе не задумываются над тем, о чем идет речь в этой книге, принимая в качестве безусловной посылки тезис, просто исключающий какой-либо поиск в задаваемом мной направлении.
А направление это определено теперь уже вполне очевидным вопросом: на каком основании мы решаем, что «гавагай» — это нечто вроде нашего «кролика», или «лапки-кролика», или чего-либо еще в таком роде? Почему мы вслед за Куайном должны принять за очевидность, что наша интерпретация непременно ограничена парадигмой «целое-часть вот этого»? Если для нас, не знакомых с туземным языком, «гавагай» представляется звуковым единством, это вовсе не значит, что оно и в самом деле является неразъемной лингвистической единицей. Действительно, что мешает нам предположить, что «гавагай» — это сложное выражение, состоящее как минимум из двух слов? И почему бы ему с таким же успехом не состоять из двух слов, соединенных связкой «и»?
Как трактовала бы возможность такого предположения антименталистская концепция значения?
Спрашивая об этом, я подразумеваю и такой аспект: захочет ли эта концепция, и сможет ли, если захочет, увидеть здесь контраст пониманий? Сможет ли логико-смысловая теория, если не будет удовлетворены ее ответом, показать здесь действительный контраст? Это послужит развитием метода контрастного понимания, изложенного в Главе I.
Даже если «гавагай» предположительно оказывается выражением из двух слов, соединенных связкой «и», с точки зрения антименталистской концепции значения такое выражение будет служить своего рода составным словом (компаундом), чем-то вроде «тело-и-хвост», что, хотя морфологически и синтаксически и является разделяемым, но в сознании говорящего уже выступает как единый блок, функционирует в качестве единого знака. Если бы это было не так, если бы вместо «тело-и-хвост» в сознании говорящего присутствовали раздельные «тело» и «хвост», соединенные как таковые в некое составное (и потому разделяемое в сознании) «тело и хвост», он, скорее всего, показал бы двумя руками на тело и хвост одновременно или одной сначала на тело, потом на хвост. В этом случае мы, видимо, отличили бы такое двойное указание от одиночного и поняли бы, что «гавагай» на самом деле — составное выражение.
Такой ответ предполагаемого оппонента как будто вполне убедителен: он показывает, что, несмотря на введенное предположение, ситуация легко может быть проинтерпретирована как не требующая никаких гипотез относительно контраста пониманий. Однако эта интерпретация оказалась несвободна от по меньшей мере двух допущений. Во-первых, для составного выражения в качестве его предполагаемых частей пришлось подобрать слова, указывающие на части целого, а значит, интерпретация по-прежнему не вышла за пределы парадигмы «целое-часть вот этого». А между тем я спрашивал, что будет, если слова составного выражения не укладываются в эту парадигму. Во-вторых, если связка «и» функционирует самостоятельно, выступая действительным объектом понимания (а не будучи включена в компаунд в качестве чистого звука), она оказывается как будто вынесенной за скобки предложенной интерпретации. Да и в самом деле, как можно указать на «и»? Разве что тем, что одновременно две руки указывают на тело и хвост, или тем, что одна рука последовательно указывает на то и другое. Эти два варианта трактуются как равновозможные и, далее, как равно заставляющие нас проинтерпретировать их как указание на совокупность, то есть как «и». (Заметим в скобках, что результат двух разных указаний один и тот же: последовательное или одновременное выстраивание совокупности не имеет значения, и то и другое понимается как «и».) А между тем я спрашиваю, правильна ли такая интерпретация движений рук туземца; допустимо ли такое «прочтение» его намерений, прав ли интерпретатор, вынося «и» за рамки самого предположения о возможном контрасте, — ведь интерпретация, отвергнувшая контраст, была бы без этого просто невозможна.
В самом деле, представим, что туземное «гавагай» состоит из двух слов, ни одно из которых не указывает ни на кролика в целом, ни на какую-либо из его частей. Представим, что эти два слова соединены связкой «и» в совокупность, причем так, что результат этого соединения указывает на кролика как на референт. Способна ли антименталистская теория значения отличить такое указание от того типа указания, которое построено Куайном в концепции «радикального перевода»?
Конечно же, нет — она не содержит средств такого различения, поскольку вопрос о значении «и» попадает в ту область, что скорее всего должна быть квалифицирована как чисто ментальная. Поскольку эта область устраняется из рассмотрения самими предпосылками антименталистских теорий значения (которые считают такие значения безусловно фиксированными), они в лучшем случае способны поставить такое предпосылаемое рассмотрению менталистски сформированное значение в соответствие каким-то наблюдаемым феноменам внешнего мира (например, движениям руки, указывающей на предмет). Но такое, повторю, предпосылаемое акту наблюдения представление о значении «и» оказывается всякий раз одинаковым. Это значит, что концепция радикального перевода недостаточно радикальна, чтобы уловить возможное радикальное различие в значениях «и».
Однако и менталистские теории значения не слишком отличаются от антименталистских в этом отношении. Дело явно обстоит таким образом, что и в них «и» понимается как нечто самоочевидное, как связка, функция которой по меньшей мере в принципиальных границах как будто предопределена — предпослана самому пониманию. В самом деле, может ли «и» связывать два смысла таким образом, чтобы результирующий указывал на то, на что не указывают ни один, ни другой? Может ли быть, что мы принципиально ошибаемся, думая, будто одному указующему жесту туземца непременно соответствует нечто единое и цельное в качестве означающего слова, — а если означающих два (если они осознаются им как два) и они соединены связкой «и», то об этом дадут знать и соответствующий удвоенный жест туземца, стремящегося пояснить свои совершенно непонятные нам слова движениями руки?
Может — но только в том случае, если это некое иное «и», нежели привычное нам; нечто, что лучше и не считать за «и» или по меньшей мере признать, что такое «и» имеет совершенно непривычное, необычное значение, призывая на помощь тезис о полисемантичности «и». Однако эта оговорка, которую вынуждены сделать традиционные теории значения, — уже шаг к признанию того, что я называю контрастом пониманий. Ведь таким образом выясняется, что ситуация означивания, о которой я говорю, не может быть сконструирована, если связка «и» выступает в своем нормативном, привычном для нас значении, — в том, что составляет основание для ее понимания как выражения конъюнкции.
Чтобы это стало признанием контраста пониманий, остается ответить на последнее возражение традиционных теорий, состоящее в том, что в данном случае мы имеем дело не с контрастирующим пониманием того же, а с неким иным, «экзотическим» значением слова или же просто с другим словом. Если это верно, то совершенно не нужно совершать своеобразный скачок в другое «смысловое измерение», к которому обязывает признание параллельности логик смысла. И в своей системе семантических координат, заданных неизменными процедурами понимания, скажет воображаемый оппонент, мы можем найти подходящее истолкование. Пусть «гавагай» на самом деле состоит из двух слов, ни одно из которых не имеет референтом кролика или его часть, и пусть они связаны некой связкой — эта связка имеет совершенно иное значение, нежели привычное нам «и». Вопрос, таким образом, заключается в том, обязаны ли мы признать неизбежным такое дополнительное допущение (назовем его тезисом о полисемантичности) традиционных (не только антименталистских) теорий значения или же можно показать, что оно несправедливо, и нам не остается иного, как признать контраст пониманий?
Снизим немного планку радикальности незнакомства с туземным языком. Представим себе, что мы знаем, что «гавагай» и в самом деле представляет собой два слова, соединенные связкой «и». Это тем более допустимо, что читатель наверняка уже давно заметил сходство куайновского кролика в моей интерпретации с той «водой и глиной», по которой бил прутик в руке задумчивого спутника Мухаммеда, с «огнем и водой», между которыми предстояло погибнуть несчастному халифу в Главе I. Отмечу, что прагматика всех этих примеров свидетельствует о намерении ясно и недвусмысленно указать на некий предмет внешнего мира (даже в первом из разобранных там примеров загадочность относилась не к непосредственному значению слов «между огнем и водой», которое должно быть ясно для воспринимающего, а к истолкованию уже этого недвусмысленно воспринимаемого значения). Речь там не шла о каких-то специально сконструированных примерах, имеющих целью продемонстрировать нестандартность значения арабского «и» (или синонимичного ему арабского «между») или его парадоксальность. Поэтому, принимая в качестве гипотезы, что здесь мы имеем дело с нестандартным значением, мы рискуем вовсе не найти стандартного значения, а значит, теряем и почву собственного утверждения о нестандартности. Речь в этих примерах, безусловно, идет о ситуациях, которые могут быть описаны тем, что логики называют пропозициональным языком первого порядка, и которые удовлетворяют допущениям наивной семантики, согласно которой каждому имени может быть поставлен в соответствие объект внешнего мира. С этой точки зрения мой вопрос приобретает следующую формулировку: может ли референтом выражения «А и Б» служить такой объект, который не является суммой (как бы ни понималась «сумма») «А» и «Б», более того, такой, что на него не указывают ни «А», ни «Б» как таковые?
Кажется, мы должны ответить на этот вопрос отрицательно. И тем не менее приведенные примеры свидетельствуют о том, что верен противоположный, положительный ответ, — что сама арабская культура отвечает на него положительно. Если принять эти свидетельства во внимание, придется признать, что и на нашего кролика туземец мог указать одиночным жестом, хотя его «гавагай» — сочетание двух слов, осознаваемых как самостоятельные и соединенных связкой «и». Это будет, кстати говоря, означать, что сама остенсия может выстраиваться по-разному, и наивный натурализм, стремящийся убедить нас, будто мы безусловно в силах — без всяких предварительных условий и на универсалистских основаниях — истолковать чужое поведение, разъясняющее значения слов, вынужден будет сдать еще одну из своих позиций.
Более того, сфера релевантности такого положительного ответа не ограничивается областью разговорного языка. В другом месте[6] я имел возможность детально показать, что для физической теории, развитой мутазилитами, в качестве реального наблюдаемого объекта внешнего мира выступает такой, который сформирован как совпадение, выраженное связкой «и», двух других объектов, ни один из которых не обладает его качествами. Так, смысл «атом времени» возникает как совпадение двух событий, каждое из которых совершается вне временноñго измерения; смысл «измерение пространства» возникает при совпадении двух частиц вещества, ни одна из которых не обладает этим пространственным измерением; смысл «движение» возникает при соположении двух атомарных состояний тела, ни одно из которых не является ни движением, ни покоем. Должны ли мы считать, что и во всех этих случаях речь идет о нестандартном значении «и»; или же мы скорее признаем, что само объединение двух является процедурой, которая, хотя и остается именно объединением (а значит, представляет собой именно «и»), тем не менее совершается настолько иначе, что ее результат остается для нас странным, сбивающим с толку, в такой степени необычным, что мы скорее примем на веру любые устраняющие его гипотезы, нежели признаем его истинность?
Почему же мы готовы столь упорно сопротивляться такому признанию? Не потому ли, что подходим здесь к интуитивно ощущаемым границам рациональности, преступание которых грозит разрушением самих оснований осмысленности? К тому, что, по словам Лейбница, обосновывает любое понимание? Если это так, то каковы эти основания? И если сами подобные основания, принимаемые в разных культурах, контрастируют, то каким образом возможно взаимопонимание таких культур? Вот два вопроса, которые будут направлять ход дальнейших размышлений. Ответ на первый из них я считаю решающим доказательством контраста пониманий, показывающим, почему его признание столь затруднено, — но вместе с тем становится совершенно очевидным после такого разъяснения.
3.3. Интуиция пространственно-временных отношений как предельное условие понимания
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к теории множеств в ее наиболее простом варианте, чтобы рассмотреть основания, делающие ее интуитивно понятной. Такое обращение тем более оправдано, что теоретико-множественные понятия играют первостепенную роль в логическом формализме, а значит, далеко не безразличны для текущих рассуждений.
В Главе I, § 1.2.1. Описание логико-смысловой конфигурации я рассматривал процедуру формирования смысла согласно логике смысла, релевантной для классической арабской культуры, отталкиваясь от ее иллюстративного представления (Рис. 3). При этом дело обстояло таким образом, как если бы определенная интуиция пространственных отношений, воплощенная в этом рисунке, вместе с тем отражала исследуемую интенцию смыслополагания. Я как будто стремился, изменив пространственное соположение областей, принятых за отражение областей смысла, изменить тем самым и смыслообразование; показать, каким образом результирующий смысл зависит от стратегии пространственного соположения исходных смыслов. Иллюстрация отражала не временныñе, а только пространственные отношения между сополагаемыми смыслами. Вместе с тем в ходе анализа этой иллюстрации оказалось, что учет временныñх соотношений принципиален для понимания сути процедур смыслополагания.
В Главе II, § 1.1.3. Контраст с привычными интуициями теории множеств я обратился к теории множеств в силу того, что нормативный для нее тип иллюстраций удивительно напоминает тот, с помощью которого в Главе I была отображена моя гипотеза. Тогда было решено, что Рис. 3 скорее всего может быть сопоставлен с кругами Эйлера, иллюстрирующими операцию пересечения двух множеств. Вместе с тем было показано, как понимание как будто одной и той же «картинки» различается в зависимости от логики смысла, лежащей в основании понимания. Было также продемонстрировано значение учета временныñх отношений, которые как будто не находили отражения на иллюстрациях.
Эта стратегия вряд ли была случайной. Не следует ли принять во внимание ее свидетельства, обсуждая вопрос о характере интуиции, ближайшим образом обосновывающей процедуры смыслоформирования и смыслопонимания? Если эти свидетельства верны, то в качестве таковой следует рассматривать интуицию пространственно-временных отношений.
Не будем здесь обсуждать вопрос о том, может ли эта интуиция считаться первичной, или она, напротив, сама лишь разворачивает какую-то иную интенцию нашего отношения к миру. Сейчас предстоит заняться иным: рассмотреть, что конкретно означает тезис об интуиции пространственно-временных отношений как основании смыслополагания и каким образом такая зависимость может быть строго описана. Обращение к теории множеств поможет одновременно решить, может ли ее формализм служить адекватным выражением интуиции, о которой идет речь, — ведь и теория множеств апеллирует к образной очевидности пространственного виñдения. Она как будто движется в направлении, схожем с тем, которое я избираю в качестве магистрального, когда говорю о пространственно-временной интуиции как основании смыслополагания.
Насколько верен этот тезис; насколько положения теории множеств зависят от таких интуиций? Насколько в таком случае подходит эта теория для того, чтобы отразить высказанные здесь положения и служить если и не вполне готовым языком строгого рассуждения на эту тему, то по меньшей мере образцом для создания такового?
Можно сформулировать этот вопрос и в более острой форме: является ли теория множеств действительно универсальным инструментом для выражения предельных интуиций, которые руководят формированием смысла, или она сама отражает лишь определенный модус этих интуиций, их определенную оформленность, в силу этой определенности исключающую из рассмотрения прочие возможности?
3.3.1. Трактовка «и» как объединения двух множеств
Если мы имеем дело с пропозициональным языком первого порядка, который хорошо трактуется наивной семантикой, то интересующее нас выражение «А и Б» может интерпретироваться как объединение двух множеств. Если туземец говорит нам «тело и хвост» (напомню, осознавая их как раздельные), то референт этого выражения — тело и хвост кролика, на которые он укажет каким-то двойным движением. Эта идея отражена нормативной иллюстрацией, наверняка хорошо знакомой читателю:
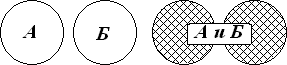
Здесь заштрихованные круги представляют собой объединение двух множеств, то, что можно считать референтом выражения «А и Б».
Легко видеть, что этот же рисунок иллюстрирует референцию, когда в сознании говорящего «тело-и-хвост» слились в нераздельный знак: в таком случае референтом служит только правая часть (заштрихованные круги), тогда как левая часть, то есть отдельные множества «А» и «Б», в качестве самостоятельных не фигурируют. Вместе с тем и в этом случае сохраняется возможность своеобразного «обратного хода», как будто восстанавливающего логику получения этого единого референта как объединения двух самостоятельных. Об этом и говорил Витгенштейн, разбирая «дважды два дают четыре»: на самом деле «есть», указывал он, именно «четыре», а не двойное взятие двух, дающее четыре; форма языка вводит нас в заблуждение, писал Витгенштейн, представляя видимость вывода там, где такового нет, где имеется просто результат, — а точнее, то, что было бы результатом, если бы такой вывод имел место. Такое рассуждение очень понятно, очень зримо в случае естественной семантики, где каждое имя имеет референт в области действительно существующих объектов. Оно, кстати говоря, совсем не обязательно сохраняет свою убедительность, если мы имеем дело с иными объектами. Вопрос о соотношении логической и онтологической необходимости в их связи с логико-смысловой необходимостью должен стоять отдельно; здесь можно лишь отметить значение этого примера для данной проблематики.
Если бы мы захотели отразить соотношение между левой и правой частями Рис. 5, мы, скорее всего, сделали бы это следующим образом:
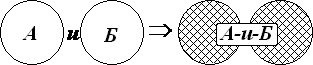
То же в отсутствие иллюстрации записывалось бы как «А и Б Þ А-и-Б».
3.3.2. Попытка отразить действие альтернативного «и»
Теперь представим себе, как при таком же подходе будет отражена высказанная мной гипотеза относительно того, что могло бы скрываться за туземным «гавагай».
Помощь в этом окажет Рис. 3, интуиции которого отразим так, как если бы они были выражены в теоретико-множественной форме:

Теперь, сопоставив Рис. 6 и Рис. 7, мой предполагаемый оппонент легко сделает вывод: на самом деле речь идет не об объединении двух множеств, а об их пересечении. Но пересечение — также одна из основных операций над множествами; к тому же ее, как известно, допустимо рассматривать в качестве реализации одного из значений «и». В таком случае нет ничего необычного в туземном способе выражения; надо лишь разглядеть правильное значение использованного там «и». Дело благополучно разъясняется критикой употребления слов, в которой тезис о полисемантичности вновь играет свою роль; да и в самом деле, разве не шла речь именно о пересечении, когда в Главе II, § 1.1.3. Контраст с привычными интуициями теории множеств рассматривались драконы, ползающие и летающие?
Точку зрения оппонента можно выразить и следующим образом. Если результатом какого-то соотнесения множеств «А» и «Б» является нечто единое, как область пересечения на Рис. 7, а не такое, что сохраняет в самом своем строении «следы» сложенности из двух, как на Рис. 6 (а такова ведь единственная значимая разница между правыми частями Рис. 6 и Рис. 7, которую замечает оппонент), то во втором случае (Рис. 7) не может иметь место объединение.
Такая уверенность относится к устройству мира, а не просто нашего знания; она выходит за пределы чистой эпистемологии. Верно, что есть именно «четыре», а не «дважды два»; но так же верно и то, что это сущее «четыре» не может служить результатом для «трижды два». Даже когда мы не способны увидеть в «вот этом» никакого процесса, никакого следования, мы тем не менее твердо знаем по меньшей мере относительно некоторых процедур вывода, что они не могут иметь касательства к «вот этому».
Так и с нашим «гавагай»: его единичный референт не может быть результатом какого-то суммирования двух, выраженного через «и», говорит мне воображаемый оппонент; а когда я попытался отобразить такое суммирование, он с облегчением воскликнул: так и есть, речь не об объединении двух множеств, а об их пересечении!
Стоит внимательнее взглянуть на то, что лежит в основании такой уверенности.
3.3.3. Зависит ли результат соположения двух множеств от логико-смысловых отношений?
3.3.3.1. Объединение и пересечение как два значения «и» в традиционной теории множеств
Обратимся к традиционной теории множеств.
Определение операции объединения двух множеств здесь представляется интуитивно ясным. Это определение гласит, что, если некоторый элемент принадлежит хотя бы одному из множеств «А» или «Б», он тем самым принадлежит области их объединения «А-и-Б».
Точно так же интуитивно понятно определение пересечения: если некоторый элемент принадлежит одновременно и множеству «А», и множеству «Б», он тем самым принадлежит области их пересечения «А-и-Б». Существенным для такого определения пересечения и неотъемлемым от его понимания является интуитивное представление о возможности одновременного указания на такой элемент как на занимающий как пространство множества «А», так и пространство множества «Б». Не случайно графические иллюстрации частично перекрывающихся кругов пробуждают в воспринимающем сознании искомую интуицию, которая обосновывает понятия, фигурирующие в определении.
Таким образом, операция пересечения оказывается интуитивно понятной как указывающая на пространственную одновременность наличия. Но область пересечения двух множеств — это область их совпадения. Не значит ли это, что вместе с интуитивным основанием понимания пересечения нам открывается и интуитивное основание понимания совпадения?
В самом деле, совпадение, о котором идет речь, имеет достаточно определенные черты. Совпадение осуществляется как одинаковость пространства и времени наличия[7].
Не будет неоправданным предположение о том, что именно такой ход мысли восстанавливает (не обязательно рефлексивно) оппонент, рассматривая Рис. 7. Это и позволяет ему без сомнений заявить: связка, о которой идет речь, может и в самом деле на филологическом уровне, «в словаре», фигурировать как «и», но это «и» имеет значение, отражаемое как пересечение двух множеств, а не то, которое отражено как их объединение.
3.3.3.2. Отражает ли пересечение двух множеств интуиции контрастирующего понимания?
Служит ли такое рассуждение оппонента полным разъяснением заданного вопроса?
Вряд ли — потому что при всей своей стройности оно упускает как раз наиболее в нем существенное. Ведь я спрашиваю, может ли «гавагай» таким образом состоять из двух слов, что ни одно из них не указывает ни на целого кролика, ни на его часть, но при этом их объединение указывает на него. В ответ было сказано, что такая операция получения единого референта, если ее отразить с помощью теории множеств, окажется на самом деле пересечением, а не объединением. Однако это «на самом деле», как будто разъясняющее значение туземного «и» и строго определяющее его, совершенно игнорирует первое условие вопроса. Ведь если «А и Б Þ А-и-Б» выражает операцию пересечения в ее традиционном теоретико-множественном понимании (а на этом настаивает оппонент), то неверно, что ни «А», ни «Б» не указывают ни на целого кролика, ни на его часть.
Сложившуюся ситуацию можно описать и таким образом. Согласно теоретико-множественной интерпретации, референция не может быть построена так, как я предполагаю. В понятиях теории множеств невозможно отразить ее как объединение двух множеств при указанных мной условиях (объединение двух множеств дает нам «кролика», хотя ни одно из объединяемых не принадлежит ни «кролику», ни какой-либо части «кроличьего» множества).
Вместе с тем теория множеств может предложить свою интерпретацию обсуждаемой ситуации. Она состоит в том, чтобы прочесть обсуждаемый способ выстраивания референции как пересечение двух множеств. Такое прочтение в самом деле позволяет трактовать референт «гавагай» (я предполагаю, что это две лингвистические единицы, соединенные союзом «и») как некий простой объект, но только в том случае, если: 1) «и» выражает пересечение, а не объединение двух множеств, и 2) в силу этого (поскольку имеет место пересечение) неверно, что референты двух соединенных союзом «и» слов никак не включены в результирующее множество. Теория множеств как бы говорит: если вы настаиваете на такой интерпретации «гавагай», которая отражала бы также рассмотренные в Главе I реальные примеры, вам придется изменить понимание самих этих примеров, чтобы исходные условия позволили их удовлетворительную интерпретацию теорией множеств.
Итак, теория множеств предлагает отказаться от попыток трактовать обсуждаемые случаи референции как объединение двух множеств. Если бы дело касалось только гипотетического радикального перевода, усиленного в своей радикальности за счет названных предположений, с этой априорной уверенностью стоило бы согласиться. Но я использовал в этой главе куайновский пример только для того, чтобы показать, как он соотносится с реальными примерами референции, которые предоставляет классическая арабская культура. То, что верно для усиленного мной «гавагай», должно быть верно и для всех обсуждавшихся в Главе I примеров: теория множеств запрещает интерпретировать их как указание на множество, которое является результатом объединения двух множеств, тому множеству не принадлежащих.
Однако в названных примерах (а они идентичны разбираемому «гавагай») имеет место самая простая, наивно-семантическая ситуация обозначения, прагматический контекст которой вовсе исключает намеренную парадоксальность. Говоря о них, мы обязаны предполагать, что предметная область референции представлена «вот этими» вещами мира, доступными ощущению и наблюдению. Эти примеры, иначе говоря, таковы, что, исходя из их характера, мы должны считать, что они предполагают объединение (выраженное союзом «и» или синонимичными языковыми средствами) исходных двух единиц как способ получения третьей, являющейся как будто простым объектом внешнего мира (и при этом не связанной с исходными двумя отношениями взаимного включения). Между тем теоретико-множественная интерпретация совершенно исключает такую трактовку. Это означает, что реальные примеры, о которых говорилось в Главе I, не могут быть проинтерпретированы теорией множеств, хотя по сути своей они таковы, что непременно должны допускать теоретико-множественную трактовку.
Сложившаяся ситуация может быть разрешена двумя способами. Если считать интуиции, лежащие в основании теории множеств, безусловно универсальными, следует потребовать переинтерпретировать приведенные в Главе I примеры так, чтобы они допускали теоретико-множественную трактовку. Такая переинтерпретация потребует множества допущений ad hoc и затронет материал не только Главы I, но и Главы II (не говоря уже о примерах, не вошедших в текст этой книги). С другой стороны, если попытаться избежать таких искажающих допущений, подгоняющих материал культуры под возможности интерпретирующей теории, придется признать неуниверсальность базовых понятий теории множеств и проясняющих их интуиций. В этом случае ситуацию придется характеризовать как конфликт оснований рациональности.
Конфликтность этой ситуации следует из того, что теория множеств, чтобы оказаться в состоянии интерпретировать описанные примеры, требует изменить их понимание фактически целиком. Семантическая материя построений, описанных в Главах I и II, должна быть преобразована едва ли не полностью, чтобы удовлетворять отмеченным чуть выше двум условиям теоретико-множественной интерпретации (чтобы, скажем, «утвержденность» оказалась соединением «существования» и «несуществования» или чтобы «между» «водой и глиной» оказалась «грязь»). Интересно, что конфликт затрагивает не смысловую наполненность отдельных единиц, а отношения между ними, — и уже только в силу того, что сама смысловая наполненность любой единицы определяется (в том числе) ее отношениями с «соседними» смысловыми единицами, конфликт понимания отношений ведет и к конфликтности понимания смысловой «субстанциальности». Ведь если говорить отдельно о «воде», «глине», «существовании» или даже «утвержденности», в них как таковых не заключено ничего, в чем наше понимание нашло бы след необычности (даже в последнем случае мы скорее всего скажем, что «утвержденность» как понятие нам неизвестно или плохо известно, но не станем настаивать на его плохой интерпретируемости). И только когда нам требуется объяснить отношения между этими как будто простыми вещами или понятиями, мы оказываемся в ситуации конфликта с нашими априорными представлениями и интуициями, отраженными, в частности, и теорией множеств. Вот почему я говорю, что способ обращения со смысловыми единицами должен рассматриваться как логически первичный в отношении их содержания, как, иначе говоря, это содержание формирующий, по меньшей мере до некоторой степени[8]. Рассмотрение отдельных смысловых единиц самих по себе и их рассмотрение во взаимной связи различаются[9].
Вряд ли стоит специально говорить, что описанная ситуация обычно расценивается в пользу представлений об универсальности привычного нам и фундаментального для нашей рациональности способа обращения со смысловыми единицами; в частности, в пользу универсальности того, что было описано выше как базовые понятия и базовые интуиции теории множеств. Что платой за это является неспособность адекватно увидеть строение рассматриваемых смысловых структур, было, кажется, достаточно подробно показано в этой работе: примеры, разобранные во второй главе, показывают, что теряет (и не может не терять) из виду подобный подход и что приобретает альтернативный, предлагаемый мной. Этот альтернативный подход стремится сохранить существенные черты рассматриваемых смысловых феноменов и не жертвовать ими, приспосабливая под возможности интерпретирующей теории, а построить вместо этого теорию, способную адекватно обращаться с эмпирическим материалом.
Этот подход расценивает рассматриваемую ситуацию как конфликт. Ведь я не могу изменить в своей исходной формулировке вопроса (или в рассматриваемых примерах) что-то одно, чтобы получить удовлетворительное теоретико-множественное описание ситуации: для этого приходится прибегать непременно к комплексным изменениям. Такая комплексная несовместимость двух точек зрения и названа в этой работе контрастом, а отношение между построенными в них смысловыми системами — параллельностью. Замечу, что речь именно о возможности трактовки референции реформированного «гавагай» и всех аналогичных примеров в терминах теории множеств, а не ее удовлетворительности. Смысловая система, опирающаяся на контрастирующую логику смысла, может быть проинтерпретирована на основании иной логики смысла, но такая интерпретация неизбежно влечет искажения. Этот тезис я неоднократно высказывал по ходу исследования. Теперь можно яснее увидеть, что подобное искажение не просто «сопровождает» такую интерпретацию, но составляет необходимое условие ее возможности: сама интерпретация начинается после того, как такое искажение осуществлено, на основе его приспосабливающего эффекта.
В чем же состоит этот приспосабливающий эффект? Иными словами, что именно в гипотетической ситуации обозначения сопротивляется привычной теоретико-множественной интерпретации?
3.3.3.3. Условия адекватной интерпретации альтернативного «и» как объединения, а не пересечения двух множеств
Контрастирующие смысловые системы не содержат средств прямого отражения друг друга. Это положение — лишь иное выражение тезиса о необходимом искажении, создающем приспосабливающий эффект. Оставаясь в пределах допущений, принимаемых воображаемым оппонентом (а они ограничивают, в частности, и традиционную теорию множеств как инструмент интерпретации), мы принципиально лишены возможности достичь адекватного отражения выдвинутой гипотезы. Чтобы сделать это, необходим своего рода «скачок», переносящий нас в иную систему семантических координат.
Построение объясняющей гипотезы
Поэтому поступим следующим образом. Я предложу трактовку, которая послужит полной и неискажающей интерпретацией гипотетической ситуации обозначения. Она покажет, благодаря чему остенсивное указание может быть устроено иначе, нежели предполагает оппонент. Тогда же станет ясно, благодаря чему оно вообще может быть выстроено — каким образом, иначе говоря, объект указания, или значение рассматриваемых языковых единиц, формируется в ходе выстраивания указания (а не просто присваивается как готовое). Это, во-первых, послужит разъяснением контраста пониманий, поскольку продемонстрирует, в чем именно такой контраст состоит, а во-вторых, станет ответом на вопрос о возможности указания на простой объект.
Интерпретируя Рис. 7 как нормативную иллюстрацию пересечения двух множеств, я говорил, что ее интуитивное понимание зиждется на представлении о возможности указать на результирующее множество как на занимающее пространство, являющееся одновременно пространством и множества «А», и множества «Б». Это дало возможность определить понимание пересечения как указание на пространственную одновременность наличия. Очевидно, что-то в этих интуитивных представлениях должно быть изменено, чтобы дать возможность иной интерпретации.
Представим себе следующее. Пусть результирующее множество присутствует в том смысле, что после множества «А» там же (то есть на его же пространстве) оказывается множество «Б». Это можно выразить и так: множество «А» сменяется множеством «Б», и область этой «смены» является областью результирующего множества «А-и-Б». Оно присутствует в том смысле, что «воплощает» в себе эту смену, или неодновременность пространственного наличия двух других множеств.
Повторю: сначала присутствует множество «А», затем там же присутствует множество «Б». Но где и как присутствует множество «А-и-Б»? — Оно, безусловно, присутствует иначе, нежели множества «А» и «Б». Это различие станет совершенно отчетливым, если рассмотреть так сконфигурированные множества по отдельности.
Рассматривая только множество «А», замечаем, что мы можем сказать о его элементах, что они «существуют», поскольку способны указать на одновременность их наличия на пространстве этого множества[10]. То же относится и к элементам множества «Б», если это множество рассматривается отдельно. Если же рассматривать множества «А» и «Б» во взаимном отношении, окажется, что они выступают друг в отношении друга в роли отрицания. Элементы множества «А» существуют, только если не существуют элементы множества «Б», и, наоборот, элементы множества «Б» существуют только тогда, когда не существуют элементы множества «А».
Это означает, что отношение отрицания здесь конституировано как временноñе различие пространственной тождественности. Пространства множеств «А» и «Б» совпадают, но первое наличествует прежде другого, а другое — после первого, и благодаря этому они выступают одно в отношении другого как отрицание.
Отрицая друг друга таким образом, множества «А» и «Б» образуют тем самым некоторое единство, будучи объединены самим фактом взаимного отрицания. Это их единство и представлено множеством «А-и-Б», которое я определяю как их объединение. Каким же образом оно присутствует для нас?
Множество «А-и-Б» присутствует в том смысле, что воплощает в себе наличие множеств «А» и «Б» независимо от их взаимного отрицания. Его область присутствия — то же пространство, что и пространство обоих множеств «А» и «Б», а способ наличия — присутствие на этом пространстве независимо от временноñй смены множества «А» множеством «Б». Эту независимость наличия элементов множества «А-и-Б» от смены множества «А» множеством «Б» я и называл взаимным переводом «А» и «Б». Множество «А-и-Б», таким образом, воплощает совпадение множеств «А» и «Б».
Начала метаязыка описания альтернативных условий понимания
Прежде чем проверить, насколько описанная модель соответствует предположенному способу выстраивания референции, уточним использовавшиеся термины. Ради краткости я буду называть привычную и традиционную теоретико-множественную трактовку объединения и пересечения (Рис. 6 и 7) нормативной, а ту, что была только что предложена — альтернативной.
Наиболее очевидное расхождение между двумя трактовками заключается в том, что альтернативная считает объединением то, что нормативная расценивает как пересечение. И дело не просто в том, что нормативная трактовка рассматривает некую конфигурацию двух множеств именно как пересечение, а не как объединение; дело в том, что она не может увидеть ее как объединение.
Коль скоро я предполагаю нечто противоположное, а именно, что такая конфигурация может рассматриваться как объединение[11], я должен предложить способ описания обеих трактовок, который хорошо бы объяснял и ту и другую. Требуется своего рода метаязык, способный в равной степени дистанцироваться от обеих точек зрения, встать как бы над ними, чтобы успешно и в одних и тех же терминах описать их обе.
Посмотрим, не содержит ли уже выполненное описание альтернативной точки зрения намека на возможность такого языка. Это ожидание оправдано тем, что, выстраивая ее, необходимо было выйти за пределы привычных и, как правило, незыблемых интуитивно полагаемых оснований рациональности, — а значит, оказавшись за этими пределами, можно было прибегнуть к тому, что не ограничено ими и чем, возможно, сами эти пределы и порождены.
В самом деле, я говорил, что для альтернативной точки зрения результирующее множество «А-и-Б» является объединением двух множеств «А» и «Б» потому, что представляет собой их наличие независимо от их взаимного отрицания. Не послужит ли это выражение хорошей формулировкой и для определения объединения двух множеств, как оно трактуется нормативной точкой зрения?
Похоже, что это так. Рис. 6 изображает два множества «А» и «Б» как не перекрывающиеся, а значит, не совпадающие ни в одном элементе. В этом смысле можно говорить, что их взаимное отрицание выступает максимально ярко. (Это будет отражено и тем, что пересечение таких двух множеств является пустым множеством.) В любом другом случае — частичное пересечение, частичное или полное включение одного в другое — взаимное несовпадение будет выражено мягче. В каждом из этих случаев объединение двух множеств также может быть описано как воплощающее их наличие независимо от их взаимного отрицания.
Коль скоро так, то в данном выражении, а точнее, в том, что делает его возможным, может быть заключено основание для построения искомого языка, способного равно успешно и равно дистанцированно описать обе точки зрения. Попутно замечу, что если верно предположение о том, что точки зрения, названные нормативной и альтернативной, отражают параллельные логики смысла, то такой язык может послужить успешному описанию разных логик смысла. Успешному в том смысле, что это описание будет выполнено на равно общем для параллельных точек зрения (параллельных логик смысла) языке, а значит, будет представлять собой не приспособление одной смысловой системы к тем средствам понимания и формирования смысла, что предоставлены альтернативной логикой смысла, не вынужденное искажение инологичной смысловой системы ради достижения приспосабливающего эффекта как необходимого условия понимания, — а их описание как равно необходимых, но различных результатов реализации какой-то общей для них обеих процедуры (интенции). Такое равенство в отношении к общему для двух логик смысла языку и отражает то, что названо здесь их параллельностью: они сводимы к такому общему, и только через такое общее — друг к другу; но их невозможно редуцировать одну к другой непосредственно, не учитывая этого общего уровня. Поскольку суть такого обобщающего языка состоит в том, что он дистанцируется от конкретного способа смыслополагания, будучи способным выразить не просто смысл как таковой, но и способ его формирования[12], то именно в направлении обнаружения такого языка и лежит решение проблемы межъязыкового перевода.
3.3.4. Адекватное понимание объединения двух множеств в альтернативной логике смысла
Попробуем представить, какой была бы успешная иллюстрация для описанной альтернативной точки зрения.
Нам, повторю, требуется отобразить тот факт, что результирующее множество «А-и-Б» наличествует на пространстве множеств «А» и «Б» независимо от временноñй смены одного множества другим; напомню также, что пространства множеств «А» и «Б» совпадают, но множество «А» существует только тогда, когда не существует множество «Б», и наоборот.
Удерживая в памяти Рис. 6 и 7, попробуем представить, насколько они адекватны названным положениям. Нам не придется напрягать свою фантазию, чтобы решить: эти иллюстрации в принципе не обладают таким свойством. Почему? Потому, что они по самому своему устройству статичны; они не могут отразить то, что было названо «временноñй сменой» пространства одного множества другим, поскольку не содержат средств отображения временныñх отношений. Это же касается, как нетрудно видеть, и принципа построения кругов Эйлера вообще: все они столь же далеки от учета временных отношений, как и приведенные иллюстрации.
Может показаться, что речь идет о пустяковой детали «технического» толка; в самом деле, разве трудно придумать средство для того, чтобы в статике имитировать временноñе движение? Конечно, в таких средствах нет недостатка: временнуñю смену можно отобразить и статично, так что нет никакой потребности изобретать некие движущиеся картинки, кинематографическую технику для решения поставленных мной иллюстративных задач. Однако вопрос вовсе не в том. Я спрашиваю: случайно ли, что для иллюстрации фундаментальных (недоказываемых, а значит, признаваемых интуитивно) положений традиционной теории множеств принят принцип неотображения временноñго следования? Случайно ли, что круги Эйлера выстраиваются как бы в вечностном измерении, так, как если бы им вовсе не было нужды отражать временнуñю изменчивость?
3.3.4.1. Набросок теоретического описания
Неизменность и смена
Говоря об этом, я вовсе не имею в виду, как легко заметит заинтересованный читатель, интуитивистскую критику платонических оснований математического мышления. Такая критика ведь вряд ли выходит за те пределы, о которых здесь идет речь, поскольку полагает нужным обратить внимание на процесс временноñго разворачивания — но временноñго разворачивания того, что как таковое остается неизменным и в вечности[13]. Я же хочу указать на нечто иное. Я хочу указать на тот факт, что предмет может предполагать собственную сложность не как внутри-себя-находящуюся.
В том случае, когда сложность полагается как внутренняя, она в принципе может быть развернута как бы одновременно, сразу вся, или — что то же самое — как будто вне времени. Отсюда возможность вечностного отображения так понимаемой сложности. Но что если сложность полагается не так; если она полагается таким образом, что никогда не может быть развернута сразу; если она может быть развернута только как смена; если она, таким образом, в принципе не предполагает неизменности в том понимании последней, к которому мы столь привыкли; если она предполагает неизменность иначе, нежели мы привыкли: неизменность как смену; как неизменность смены или, точнее, как неизменную необходимость смены? Если такая неизменность осуществляется как неизменность данного смысла, предполагающего собственную сложность как смену в него не входящего, внутри него не полагаемого? Если, таким образом, неизменность осуществляет себя как смена — но не собственная смена, конечно же, а смена собственной внеположной сложности?
Это предположение хорошо согласуется с семантическими фактами, изложенными в Главах I и II; оно обосновывает и гипотезу относительно того, что могло бы скрываться за «гавагай» туземца и что так и не попало в поле зрения концепции радикального перевода[14]. Чтобы обрести более четкие очертания, не дающие ему вылиться в чистую риторику, это предположение должно быть дополнено двумя наблюдениями, которые придадут ясность соотношению между тем, что названо «неизменностью» и «сменой», и покажут, что полагать смену в качестве условия неизменности не только можно, но и при определенных обстоятельствах просто необходимо.
Семантический скачок и временныñе отношения
Первое из этих наблюдений заключается в том, что неизменное и сменяющееся относятся друг к другу таким образом, что предполагают смысловой скачок при переходе от одного к другому. Если интерпретировать это положение в пределах допущений наивной семантики, требующей отсылки к вот-этим предметам внешнего мира, оно будет означать, что выражение, состоящее из двух слов, соединенных связкой «и», имеет в качестве своего единого референта (референта целого выражения) некий один предмет внешнего мира (пусть это будет целый кролик либо его часть), но каждое из слов, составляющих это сложное выражение, взятое по отдельности, имеет в качестве референта предмет, не принадлежащий тому множеству, которое мы можем мыслить как множество частей кролика или как состоящее из единственного элемента — самого кролика. Конечно, «принадлежность множеству» остается здесь, как и вообще в теории множеств, расплывчатым понятием, основанным скорее на интуиции, нежели на возможности строгого определения. И тем не менее сказанное остается верным: если предполагать, что за «гавагай» скрывается что-то, что стоит к «кролику» в таком же отношении, в каком «огонь и вода» стоят к «пару» или «бане» (можно взять и любые другие примеры из Главы I, которые безусловно требуют именно наивно-семантической интерпретации), то референты отдельных составляющих «гавагай» вряд ли будут признаны входящими в «кроличье» множество. В этом и заключается необходимость семантического скачка при переходе от одного к другому — даже в том случае, когда референтами служат «простые» вещи внешнего мира, а не ментальные объекты. Мы как будто ощущаем, что для того, чтобы получить результат объединения двух множеств, недостаточно просто перечислить все элементы, входящие в каждое из них. Для этого требуется некое преобразование, заставляющее как будто и вовсе отвлечься от этих элементов как таковых, чтобы получить искомый результат объединения.
Второе наблюдение состоит в том, что такой семантический скачок, переносящий нас от неизменности к смене или наоборот, предполагает безусловную релевантность временныñх отношений, которые не могут быть сведены к пространственным. Неизменное остается неизменным, только пока осуществляется смена одного другим: эти «пока» и эта «смена» ясно показывают принципиальную неустранимость временноñго аспекта, без которого семантическое преобразование (я имею в виду переход от смены к неизменности или наоборот) просто не совершилось бы. Собственно, неизменное и присутствует в поле нашего зрения как смена: сама возможность смены, то есть перехода от одного из сменяемых к другому и наоборот, и создает неизменное. Можно сказать, позволяя себе некоторую метафоричность, что смысловая субстанция неизменного создана самоñй временноñй сменой.
Коль скоро так, понятно, что любая иллюстрация, избегающая явного, даже можно сказать, подчеркнутого указания на временныñе отношения, будет чревата по меньшей мере возможностью заблуждения. Суть такого заблуждения состоит в том, что временноñе различение будет отражено в терминах пространственного. Смена таким образом вовсе исчезнет из поля зрения, уступив место своей противоположности — одновременности.
3.3.4.2. Логико-смысловое объяснение контраста пониманий
Не этим ли объясняется появление объясняющей модели, отраженной на Рис. 7, у предполагаемого оппонента, по-своему истолковывающего туземное «гавагай»? Он, безусловно, прибег к подобной замене, соположив множества «А» и «Б» так, как если бы отношение между ними было построено как вневременное. Если я прав, то Рис. 7 представляет собой на самом деле не подлинную трактовку моего радикализированного «гавагай», а ее отражение в той логике, которая в качестве предпосылки смыслоформирования принимает, как было сказано, не смену, а одновременность. Это отражение возможно только после подобной замены основания смыслополагания; следовательно, вопрос о его адекватности описываемому смысловому комплексу только теперь — когда эта замена стала вполне явной — и может быть поставлен с полным основанием.
Ныне широко распространено признание относительности научных истин, сопряженное с пониманием теории не как «отражения» действительности, а как конструкта, накладываемого на нее познающим субъектом. Такое понимание как будто обессмысливает понятие «адекватность интерпретации», которое фактически на протяжении всей этой книги руководит ходом рассуждений. Я откладывал выяснение этого понятия до нынешнего момента в силу того, что только теперь вполне отчетливо сформулировано положение, делающее его полезным инструментом оценки интерпретирующих теорий. Если интерпретирующая теория не способна учесть основание смыслополагания, сформировавшее интерпретируемый смысловой комплекс, она: 1) в случае его несовпадения с собственным основанием смыслополагания (ведь теория, как и объект интерпретации, представляет собой смысловую структуру) будет вынуждена совершить его неявную подмену, которая сделает возможной интерпретацию, но неизбежно исказит интерпретируемый феномен; 2) в случае его совпадения с собственным основанием смыслополагания будет способна к адекватной интерпретации, но лишится возможности указать на игнорируемые основания смыслоформирования, частично теряя свой объясняющий потенциал. В первом случае интерпретация будет неадекватной, во втором — адекватной, хотя и неполной.
Вернемся к обсуждаемому примеру и обратим внимание на то, что происходит при описываемом отображении. Референт «гавагай», объект остенсии, полагается мной и моим виртуальным оппонентом как результат некоторой операции, отражаемой в языке в качестве связки «и». Чтобы понять единый объект референции как такой результат, необходимо различить в нем те два объекта, которые, будучи связаны через «и», и дали объект референции. Такое различение предшествует установлению значения «и» (когда бы оппонент решал, обозначает оно объединение или пересечение) и не зависит от последнего, но, напротив, только на основании такого различения возможно то, что называют установлением значения «и»: ведь это значение определено тем, как именно будут различены два исходные объекта и, следовательно, как они смогут совпасть и дать обсуждаемый результат.
В рассматриваемом случае замены основания смыслополагания метод различения будет подменен; но поскольку само различение будет достигнуто, эта подмена имеет шансы остаться незамеченной. На поверхности нашего восприятия будет выступать только результат различения — осмысленность, достигаемая таким образом, то есть за счет различения; мы не склонны замечать, за счет какого именно. Вот почему воображаемый оппонент, получивший свое толкование для «гавагай» (Рис. 7), наконец-то вздохнул с облегчением: достигнув необходимого различения, он, не задумываясь над тем, как именно (благодаря какой процедуре) оно совершено, решил, что получил полное объяснение ситуации. Но вопрос в том, идентичны ли результаты двух способов различения или при подмене одного другим будет меняться и результат? Будет ли, таким образом, отображение одной процедуры различения в терминах другой адекватным или искажающим?
Этот вопрос можно сформулировать и в других терминах. Тождественны ли два способа различения с точки зрения продуцируемого смысла, или дело обстоит таким образом, что один из них позволяет различить то, что не различает другой, или различить нечто так, как это не способен сделать другой?
Верно скорее всего второе — ведь вряд ли то, что не способно сосуществовать в одновременности и потому требует смены, будет таким же, как то, что уживается одно с другим одновременно и различается, располагаясь рядом. Это не более чем предчувствие, к тому же выраженное метафорически, но такому предчувствию вряд ли можно отказать в обоснованности. В заключение этой главы будет представлено и его строгое обоснование.
Обратим теперь внимание на то, что метод различения — это метод построения противоположности, а значит, полагания отрицания. Если пространственный и временноñй методы различения существенно разнятся, то разнятся и методы полагания противоположности, методы выстраивания отрицания. Если это так, то использование одного имени — «отрицание» — в обоих случаях маскирует разницу в выстраивании того, что называется одним и тем же словом. Одинаковое название дано по результату применения метода различения, по тому, что в обоих случаях два смысла оказываются несовместимыми, взаимно-уничтожающими. Что основания этой несовместимости могут быть различны, не попадает в поле зрения взгляда, который направлен только на результат, а не на процедуру, различения.
3.3.4.3. Различение формального и содержательного с точки зрения логико-смысловой теории
Из этого вытекает, что отрицание не может считаться чистой формой; «отрицание» — это имя для процедуры, которая может проводиться двумя существенно различными, а точнее сказать, несовместимыми способами[15]. Слово «отрицание», иначе говоря, может быть наполнено по меньшей мере двумя существенно различными содержаниями. Так открывается неформальный, содержательный характер понятия «отрицание». Это значит, что любое высказывание, в котором фигурирует термин «отрицание», может быть понято по меньшей мере двумя способами. Еще раз подчеркну, что, говоря о возможности как минимум двух пониманий термина «отрицание», я имею в виду предельный герменевтический уровень, исключающий все, что может считаться содержательной наполненностью, и оставляющий в поле зрения только то, что обычно считается чистой формой (то, благодаря чему мы говорим именно об отрицании, независимо от того, что отрицается).
То, что здесь сказано, можно прояснить следующим образом: где для традиционного мышления речь идет уже только о чистой форме отрицания, отвлеченной от всякой содержательности, а следовательно, о единственном варианте отрицания, там логика смысла видит все еще содержательность, предполагающую, в силу самого этого факта, возможность различия. Это достигается благодаря тому, что она вводит в поле зрения процедурные основания построения отрицания, — основания, сопряженные с непосредственным интуитивным фундаментом формирования осмысленности, который представлен как выбор пространственно-временного способа различения.
Теперь можно несколько углубить представление о взаимной несовместимости логик смысла, которое высказывалось неоднократно по ходу этой работы. Как подчеркивалось, эта несовместимость заключается в том, что одна логика смысла не содержит собственных средств адекватного (неискажающего) отображения другой логики смысла. С точки зрения только что достигнутых результатов это означает, что одна логика смысла не способна различить нечто так, как это делает другая, и наоборот. Ведь способ построения отрицания в одной несовместим с тем, который использует другая (речь идет о двух, рассматриваемых в этой работе).
Вместе с тем различение осуществляется в обеих логиках смысла, и осуществляется оно именно как построение отрицания. Построение отрицания в каждой логике смысла служит поэтому параллелью для одноименной процедуры, совершаемой в другой логике смысла, — но параллелью в полном смысле этого слова, параллелью, исключающей наличие точек пересечения.
Описываемая параллельность процедур различения в разных логиках смысла и составляет основание того особого типа инаковости, который служит подлинным и постоянным предметом внимания в этой работе, даже если речь идет как будто о чем-то другом. Именно о такой инаковости я говорю, упоминая принцип то же иначе. Это инаковость, позволяющая различать без умножения, — различать то же как иное.
3.3.4.4. Понимание единичного и взаимное отображение логик смысла
Раз так, то одна логика смысла может отобразить другую, но лишь с искажением. Это искажение будет касаться способа построения отрицания как различения либо преодоления отрицания как нахождения совпадения различного. В первом случае речь идет о понимании некоего смысла, данного как «вот это», как бы единично (как дано «гавагай»), во втором — о понимании сложного смыслового комплекса, уже содержащего различение (например, «огонь-и-вода»). В первом случае речь идет о внутреннем различении данного смысла, то есть о построении «внутреннего» отрицания; во втором — о преодолении такого различающего отрицания и достижении единства.
Это — два аспекта «движения», аналитический и синтетический, внутри той единой структуры, которую я называю логико-смысловой конфигурацией. Предложенная мной теория предполагает, что эти два вида «движения» всегда возможны и в определенном плане отображают друг друга[16].
Из этого следует, что никакой смысл не может быть понят как простой, потому что понимание заключается в схватывании (позволю себе такое выражение, хотя речь идет о неосознаваемом, как правило, процессе) внутренней сложности данного смысла. Дело, следовательно, не в том, чтобы узнать, что скрывается за неким неизвестным для нас ярлыком; не в том, чтобы получить содержательную трактовку «гавагай». Дело в том, чтобы узнать, как различается «гавагай» (как оно вообще может различаться), какое внутреннее отношение отрицания оно предполагает в качестве условия собственного понимания.
Это означает, что мы на самом деле нуждаемся в знании значений «и»[17] как пространственно-временных процедур. «Радикальный перевод» недооценивает степень нашего возможного незнания того, как туземец мог бы формировать и понимать свою речь, соотнося ее при этом с внешним миром, вполне наблюдаемым для него и для нас, более того, выступая для нас (в аспекте, скажем, своего поведения) в качестве части такого внешнего мира. Недооценка эта, как видим, весьма кардинальная, или, если угодно, качественная, поскольку невозвратно отсекает целый класс возможных смыслов без надежды их адекватного воспроизведения, но зато с опасной вероятностью их искажающего отображения.
Проведенное рассуждении имеет еще одну сторону. Речь шла о том, как туземный собеседник в принципе мог бы формировать смысл своего радикально непонятного для нас «гавагай». Я утверждаю, что имеется по меньшей мере один способ сформировать это значение таким образом, что остенсия не изменится (наше наблюдение не в силах отличить один способ от другого), причем он совершенно не учтен и не мог быть учтен куайновской теорией, поскольку этот учет зависит от внимания к тому, что до сих пор оставалось вне всякого внимания теоретиков, — к тому, что я называю пространственно-временной интуицией, обосновывающей смыслополагание. Это утверждение, однако, совсем не означает, что на основании какого-то наблюдения или априорного знания мы в рассматриваемой ситуации способны выбрать один из этих способов формирования значения как действительно верный. Я увеличиваю радикальность перевода, добавляя неучтенные Куайном возможности; но я вслед за ним утверждаю, что в описанной им ситуации мы действительно неспособны решить, какую из возможностей на самом деле избрал наш собеседник. Иначе говоря, мы в данном случае не можем узнать, какой именно логике смысла следует наш собеседник; в наших силах лишь указать, что он в принципе мог следовать не единственной (как это неосознанно полагает куайновская теория), а по меньшей мере двум разным логикам смысла.
3.3.4.5. Истинность, объективность, единственность с точки зрения логики смысла
Теперь зададим вопрос: а почему мы, собственно, так печемся о выборе того, что мыслим как подлинный смысл, вложенный нашим собеседником в звукосочетание, которое стремимся понять? Откуда наше желание избавиться от этой неопределенности, которую мы вслед за Куайном оцениваем негативно, как недостаток подлинности нашего знания о мире? Почему нам не ограничиться констатацией разных возможностей формирования смысла, которые имеет наш собеседник и которыми обладаем мы при понимании его слов?
Очевидно, что стремление к единственности понимания, к определению единственно верной логики смысла, ответственной за формирование смысла в рассматриваемой ситуации, вызвано представлением о том, что и собеседник наверняка должен был совершить свой выбор, который мы теперь, стремясь к пониманию его слов, хотим повторить. В самом деле, наделенный волей действователь, ответственный за акт речи, не может не совершить подобного выбора. Если Куайн рассматривает возможность повторить этот выбор в процессе понимания в ситуации единственности логики смысла, то я, оставляя в стороне описанные им флуктуации, говорю о более радикальной неопределенности, вызванной непонятностью для нас выбора самой логики смысла.
Но ограничивается ли сферой речевых актов область приложения логико-смысловой теории? Не входит ли в сферу ее компетенции и другая область, для которой названное условие интенциональности не выполняется и не может выполняться в принципе? И если так, не придется ли поменять наши оценки «неопределенности», возникающей в ситуации радикального перевода, взглянув на саму «неопределенность» с другой точки зрения?
Даже в рассмотрении речевого акта присутствует нечто, что заставляет склониться к расширению сферы приложимости логико-смысловой теории. Речевой акт прямо связан с тем, что называют «действительностью», «миром вещей», «внешним», или «объективным миром», — по меньшей мере это безусловно верно для тех примеров, которые были рассмотрены в Главе I и о которых идет речь сейчас. В этой связи суть всего сказанного в этой книге можно было бы выразить так: различие в выговорах культур, различие в том, как они выстраивают обозначение внешнего мира, определено не просто прихотью их разнообразных языков (то, что в современной философии часто называют «культурной спецификой», не имеющей отношения к сущностной стороне мира и человеческого существа), но чем-то безусловно существенным в самих вещах мира, чем-то, что позволяет выстроить референцию к ним параллельно, в разных логиках смысла. Именно последнее условие, условие параллельности, принципиально, именно оно заставляет говорить о невозможности прямой сводимости разных логик смысла друг к другу, а значит, о том, что эта их параллельность обусловлена чем-то в самих вещах. Поэтому добавление этого условия в концепцию радикального перевода не просто усложняет ситуацию, но превращает ее в качественно иную. Это иное качество следует адекватно оценить, сделав необходимые выводы.
Итак, я говорю о том, что к одной и той же вещи внешнего мира референция может быть выстроена различными, параллельными способами, не сводимыми напрямую друг к другу, и что это свидетельствует о том, что в самой этой вещи присутствует нечто, что позволяет выстроить правильную референцию различным образом. Осторожно продвигаясь в открывающейся перспективе, можно сказать, что таким образом ставится под сомнение связь представления о правильности с представлением о единственности.
Несмотря на кажущуюся смутность понятий «правильность» и «единственность», они достаточно властно заявляют о себе в истории западного философского мышления. В предмете безусловно присутствует много сторон, более того, в нем могут быть уникальные признаки, безусловно выделяющие его среди всех прочих, — и референция в этом смысле будет построена «правильно», когда мы укажем на человека и как на «разумное живое», и как на «способное к смеху», и даже как на «двуногое без перьев». Однако среди всех этих (и им подобных) способов своей подлинностью выделяется только один, и в этой подлинности он не имеет себе равных, — не важно, называется ли он указанием на сущность вещи или как-нибудь еще. В этом смысле правильность указания оказывается единственной.
Есть и еще один аспект так мыслимой единственности. Он состоит в том, что сколь бы ни были разнообразны указания на один и тот же предмет, они не будут противоречить друг другу. Если человек способен смеяться, это не значит, что он не разумен, и наоборот. Или, если взять другой известный пример, если стакан — это предмет определенной формы из стекла, это не значит, что он не является предметом для питья, или наоборот. Интересно, что мы можем установить такую непротиворечивость и оформить ее в достаточно строгой форме. Например, с помощью закона исключенного третьего: данная вещь либо является предметом из стекла, либо не является таковым; но «не быть предметом из стекла» не означает непременно «быть предметом для питья» и «быть предметом для питья» не означает непременно «не быть предметом из стекла», и потому две характеристики стакана не являются взаимоисключающими. Само требование непротиворечия, кстати, естественно связано с представлением о вещи как о чем-то одном (пусть и многостороннем), и иначе оно не имело бы под собой основания[18]. С другой стороны, непротиворечивость может быть установлена потому, что все характеристики предмета могут быть проверены на соответствие формальному критерию — в нашем случае, закону исключенного третьего. А для этого, без сомнения, должно выполняться условие, которое можно назвать однородностью устройства предикации: все высказывания должны быть построены с помощью связки «быть» или ее эквивалентов.
Таким образом, представление о вещи как о чем-то едином (в том числе и в арифметическом смысле) органично связано с представлением о единственности правильного указания на вещь: собственно, все способы указать на вещь, перечислив ее разные характеристики, в каком-то смысле суть нечто единое, поскольку, вероятно, могут быть сведены друг к другу. Вряд ли что-то иное имеет в виду Делёз, когда говорит о единстве бытия как единстве означаемого (см. Главу I). Точно так же для поствитгенштейновского философствования, уверенного в допустимости многоразличных языков, в которых содержательные высказывания могут как таковые противоречить друг другу, но при этом такое противоречие остается видимостью, поскольку вызвано лишь разными правилами построения разных языков (см. также Глава I, примеч. 33), — для этой позиции также, по-видимому, важным остается тезис о единстве той реальности, которую по-разному «картографируют» разные языки, при всем своем различии не противореча ей как таковой и именно потому будучи равно допустимыми. Именно о таком представлении о реальности я и говорил на протяжении этой главы, рассматривая различные его преломления и спрашивая, смогла ли философия (когда, конечно, она того хотела) как-то преодолеть это представление или оно продолжает оставаться базисом любых построений, в том числе и по видимости заявляющих об отказе от такой позиции. Оказалось необходимым дать отрицательный ответ на этот вопрос: отказ от такого представления, проявляющегося по меньшей мере на уровне метаязыка, равносилен отказу от основания рациональности в его самом общем, и в то же время наиболее устойчивом, понимании.
Однако то, о чем идет речь в этой книге, требует пересмотра данной позиции. Я называю два способа указать на вещь параллельными потому, что для них названные условия не выполняются и не могут быть выполнены. Два разных способа построить указание на одну и ту же вещь опираются на разные способы построения предикации, поскольку используют различные связки. Это и вызывает ту несоизмеримость двух способов выстроить речь о вещи, комплексность которой я постоянно стремился подчеркивать: понимание противоположения, единства, множественности и иных отношений, названных мною логико-смысловыми, или процедурными, оказываются для них несоизмеримыми (если иметь в виду прямую соизмеримость, то есть выразимость средствами друг друга). Такая несоизмеримость и влечет необходимость искажающего приспособления смысловых структур, созданных в одной логике смысла, при попытке их прямого отображения в другой логике смысла.
Поскольку два способа построить высказывания о вещи несоизмеримы, не могут иметь силы попытки истолковать инологичное смыслополагание как какой-то вид «неподлинной» или «ненаучной» (нерефлексивной) логики (логики обыденного мышления[19], поэтической логики, т.п.). Такое истолкование согласно признать несоизмеримость «подлинной» и «неподлинной» логики, только если их объекты различны, и предполагает непременную возможность соизмерения их, если их объектом является одна и та же вещь. Нетрудно видеть, что такая позиция полагает безусловно возможным именно то, невозможность чего была здесь продемонстрирована. При этом опять-таки являет свое значение представление о том, что об одной вещи в одном отношении можно говорить лишь единственно правильным образом. Этот почтенный тезис настало время уточнить: слова «в одном и том же отношении» следует понимать как означающие «в пределах одной и той же логики смысла».
Коль скоро возможны два разных (несоизмеримых и правильных) способа построить указание на одну и ту же вещь, представление о вещи как о чем-то субстанциально едином должно быть признано несостоятельным. На его место следует поставить представление о единстве вещи как о том, что позволяет взаимный перевод этих разных и несоизмеримых способов указать на вещь. Одна и та же вещь предстает для нас как бы в двух системах смысловых координат — и тем не менее остается данной, то есть той же, вещью. Более того, коль скоро представление о единстве вещи — это представление о транслируемости (полной переводимости) разных способов указания на вещь, значит, вещь может представать единой, только реализуя себя в разных системах смысловых координат (в разных логиках смысла). Истина вещи состоит не в ее субстанциальном «что», а в способности оказаться тем же — иначе.
Сказанное должно показаться парадоксальным: каким образом можно говорить об указании на одну вещь, если два разных способа выстроить такие указания несоизмеримы? Как, далее, можно говорить о взаимном переводе таких способов указания, если разные логики смысла не содержат адекватных средств отражения друг друга и любое прямое отображение непременно оказывается искажающим?
Конечно, сама возможность говорить о разных и несоизмеримых способах, какими вещь предстает для нас, предполагает, что мы при этом обладаем неким общим основанием для этих разных способов, которое только и сделает несоизмеримое — соизмеримым. Соизмеримость будет в таком случае трактоваться как равное отношение разных логик смысла (отражений вещи в разных логиках смысла) к такому общему основанию.
Это общее основание начало проясняться, когда шла речь о «наличии» как категории, позволяющей равно описать разные (несовместимые) интуиции соположения смысловых областей, — интуиции, для которых была предложена интерпретация, схожая с той, что лежит в основании традиционной теории множеств. Теперь, рассмотрев защищаемую здесь позицию и ее следствия теоретически, я предполагаю показать возможность ее применения на конкретном примере.
§ 4. Условия очевидности как иное выражение логико-смысловых оснований понимания: доказательство наличия интуиций смыслополагания
Для этого обратимся к атомистической теории времени, которая была развита в раннюю эпоху арабского философствования и сохранила свою значимость для философского мышления, несмотря на авторитет аристотелевской концепции пространства и времени: атомарная теория времени была возрождена в последнем из направлений средневековой арабской философии, в суфизме. Поскольку соответствующий материал подробно рассмотрен мной в другой работе, на которую я уже ссылался [Смирнов 1999], это дает возможность ограничиться здесь его анализом.
Рассмотрение именно этого вопроса послужит заодно разъяснению понятия, которое составляет основной предмет внимания в этой главе, — понятия пространственно-временной интуиции, взятой как основание процедур смыслополагания. Какое отношение имеет «пространство» и «время», фигурирующие в этом понятии, во-первых, к реальным (физическим) пространству и времени (если признавать их реальность) и, во-вторых, к категориям «пространство» и «время», выработанным классической арабской культурой, — ведь если, как я утверждаю, пространственно-временныñе интуиции лежат в основании смыслополагания, это должно найти отражение и в соответствующих теориях пространства и времени.
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует тщательно различать три разных понимания категорий «пространство» и «время», которые фактически присутствуют в заданном вопросе: как интуиции смыслополагания, как реальности и как категорий философского мышления. В качестве последних «пространство» и «время» — смыслы в ряду прочих, и на них так же, как на любые другие смысловые структуры, распространяется действие тех пространственно-временных интуиций, что лежат в основании смыслополагания. В свою очередь, коль скоро это — базовые интуиции, обосновывающие формирование смысла, трудно ожидать, что «пространство» и «время» могут употребляться в отношении этих интуиций без оговорок, в прямом и полном смысле: очевидно, это скорее метафоры, употребляемые не вовсе без основания, но все же, видимо, допускающие замену на иное, более точное выражение. Наконец, вопрос о «реальных» пространстве и времени не может не быть связан, с одной стороны, с тем, что только что говорилось о понятии вещи и о том, как может видеться ее единство, а с другой — с тем, как соотносятся между собой «пространство» и «время» в качестве интуиций смыслополагания и в качестве категорий мышления: вторые ведь формируются на основе первых именно для отображения «реальных» пространства и времени.
Я буду говорить здесь только о времени, оставляя рассмотрение категории пространства до другого случая.
Созданная в арабской мысли атомистическая теория времени опирается на понятие «момент времени» (замаôн, вакÖт), иногда с добавлением предиката «единичный» (фард). Момент времени мыслится как неделимый, то есть как нечто первичное из всего того, что может быть названо «временем». Вместе с тем момент времени образован двумя событиями, которые следуют одно за другим. Что это именно следование, а не совместность двух событий, подтверждается не только соответствующими высказываниями мыслителей, придерживающихся этой теории, но и самой ее логикой: взаимоисключающие события касаются одной и той же вещи, а значит, могут только следовать одно за другим.
Эта теория представляется парадоксальной в самом своем основании, в том, каким образом выстраивается смысл «момент времени» и как он соотносится с другими смыслами, релевантными для его содержательного наполнения. Эту парадоксальность проще всего увидеть, оттолкнувшись от рассмотрения понятия «длительность».
Атомарный момент времени должен, конечно же, иметь нулевую длительность, иначе он просто не будет атомарным: то, что имеет хоть какую-то длительность, безусловно может быть разделено. Но два события, следующие одно за другим, не могут не создать длительности. Даже если не настаивать на этом сильном утверждении и отказаться от понятия «длительность» по причине того, что оно уже предполагает понятие «время», тогда как «время» еще не возникло, еще не сформировано как понятие, а значит, и «длительность» не может употребляться здесь по праву, — даже в этом случае следование одного за другим создает безусловную возможность разделения: одно может быть отделено от другого. Между тем атом времени как раз и сформирован такими следующими друг за другом событиями; но они разделяемы, а значит, временной атом не является неделимым. Таким образом, дело заключается не в понятии «длительность», а в понятии «следование»: достаточно иметь такое следование, чтобы сделать вывод о безусловной разделяемости последовательности[20].
Такое рассуждение кажется непогрешимым, и, приняв его, нам останется лишь удивляться «странности» мыслителей, не заметивших столь явного промаха в самом основании своих построений. Но прежде чем согласиться с этим, зададим следующий вопрос: является ли приведенное рассуждение безусловным или сама его очевидность зависит от выполнения некоторых условий, без соблюдения которых она очевидностью быть перестает? «Очевидность» служит едва ли не наиболее употребимым понятием в философии там, где речь идет об интуитивных основаниях рациональности; оно вместе с тем является и едва ли не самым смутным. Не притязая на то, чтобы прояснить его до конца, я лишь спрашиваю, не обусловлена ли сама «очевидность» принятием некоторых ограничений? А если окажется, что это так, то не должны ли мы спросить: могут ли быть приняты иные, альтернативные ограничения, а значит, может ли иметься иная, альтернативная очевидность?
Условие, обосновывающее возможность рассуждения, вскрывшего самопротиворечивость категории «атомарный момент времени», выясняется при рассмотрении соотношения между понятиями «атом» и «событие». Это отношение между целым и частями, поскольку временной атом образован тем, что входит в него, а именно, двумя событиями. Это, конечно же, не родо-видовое отношение; но столь же очевиден и тот факт, что соотношение между частями и целым мыслится — на базовом, интуитивном уровне — так, как если бы это было отношение между родом и его видами. Целое исчерпывающим образом составлено из частей (это можно выразить и так: части полностью входят в целое, и целое полностью распадается на свои части), при этом целое представляет собой нечто иное, нежели просто сумма частей, будучи чем-то единым. В данном случае это новое содержание выражено непосредственно понятием временноñго «атома». Но все дело в том, что так образованное единство по самому своему смыслу не может быть неделимым: примыкающие друг к другу события могут, конечно же, быть отделены друг от друга, и атом времени таким образом может быть «разрезан» пополам.
Эти рассуждения как будто интуитивно считываются со следующего рисунка.
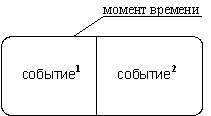
Однако именно эта иллюстрация высвечивает и небезусловность очевидности, обосновывающей рассмотренное рассуждение. Ее непременным условием является совместность «события1» и «события2». Зримым воплощением такой совместности выступает их расположенность как бы вне времени (или, что то же самое, в одном и том же времени: их одновременность) на разных (прилегающих и потому соединяющихся в единое целое) участках пространства, — только в силу этого два события можно отделить одно от другого, «разрезая» атом времени пополам.
Я вовсе не утверждаю, что смыслы «событие1» и «событие2» располагаются в наших мыслительных пространстве и времени подобным образом; я не утверждаю также, что реальные событие1 и событие2 располагаются так в «реальных» пространстве и времени. Я лишь говорю, что интуиция, делающая определенную оформленность смыслов очевидной для нас (столь очевидной, что эта очевидность способна сформировать содержательные теории пространства и времени, чему примером служит аристотелевская континуалистская концепция), отражается в иллюстрации в определенной пространственно-временной форме. Вот почему я говорю о «пространственно-временныñх» интуициях смыслополагания, беря это выражение в кавычки и тем самым указывая на его метафоричность.
Более точным выражением послужил бы употребленный выше термин «совместность». Он лучше потому, что избегает отсылки к понятиям пространства и времени и, возможно, скорее подходит на роль понятия, выражающего первичную интуицию смыслополагания. Возможно, «реальные» пространство и время скорее могут быть поняты как объективация этих первичных интуиций. Я не настаиваю на этих выводах; подробное продумывание этих тезисов — дело будущего. Но я должен указать здесь на них, чтобы очертить принципиальные контуры метафизических и гносеологических импликаций логико-смысловой теории.
Я также считаю небесполезным отметить отличие моей позиции от кантовского априоризма: не готовая содержательность полагается мною в качестве основания формирования любой осмысленности (а априорные формы пространства и времени, безусловно, наделены такой содержательностью), но лишь некая способность, некая предрасположенность к формированию такой содержательности. Подобная предрасположенность различна у разных культур, а потому другое отличие защищаемой мной позиции от кантовской заключается в том, что общечеловеческое единство рациональности не может быть найдено на этом уровне: там, где Кант помещал априорные формы сознания и где я вижу интуитивные основания смыслополагания, может быть найдена только непересекающаяся параллельность, единство же следует искать на уровне более фундаментальном.
Если рассуждение, опровергнувшее оправданность понятия «атом времени», опиралось на «совместность» конфигурируемых смыслов как на условие (заметим, неосознаваемое) очевидности, то для арабской культуры таким условием будет выступать «последовательность», или «смена» конфигурируемых смыслов. Как говорилось выше, «сменяющие» друг друга смыслы располагаются как бы разновременно, но однопространственно, причем их взаимным переводом образован объединяющий их третий смысл (описывая в Главе II логико-смысловую конфигурацию, я назвал такой смысл смыслом первого уровня): этот смысл и выражает саму возможность взаимного перевода противоположных смыслов (названных мною смыслами второго уровня). Рассматривая эту абстрактную теорию в конкретном приложении, увидим, каким образом она показывает механизм смыслоформирования.
Итак, смыслы «событие1» и «событие2» являются смыслами второго уровня, а «момент времени» — смыслом первого уровня. Их соотношение отражает следующая иллюстрация:
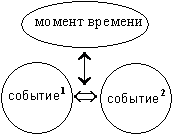
Здесь «момент времени», будучи единым (напомню, что и прежде «момент времени» мыслился единым — см. Рис. 8), сохраняет, в отличие от первого рассуждения, свою внутреннюю простоту. В силу самой сути процедуры, сформировавшей его, он никак не может быть «разрезан». В самом деле, представим, что произошло «событие1», но не произошло «событие2». Разница между процедурами смыслоформирования, отраженными на Рис. 8 и 9, состоит в том, что в первом случае «момент времени» останется «моментом времени», но окажется разделенным пополам (такое разделение не уничтожит его как «момент времени»); во втором случае «момент времени» просто не возникнет (не будет сформирован как смысл), поскольку он представляет собой взаимный перевод «события1» и «события2» и, естественно, в отсутствие «события2» состояться просто не может.
Условие очевидности, которое иллюстрирует Рис. 9, состоит в том, что «событие1» и «событие2» всегда сменяют друг друга (то есть никогда не наличествуют вместе), и этой своей сменой (взаимным переводом) создают нечто единое и простое, как таковое, в самом себе, неизменное — «момент времени». Знак стрелки Û использован для того, чтобы в статике отразить эту временнуñю смену. Знак ↨ показывает, что такой взаимный перевод формирует смысл «момент времени»; он двунаправлен, потому что можно также сказать, что «момент времени» непременно включает в себя два события.
В данном случае «включает в себя» должно считаться своего рода процедурным выражением (выражением, отсылающим нас к процедуре смыслополагания, то есть таким, содержательное наполнение которого зависит от того, какая процедура смыслополагания имеется в виду): если «момент времени» включает в себя два события так, как это отражено на Рис. 8, то он не атомарен, а если так, как на Рис. 9, то он неделим. Отмечу также, что безусловная внутренняя простота единства «момента времени» на Рис. 9 («момент времени» внутри себя не может быть разделен, не будучи тем самым уничтожен) обеспечена исключительно процедурными факторами (тем, как сформирован смысл, а не тем, какое значение «придано» некоторому языковому знаку: второе зависит от первого и не может идти с первым вразрез) и в силу тех же процедурных факторов противопоставлена внутренне сложному единству «момента времени» на Рис. 8.
«Момент времени», представленный на Рис. 9, полагает собственную сложность вне себя («событие1» и «событие2» внеположны ему, и тем не менее это именно его сложность); соответственно, и «событие1» и «событие2» на Рис. 9 противоположны не так, как они противоположны на Рис. 8. Все эти аспекты комплексны: они невозможны один без другого. Именно это я имел в виду, говоря о внутреннем единстве логико-смысловой конфигурации: в ней нельзя изменить что-то одно, не поменяв тем самым всего остального. Возвращаясь к одной из тем этой главы, следует отметить, что поскольку интуитивной основой смыслоформирования (процессов создания и понимания речи) выступает процедура смыслополагания, а не тот или иной набор содержательных смыслов (неких универсалий мышления), то и всякая отсылка к внешнему объекту предполагает не простоту последнего, а непременно — его сформированность согласно той или иной процедуре, или, что то же самое, его включенность в ту или иную логико-смысловую конфигурацию.
Рассмотренный пример формирования смысла в соответствии с логикой смыслополагания, отраженной на Рис. 9, очень наглядно свидетельствует (если переходить на язык теории множеств), что в данном случае имеет место именно объединение, но никак не пересечение двух множеств. Это же выясняет и сама суть обсуждаемого понятия. «Момент времени», конечно же, объединяет два события, и эта смысловая область («момент времени») если и может быть отражена в теоретико-множественных понятиях, то именно в тех, которые трактуют объединение двух множеств. Рис. 8 может рассматриваться поэтому как своеобразный эквивалент Рис. 6, как иллюстрация объединения двух множеств. Операция объединения выполнена здесь в соответствии с традиционными допущениями, обосновывающими теорию множеств; это те самые допущения, что чуть выше были описаны как условия очевидности в рассуждении о самопротиворечивости понятия «момент времени». Принятие этих условий и привело нас к ошибочному, хотя как будто совершенно очевидному выводу о неправильности понятия «момент времени».
Небезынтересно заметить, что те же условия лежат и в основании базовых понятий теории множеств. Лишь принятие альтернативных условий очевидности позволило сформировать правильное рассуждение и адекватно (то есть в соответствии с интенцией культуры, сформировавшей соответствующие теории) наполнить смыслом понятие «момент времени». Если продолжить эту мысль, станет очевидным, что и теория множеств способна формировать свои базовые понятия на основаниях, альтернативных тем, на которых построена сейчас эта математическая дисциплина. Это значит, что логика смыслополагания, характерная для арабской культуры, будет адекватно отражена такой, пока непостроенной, теорией множеств, которая параллельна существующей.
Теперь проще понять, почему предполагаемый оппонент и коллега по разгадке туземного «гавагай» предложил трактовку, логика которой отражена на Рис. 7. Он действовал, исходя из интуитивных оснований очевидности, обусловливающих (в числе прочего) существующую теорию множеств. Эти условия и не могли позволить ему сформировать иное представление, нежели отраженное на этой иллюстрации. Теперь можно с полным основанием сказать, что Рис. 7 представляет собой отображение Рис. 9. Такое отображение является прямым: логика смыслополагания, проиллюстрированная на Рис. 9, отображена собственными средствами той логики смыслополагания, которую иллюстрирует Рис. 7. Будучи прямым, оно является вследствие этого и искажающим: это отображение возможно только за счет замены условий очевидности, обосновывающих эти логики смысла.
§ 5. Подведение итогов
Соотношение между Рис. 9 и Рис. 7 отражает весьма широкое явление, известное как «диалог культур». Культуры, опирающиеся в своем смыслопостроении (а что такое культура, как не способ осмысления мира?) на разные логики смысла, понимают друг друга в конечном счете с той мерой искажения, которая отражена соотношением этих иллюстраций. Это лучший из вариантов взаимопонимания, достижимого без учета логико-смысловых факторов смыслоформирования, то есть при подходе, который я называю содержательным и который ставит целью получить как можно более точную и исчерпывающую информацию о другой культуре, полагая, что тем самым уже достигается и адекватное понимание. Это тот вариант знания инологичной культуры, который я во Введении обозначил как 100%-но профессиональное. Тогда был задан вопрос о том, оставляет ли такое знание возможность для ошибок, и если да, то для каких именно. Теперь можно ответить на него: все такие ошибки могут быть описаны как следствие искажающего приспособления, необходимого для того, чтобы могло состояться прямое отображение одной логики смысла средствами другой, и сводятся они, если говорить более конкретно, к подмене условий очевидности, а точнее, к более или менее отдаленным следствиям такой подмены.
Поскольку подобная подмена в весьма существенном смысле необходима, ибо лишь благодаря ей вообще возможно понимание инологичной смысловой структуры, вполне естественно, что она проходит совершенно незаметно. Такой же незаметной осталась она и для нас в начале наших размышлений, когда мы попытались отобразить подлинную логику предсказания астролога, построив для этого Рис. 3. Сравнив его с Рис. 7, нетрудно заметить однотипность этих двух иллюстраций. Пришлось пройти довольно длинный путь, дабы понять, что подлинным отражением и логики предсказания астролога, и иных примеров, рассматривавшихся в этой книге, служит иллюстрация типа той, что отображена на Рис. 9, а не те, что мы находим на Рис. 3 и Рис. 7. Такое приращение адекватности понимания иной культуры — одна из возможностей, даваемых логикой смысла.
Но возможность далеко не единственная. Если искажение инологичных смысловых структур при их прямом отображении в данной логике смысла является неизбежным и в определенном смысле необходимым условием понимания, означает ли это, что такое искажение оказывается и вовсе неустранимым? Возможно ли, иными словами, непрямое отображение логик смысла, которое бы избегало указанного искажения или по меньшей мере высвечивало его, делая осознаваемым? Этот вопрос — один из центральных в книге, и он то и дело вставал по ходу исследования. Он имеет прямое отношение к проблеме, которая именуется по-разному: проблемой общечеловеческого единства мышления, проблемой связи языка и мышления и т.д. Ведь если разнологичные культуры обречены во взаимном общении в лучшем случае на искажающее приспособление смысловых структур собеседника к собственному пониманию, понятие общечеловеческого единства мышления как единства истинного мышления становится по меньшей мере относительным. Вместе с тем очевидно, что, коль скоро мы способны разглядеть как будто с одной и той же позиции две логики смысла и увидеть их функционирование в качестве процедур смыслополагания, значит, должно быть возможным объективное отношение к ним, которое может быть выстроено только с какой-то третьей точки зрения, третьей позиции, стоящей в равном отношении к обеим. Это означает, что помимо взаимного прямого искажающего отображения логик смысла средствами друг друга может оказаться достижимым правильное отображение двух разнологичных смысловых структур средствами, предоставляемыми такой третьей точкой зрения, и таким образом — нахождение подлинной, неискаженной эквивалентности двух смысловых структур. В этой работе я почти не касался того, как может быть выстроен язык, адекватный задаче равного и неискажающего отображения разных логик смысла, язык, который служил бы задаче адекватного их перевода.
Этот вопрос был поставлен в Главе I, где на него был дан лишь отрицательный ответ: таким языком не может быть набор «базовых правил», мыслимый в порождающей лингвистике как единый для человечества и регулирующий процессы порождения речи на любых языках. Теперь можно продвинуться к позитивному ответу. Единый набор базовых правил не может выполнить эту роль потому, что сами эти правила окажутся неизбежно подчиненными той или иной логике смысла (скорее всего, «родной» для исследователя, формулирующего их) и будут удовлетворять соответствующим условиям очевидности. Но задача построения общего для разных логик смысла языка заключается в том, чтобы найти возможность выражения условий очевидности в общем виде, а не в том или ином из вариантов, реализованных в конкретных логиках смысла.
Рассуждения в этой главе содержали намек на то направление, в котором следует двигаться, чтобы найти ответ на данный вопрос. Такое направление задано понятиями «наличие» и «то же иначе», которые использовались для описания соотношения между разнологичными смысловыми структурами: если такое описание было вообще возможно, то лишь средствами искомого общего для разных логик смысла языка. Если переходить на язык философии, то изучение соотношения категории «наличие» с категориями «бытие» и «утвержденность», если рассматривать это соотношение как логико-смысловое, может служить одним из примеров конкретизации этого общего подхода к выработке языка перевода между логиками смысла. Этот подход должен быть одновременно разработан и в направлении построения языка равного описания теоретико-множественных процедур, реализуемых в разных логиках смысла (то есть опирающихся на различные условия очевидности). Достаточно попытаться ответить на вопрос: каким образом операции, иллюстрируемые Рис. 6/8 и Рис. 9, могут быть описаны как варианты одной операции «объединения», — чтобы ощутить необходимость, и вместе с тем возможность, выработки подобного языка. То же (понимаемое так благодаря обращению к категории «наличие»), реализующее себя иначе в разных логиках смысла, — на этом пути я искал ответ на заданный вопрос.
Время исчерпывающе ответить на него еще не настало. Для этого необходимо специальное исследование в намеченном направлении. Сравнение смысловых структур, созданных в двух логиках смысла, может оказаться достаточным для построения искомого языка; построенный в общем виде, он может дать ответ на вопрос о принципиальном количестве возможных логик смысла, — ведь я вел речь лишь о двух в силу естественной ограниченности эмпирического материала исследования.
Построение такого языка (сопровождаемое, конечно же, продумыванием всей связанной с этим проблематики) заставит совершенно по-новому взглянуть на очень многие старые философские проблемы и, возможно, отказаться от очень многих привычных допущений, что, несомненно, будет компенсировано прояснением долго принимавшихся на веру смутных «очевидностей». Одна, едва ли не центральная среди них — проблема объективности мира, предстоящего нашему познанию. Вернемся к последнему из разобранных примеров. Безусловно, «время» — нечто, что весьма существенным компонентом входит в такое понятие объективности мира; будем ли мы считать время доступным наблюдению (не обязательно непосредственно: наблюдаемым и объективным феноменом может быть движение) или, напротив, априорным условием всякого наблюдения, наше представление о подлинности (научности, истинности, т.п.) познания этого объективного мира будет тесно, если не сказать неразрывно, связано с представлением о единственности содержания этого знания. Это представление исходит, явно или неявно, из того, что, во-первых, наблюдение, совершаемое с помощью органов чувств, дает одинаковые результаты для всех людей и что, во-вторых, из двух противоречащих по своему содержанию высказываний об одном и том же предмете только одно должно оказаться истинным. Хотя было многократно показано, что любые чувственные данные проходят процесс осмысления, прежде чем могут принять участие в оценке внешнего мира, первое допущение сохраняло свою устойчивость, поскольку всегда подкреплялось представлением о единственности «подлинной», или «научной», рациональности, вследствие чего преобразование чувственных данных не меняло монистичности подлинного, объективного мира.
Приведенные данные заставляют отказаться от этого допущения. Это можно выразить следующим образом. Спросим, в чем заключается истина «времени»: в том ли, чтобы отвечать единственно подлинному определению, которое будет соответствовать единственно подлинному объективному миру, или в том, чтобы, будучи реализацией принципа «то же иначе», воплощать в себе равно возможные процедуры осмысления, показывая, каким образом осуществима трансляция между ними и на каком, следовательно, уровне они находят свое подлинное единство? Ведь прямой выбор между двумя результатами, получаемыми в разных логиках смысла, невозможен (во всяком случае, невозможен как выбор в пользу единственно подлинного) в силу того, что разные логики смысла не могут адекватно отразить друг друга. Но если так, то не являют ли они собой лишь аспекты подлинности, равно необходимые и равно истинные, не сводимые напрямую друг к другу, но находящие свое единство на ином, равно относящемся к ним уровне?
Если иллюстрации, приведенные на Рис. 8 и Рис. 9,
вскрывают альтернативность условий очевидности, или различных логик смысла, то
они в неменьшей степени способны показать и обусловленность — как будто
безусловных — аксиом формальной логики, а следовательно, возможность
альтернативных систем логики, описывающих тот же предмет (естественно, с
необходимым переосмыслением понятия «то же», о чем уже неоднократно
говорилось). Что иная логика смысла требует иного, альтернативного понимания
формально-логических законов, не раз было отмечено по ходу исследования.
Системы аксиом формальной логики, имплицируемые различными логиками смысла,
действительно альтернативны (не допускают прямого сравнения) потому, что
используют различные и несводимые друг к другу напрямую связки.
Альтернативность связок, в свою очередь, является отражением различий базовых
интуиций смыслополагания в разных логиках смысла, проявляющихся на поверхности
сознания как ощущение очевидности. Экспликация такой альтернативной формальной
логики, имплицируемой логикой смысла, характерной для арабской культуры, равно
как и нахождение в самой этой культуре примеров ее функционирования (не важно,
формализованы они или нет), составляет
еще одну задачу будущего исследования.