Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2009 г.
|
Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2009 г. |
Смирнов А.В.
О подходе к сравнительному изучению культур
Арабский язык и процессуальная картина мира
Исламское право, доктрина и этика
Арабо-мусульманская философия: мутазилизм и суфизм
Я не первый раз затрагиваю данную тему, но в том формате и в том аспекте, как мы будем это делать сегодня и в последующие дни, она рассматривается впервые. В этом смысле для меня эти лекции очень интересны. Надеюсь, что они будут интересны и для вас. Поскольку здесь присутствуют учащиеся разных специальностей, я постараюсь, чтобы лекции были занимательными для всех.
Название «О подходе к сравнительному изучению культур» претендует на некоторую скромность. Я не утверждаю, что у меня есть готовый метод, с помощью которого можно было бы заниматься сравнительным изучением культур, — я говорю пока только о подходе.
Вы знаете, как спортсмен подходит к снаряду? Нередко это бывает важнее самого выступления, поскольку подготавливает его: как подойдешь к снаряду, так с ним и будешь обращаться. То же относится и к подходу в нашем случае: речь идет о том, как мы готовимся к тому, чтобы обращаться с нашим предметом, с тем, что мы изучаем.
Что такое сравнительное изучение культур? Сама формулировка вопроса как будто предполагает, что мы сравниваем какие-то две культуры. Это значит, что сперва мы изучили одну из них, потом другую, а затем берем их и сравниваем: смотрим, что есть в одной из них, а что — в другой, и насколько эти «что» различаются или совпадают. Так обычно понимают сравнительное исследование. Чаще всего те, кто занимаются сравнительным изучением культур, не проблематизируют саму процедуру сравнения. Ведь сравнение — это операция, которую каждый из нас совершает ежедневно. Приходя в магазин, мы сравниваем, скажем, два куска сыра или два батона хлеба; идя по улице, мы сравниваем людей между собой; принимая жизненно важные решения, мы также основываем их в том числе и на сравнении. Вроде бы это операция, которая вполне очевидна. Мы сравниваем книги, какую из двух купить, сравниваем преподавателей, студентов и т. д. Сравнение — это то, чем пронизана наша жизнь, и поэтому кажется, что это само собой понятно.
Но что же это такое — сравнение разных культур, как это происходит? Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю и в чем, собственно, заключается проблемность данного вопроса, необходимо сказать следующее. Я должен очертить объект, о котором буду говорить. Я буду говорить, конечно, не о культурах вообще и не о сравнении каких угодно культур. Я буду говорить об арабо-мусульманской, или исламской, культуре. Вместе с тем постановка вопроса, которую я собираюсь предложить, имеет смысл применительно к любой из так называемых восточных культур. Почему?
Существуют два кардинально различных подхода к сравнению культур. В одном случае культура, которую мы изучаем, имеет весьма определенное глубинное родство с нашей собственной культурой, с той, к которой мы принадлежим. Например, если мы занимаемся сравнением русской и английской культур, то мы, конечно, не принадлежим к английской культуре, но тем не менее входим в тот большой культурный ареал, который не случайно именуется термином «европейская культура». В этом случае, если мы занимаемся такого рода сравнением, у нас, конечно, нет априорного знания об изучаемой английской культуре во многих существенных и несущественных моментах, но есть априорные подсказки собственной культуры, срабатывающие на материале английской культуры: наши герменевтические ожидания, сформированные собственной культурой, оправдываются в наиболее фундаментальных, первоосновных отношениях.
В другом случае мы занимаемся культурой, к которой не принадлежим в непосредственном смысле, как не принадлежим и к тому макроцивилизационному материку, в которой входит изучаемая культура (как «английская культура» входит в ареал «западной культуры»). Например, мы занимаемся китайской культурой, к которой не принадлежим, ― мы ею не воспитаны, мы ее не восприняли, так сказать, с молоком матери, не слышали китайских сказок, нас не окружает атмосфера китайской культуры, она не вошла в нашу плоть и кровь, и мы не знаем, что это такое. Это совсем другая исследовательская ситуация. И дело здесь не в том, что мы не обладаем информацией о китайской культуре. Информацию получить довольно легко, для этого достаточно обладать трудолюбием и способностями. Но мы не можем получить интуитивную подсказку нашей культуры, которая работала в первом случае. В случае с китайской (или индийской) культурой такой подсказки нет. И в случае с исламской культурой такой подсказки тоже нет. Поэтому я буду говорить о тех ситуациях, когда исследователь не имеет такого априорного и часто не замечаемого знания об изучаемой культуре.
В такой ситуации сравнение — не какая-то операция, которая совершается после того, как мы изучили культуру, являющуюся объектом нашего исследования. Дело не обстоит так, что сначала мы изучаем исламскую культуру, а потом начинаем ее сравнивать с собственной культурой. Здесь сравнение встроено в сам процесс исследования, и оно не является какой-то отдельной операцией, совершаемой после того, как мы овладели суммой знаний о некой культуре.
Это главный тезис. Если исследование не совершается как сравнение, если исследователь не осознает, что он постоянно находится в состоянии сравнения, изучая культуру, к которой не принадлежит (второй из рассмотренных случаев), — тогда он неизбежно совершает ошибки, подменяя базовые, смыслообразующие ходы, характерные для изучаемой культуры, своими, характерными для его родной культуры, но не характерными для изучаемой. Это происходит неосознанно.
Сейчас, может быть, еще не вполне понятно, о чем я говорю, но по мере того, как мы будем раскрывать наш предмет, этот тезис наполнится конкретным содержанием.
Собственно, «сравнительное изучение» — это и есть такое изучение, которое осознает себя одновременно и как сравнение. Сравнительное изучение культур проблематизирует несовпадение, или инаковость культур, и использует специальные методы для того, чтобы эту инаковость вытащить на свет и увидеть, как она влияет на выстраивание целостного тела культуры.
Ну и, наконец, слово «культура». Что такое культура? Культурологи знают, сколько существует определений культуры. Невозможно дать определение культуры, с которым все бы согласились. Более того, в современном мире слышны голоса, отрицающие применимость понятия культуры в том смысле, в каком его обычно трактуют. Я имею в виду позиции тех, кто выдвигает так называемые антиэссенциалистские теории культуры, когда говорят, что исследования культуры и работы культурологов XIX и особенно ХХ века грешили тем, что культуру представляли как некое закрытое образование, как нечто, что обладает собственной сущностью. Культура, обладающая этой сущностью, обрекает, мол, человека — своего носителя на определенный тип поведения. Если ты носитель такой-то культуры, тебе уже никуда за рамки этой культуры не вырваться.
Понятно, что это противоречит некоторым теориям, философским пониманиям человека, и не случайно, что именно в США достаточно часто раздаются голоса тех, кто говорит, что ничего подобного не существует, культуры в этом смысле нет, что это выдумка ученых, фикция. На самом деле человек выстраивает и перестраивает себя как некую идентичность. Идентичность человека — это не что-то заданное его культурой, а то, что он выстраивает в каждый данный момент на перекрестке разных культурных влияний, вылепливая себя. Таково антиэссенциалистское понимание культуры. Ему противостоят различного рода теории, которые так или иначе склонны рассматривать культуру как некую сущность, обладающую определенными чертами.
Должен сразу сказать, что мое понимание культуры иное, оно не является ни эссенциалистским, ни антиэссенциалистским. Оно лежит, если можно так выразиться, в другой плоскости. Я понимаю культуру как способ смыслополагания. Это очень короткое определение, но я надеюсь, что по мере развития нашего разговора оно будет становиться яснее. Я буду говорить о культуре как способе смыслополагания, способе формирования осмысленности, то есть создания целостного мира, в котором человек живет и действует.
Таковы предварительные замечания, которые я хотел сделать, чтобы разъяснить название цикла наших лекций. И поскольку, как вы, надеюсь, поняли, сравнительное изучение культуры — это и есть погружение в материал культуры, говорить о методе сравнительного изучения я буду исключительно на материале той культуры, которой занимаюсь, — арабо-мусульманской. Я надеюсь показать вам — по необходимости фрагментарно, но все же так, чтобы эти фрагменты сложились в целостную картину, — что такое арабо-мусульманская культура как способ смыслополагания; я постараюсь сделать так, чтобы вы увидели, как эта культура выстраивает сама себя, какие логические ходы (в смысле философской логики) предполагает, всегда ли эти ходы совпадают с теми, которые кажутся нам априорно ясными и неизбежными.
Мы рассмотрим следующие темы. Сперва поговорим об арабском языке как основном языке исламской культуры. Здесь мы столкнемся с проблемой переводимости/непереводимости: какое видение мира предполагает арабский язык по сравнению с тем, к которому мы привыкли и которое кажется нам естественным. Следующая тема, которую я затрону, — исламское право, исламская этика, исламская доктрина и религиозная картина мира в исламе. Это подведет нас к вопросу о том, какой была философская рефлексия в исламе. Речь пойдет не о заимствованной античной философской традиции, которую обычно изучают в общих курсах по истории философии, а о собственной, автохтонной философской рефлексии, возникшей на собственно исламской почве. Мы рассмотрим начальный, очень интересный и оригинальный этап ее возникновения — мутазилитский, и сравним его с последним, завершающим периодом классической арабской философии — суфийским. В завершение поговорим об исламском искусстве — прежде всего о невербальном (орнамент), имея в виду перекличку его основополагающих смыслообразовательных принципов с музыкой и поэзией.
И философы, и лингвисты знают, что вопрос о соотношении языка и мышления — один из излюбленных и широко обсуждавшихся и в философии языка, и в лингвистике ХХ века. Пожалуй, наиболее привлекательная, авторитетная, репрезентативная теория в этой области принадлежит Сепиру и его ученику Уорфу. Теоретические построения Сепира–Уорфа обычно называют гипотезой языковой относительности. Согласно этой концепции, разные языки обладают различным набором так называемых формальных средств. В одних языках — одна глагольная система, в других — другая, то же и с системой местоимений и т. д. Есть языки, которые вообще не фиксируют принадлежность слова к той или другой грамматической категории, например, классический китайский.
В свое время ученые попытались найти так называемую минимальную грамматику, то есть набор тех грамматических средств, который был бы общим для всех языков. Выполнить эту программу по большому счету не удалось — настолько велико различие языков. Поскольку у языков различные средства формализации, то и носители разных языков (согласно гипотезе Сепира–Уорфа) видят мир по-разному, в зависимости от того, какие средства предлагают им их родные языки.
Таков первый тезис: система формальных средств языка определяет ту картину мира, которая складывается в голове у носителя языка. Но эта гипотеза содержит и другой тезис — о том, что любой язык может развиваться. Язык не фиксирован, то есть он не дан раз и навсегда в том виде, в котором мы его сейчас регистрируем. Есть диахрония и есть синхрония. В данный момент мы делаем синхронный срез языка, и он именно таков, каков он есть сегодня. Но никто не говорит, что через пятьсот или тысячу лет он не станет другим. Язык может стать другим. Это значит, что любой язык может развить любую систему формальных средств. Получается, что если в данный момент у носителя конкретного языка есть определенная картина мира, которая диктуется ему языком и его формальными средствами, то, может быть, у носителя того же языка через пятьсот или тысячу лет будет совсем другая картина мира, и ничто не мешает этим картинам мира эволюционировать. Так что, с одной стороны, мы говорим о фиксированности и данности, а с другой — об изменчивости.
Гипотезу Сепира–Уорфа обычно трактуют в том смысле, что картины мира различны постольку, поскольку различаются формальные средства языков. Например, если в языке отсутствует некая грамматическая категория, то носитель этого языка не осознает и те реалии окружающего мира, которые ей соответствуют, или не выстраивает в своем сознании те элементы картины мира, которые связаны с такой категорией. Скажем, в арабском языке нет категории инфинитива; следовательно, в соответствии с гипотезой Сепира–Уорфа, это должно иметь какие-то последствия для той картины мира, которая складывается у носителя арабского языка.
Это представление о связи языка и мышления часто обсуждается в философии языка. Давайте перейдем к фактам и посмотрим, насколько арабский язык совпадает с русским по способу описания, членения, представления мира как целостной смысловой системы. Мы проверим гипотезу Сепира–Уорфа на работоспособность и, если заметим в ней изъяны, предложим другое понимание вопроса.
Начну с тривиальной констатации: нет ничего необычного в том, чтобы сказать, что мир состоит из вещей. Вещи обладают качествами, или свойствами, или атрибутами, — чем-то, что мы им приписываем. Скажем, люди могут быть интересными и неинтересными, высокими и низкими, красивыми и некрасивыми. Следующая констатация: вещи действуют. В этом тоже нет ничего необычного, не правда ли? Дождь падает, птица летит, камень лежит. Наконец, мы можем говорить об отношениях между вещами: ближе — дальше, холоднее — горячее. Вещи могут быть количественно структурированы. Можно сосчитать, например, сколько человек присутствует сегодня на лекции; а можно сказать, что нечто превышает всякий счет.
Я не утверждаю, что назвал все естественно-языковые категории. Ведь есть еще категория местоимения и др. Но основные я перечислил. Спросите любого человека на улице: «Из чего состоит мир?», — и он, не задумываясь, скорее всего ответит, что мир состоит из вещей, обладающих свойствами и действующих.
Как это представление отражается в языке? И в русском, и в арабском мы имеем существительные и прилагательные. Имена существительные обозначают вещи, а прилагательные — свойства вещей, их качества. Далее, есть глаголы, которые выражают действия. С точки зрения гипотезы Сепира–Уорфа здесь нет никакого расхождения между двумя языками. Если обращать внимание на тонкости, то, конечно, расхождения в формальных системах этих языков есть, однако при укрупненном рассмотрении никакой разницы нет. Картины мира должны быть одинаковыми для носителей русского и арабского, если вести речь о базовых, первоосновных элементах, не вдаваясь в тонкости.
Так ли это?
Предлагаю рассмотреть этот вопрос на очень простом примере. Например, мы часто спрашиваем друг друга: «Как дела?» Арабы также задают этот вопрос-приветствие: Кейфа-ль-халь? (как дела?). По-русски в ответ можно высказать много разных фраз, в том числе и такую: «Дела идут». Для нас это — обычная фраза, которую носитель русского языка употребляет не задумываясь. Сразу заметим, что здесь присутствует существительное «дела» и глагол «идут». Иначе говоря, имеется субъект действия («дела»), который действует (дела «идут»). А что скажет араб в ответ на такой вопрос? В арабском языке также возможны разные ответы, но наиболее частотный, можно сказать, нормативный ответ едва ли не буквально совпадает с русским: маши-ль-халь, что мы переведем именно как «дела идут». Фактически по-арабски сказано то же самое, что и по-русски, за исключением одного нюанса: араб употребляет не глагол, как мы, а имя действователя (я называю эту категорию в терминах арабской грамматики — мы бы назвали это слово причастием) — маши «идущий». Араб говорит: «Дела идущие», а не «дела идут». Казалось бы, что из этого? Разные языки по-разному выражают одну и ту же мысль, но мысль-то, действительно, буквально одна и та же: «Дела идут».
Рассмотрим другой пример. Человек сидит и пишет, кто-то его спрашивает: «Что ты делаешь?» По-русски он скажет: «Я пишу», употребив местоимение (субъект действия) и глагол «пишу». А по-арабски это будет звучать так: «Я пишущий» (’ана катиб), то есть опять будет употреблен не глагол, а имя действователя (то, что мы называем причастием). Подобных примеров можно привести множество. Так, если я захочу сказать по-арабски, что я сейчас сижу, то опять-таки применю не глагол, а имя действователя, и получится «я сидящий», а не «я сижу», как по-русски, и т. д.
Это не значит, что арабский язык не позволяет употребить глагол во всех этих случаях. Употребить глагол можно, и араб поймет, о чем идет речь. Он, правда, несколько удивится, поскольку обычно так не говорят. Так сказать в принципе можно, правилами языка это не запрещено, и в нем присутствуют соответствующие формальные средства. Употребление глагола во всех этих случаях не будет ошибкой. Однако глагол, как правило, не употребляется носителем языка, который использует в таких случаях имя действователя.
Итак, мы заметили эту регулярность. Что из нее вытекает? Дело в очень незначительном, но очень важном нюансе: имя действователя (идущий, сидящий, пишущий и т. п.) в арабском языке никоим образом не указывает на совершенность или несовершенность действия. В русском мы имеем два причастия: «пишущий» и «написавший». Они отвечают на вопросы «что делающий?» и «что сделавший?» Говоря по-русски, мы обязаны выбрать одно из них, — мы же не можем употребить их оба сразу. В русском нет возможности высказать причастие, которое не указывало бы на совершенность или несовершенность действия, на его завершенность или незавершенность. По импликации причастия указывают и на время, прошедшее либо настоящее. Ведь «пишущий» является пишущим сейчас, а значит, речь идет о настоящем времени, тогда как «написавший» уже написал, а значит, имеется в виду прошедшее время. Таким образом, речь идет о действиях, которые либо совершаются сейчас («пишущий»), либо уже завершились («написавший»). И у нас нет возможности избежать этой импликации: говоря по-русски, мы не можем не указать на время. А говоря по-арабски, мы на время никак не указываем, потому что арабское ’ана катиб (что мы условно переводим как «я пишущий») никак не указывает на совершенность или несовершенность действия.
Давайте сделаем следующий шаг. Что, собственно, мы фиксируем, когда говорим: «Я пишу»? Мы фиксируем наличие некой вещи, некой, как сказал бы философ, субстанции — «я». С логической точки зрения «я» служит субъектом. Далее, мы указываем, что эта вещь-субстанция («я») обладает неким качеством; с логической точки зрения это означает, что субъекту приписан предикат. Пусть это качество вещи (или, логически, предикат субъекта) и выражается действием, но логическая суть фразы «я пишу» заключается в том, чтобы высказать нечто о вещи. Неважно, выскажем мы это неким прилагательным, или отглагольным существительным, или глаголом. Не случайно Аристотель говорит: «человек есть идущий» и «человек идет» — одно и то же. Глагольная форма «человек идет» сводится к субъект-предикатной форме «человек есть идущий», к той самой форме, которая известна из курсов логики: S есть P. Это — атомарная форма высказывания, на которой строится аристотелевская логика. Высказывая такую фразу, мы что-то высказываем о субъекте. Поэтому тот факт, что в слове «пишущий» или «написавший» проглядывает время, не случаен — ведь категория времени указывает на совершаемое (или совершившееся) действие, а действие раскрывает свойства субъекта.
А как обстоит дело с арабским языком? Он не стремится к тому, чтобы описать мир как собрание вещей, обладающих свойствами, как множество субстанций-субъектов, наделенных предикатами. Арабский язык не стремится к тому, чтобы создать у своего носителя интуитивное ощущение такой картины мира.
Это утверждение — негативное: мы говорим о том, чего арабский язык не делает. Но что он, собственно говоря, делает; что арабский язык подсказывает своему носителю? Естественная, встроенная в сам язык подсказка заключается в следующем. В нашей арабской фразе ’ана катиб (условный эквивалент для «я пишущий») имеется слово катиб (то, что мы условно переводим как «пишущий» или «написавший», помня, что в арабском нет никакого указания на время). Так вот, в этой ситуации арабский язык подсказывает своему носителю, что имеется связанная с катиб, образующая с ним пару и как будто автоматически восстанавливаемая форма мактуб. Это слово относится арабской грамматикой к категории имени претерпевающего. Мы можем сказать, что оно условно соответствует в русском страдательному причастию — если будем помнить, что в арабском имени претерпевающего нет указания на завершенность или незавершенность действия и, следовательно, на время. С этой оговоркой мы переведем мактуб как «записанное» или «записываемое».
Третьим как будто автоматически восстанавливаемым в этом ряду будет слово китаба «писание» (в смысле процесса писания). «Писание», хотя и звучит несколько неуклюже для русского уха в смысле указания на процесс (а не на вещь), тем не менее точно соответствует арабскому китаба.
Итак, что же предполагает эта тройка катиб–мактуб–китаба (пишущий, записываемое и писание как процесс); что подсказывает арабский язык своему носителю в плане построения картины мира?
Картина мира, подсказываемая нам нашим языком, может быть названа субстанциальной. Это значит, что для нас мир состоит из субстанций, из вещей, которые наделены какими-то свойствами. Так мир описывается в логике, так он описывается в философии, так он описывается в науке и в современной математической логике, несмотря на невероятное ее усложнение со времен Аристотеля. А арабский язык может быть назван языком процессуальным, ибо для носителя арабского языка мир состоит из процессов. Не из вещей, которые связаны свойствами и обладают качествами; главным является процесс — то, что в нашем примере выражено словом китаба «писание».
Что такое «процесс»? Используя это слово с целью описать ту фундаментальную особенность арабского языка, о которой идет речь, я употребляю его не в том смысле, в каком «процесс» используется в современной западной философии, когда, делая акцент на процессе, отдельные мыслители пытаются уйти, ускользнуть от субстанциальной картины мира. В отличие от этого, для арабского языка процессуальность — естественная характеристика картины мира.
В чем же состоит эта характеристика? Процесс не указывает на время. Ни в одной из упомянутых трех форм (катиб–мактуб–китаба) нет никакого указания на время. Сравните эту тройку с русской «пишущий–записываемое–писание». Два причастия указывают, как мы выяснили, на время, — а вот «писание» (в смысле процесса писания) на время не указывает. Этот факт дает нам возможность, оставаясь в пределах русского языка, прикоснуться к тому, как устроено арабское языковое мышление. «Писание» — это что-то, что совершается вообще: мы не знаем, вчера, сегодня, завтра или всегда. В этом арабский и русский языки схожи. Но в отличие от русского, такого указания на время нет в арабском и в двух других словах этой тройки.
Так вот, процесс — это то, что связывает две стороны — сторону активную, действующую (это тот, кто совершает процесс, — по-русски мы скажем «пишущий», а по-арабски — катиб), и сторону пассивную, претерпевающую (мактуб — «записываемое»). «Пишущий» и «записываемое» — это две разные стороны процесса, различающиеся физически и арифметически. Но они неразрывны в том смысле, что «пишущий» бывает только тогда, когда есть «записываемое». Они — вместе, переходят одно в другое: «пишущий» продуцирует «записываемое», и вместе с тем только благодаря «записываемому» является «пишущим». Они обязательно должны быть вместе, чтобы процесс «писания» совершался. Для арабского языкового мышления мир состоит не из вещей, он состоит из такого рода процессов, служащих мостиком, стягивающим две стороны, активную и претерпевающую.
Вот в этом заключается главное, что я хотел сегодня донести до вас. Основной тезис: арабский язык предполагает иное видение мира, чем русский язык. Вероятно, этот тезис может быть распространен и на ряд других языков. Так, арабскому родствен иврит, и для иврита характерны те закономерности, о которых я говорил. Картина мира, которую предполагает русский язык, может быть названа субстанциальной. Это такая картина мира, когда мы видим мир как собрание вещей, обладающих свойствами. Картина мира, которую предполагает арабский язык, — процессуальная, когда мир предстает как совокупность процессов, в которых всегда участвуют две стороны, причем эти две стороны обязательно предполагают наличие друг друга: не может быть так, что есть одна сторона и нет другой.
В том, что касается соотношения языка и мышления, хочу зафиксировать следующее. Арабский язык обладает теми же формальными средствами, что и русский, для того, чтобы точно указать на время. В арабском языке тоже можно построить фразу, которая будет точно указывать на время, как и в русском. Иначе говоря, если рассматривать это с точки зрения гипотезы Сепира–Уорфа, мы не сможем говорить ни о какой предопределенности мышления особенностями арсенала формальных средств языка. Однако русское и арабское языковое мышление различается: первое субстанциально, второе процессуально. Получается, что мышление отбирает те языковые средства, которые ему «комфортны», которые соответствуют ему. Этот отбор мышлением тех или иных языковых средств и приводит в конечном счете к тому, что в результате рефлексии эти предпочтения кристаллизуются в виде логики — философской логики, а затем и формальной логики. Греками это было осознано в логической форме «S есть P», которая зафиксировала картину мира, окончательно закрепленную в платоновско-аристотелевской парадигме. В самом деле, для Платона мир состоит из слепков идей, то есть опять-таки из вещей; для Аристотеля «первая сущность», то есть именно вещь, и есть главный кирпичик мира.
Это происходит в ходе движения от естественного языка и предоставляемых им различных формальных средств — к выбору, совершаемому мышлением в пользу тех или иных формальных средств, которые более соответствуют тому или иному типу мышления, или типу видения мира. Эти предпочтения в конечном счете кристаллизуются в отточенных логических формах. В Европе это произошло в Греции. В исламском мире такая строгая логическая форма не была найдена, то есть не была создана логика, сопоставимая с аристотелевской. Но это сути дела не меняет, потому что такого рода логика — всего лишь формальное выражение, формальная фиксация мышления. Сама же по себе процессуальность, безусловно, наблюдается в арабском языке и арабском мышлении как на уровне языковой картины мира, так и на уровне отрефлектированного, упорядоченного мышления, которое видит мир как совокупность процессов.
— Уважаемый Андрей Вадимович! Как известно, арабская грамматика сформировалась как единая для литературного арабского языка. В то же время существует огромное количество диалектов, которые сильно отличаются друг от друга. Как Вы считаете, необходимо ли формировать литературный арабский язык и насыщать его какими-то более современными инструментами? В качестве примера можно упомянуть появление в арабском языке знака вопроса, которого там долгое время не было. Необходимо ли модернизировать систему арабской грамматики и сделать ее единой для всего исламского мира? Помогает ли этому религия? Или же следует все это «отпустить», что, вполне возможно, приведет к формированию каких-то самостоятельных языковых школ, поскольку различные жаргонизмы, сленговые слова постоянно входят в лексикон? (вопрос из зала)
— Вы правы, существует единый литературный арабский язык, его обычно называют языком Корана, хотя это своеобразное преувеличение. Ведь литературный арабский язык — это язык, знающий фактически только регулярные грамматические формы (в арабском литературном языке фактически нет исключений, ибо все «исключения» описываются, в свою очередь, правилами, так что единичных, не поддающихся упорядочению исключений нет; такого в живых языках не бывает). Понятно, что это язык, который уже в средневековье был введен в русло очень четко и ясно сформулированной всеобъемлющей грамматики и «подогнан» под нее. Язык Корана совсем другой. Это, конечно, живой язык, в котором есть масса нерегулярностей. Но именно единый литературный арабский язык сохранял единство исламской культуры и, безусловно, до сих пор обеспечивает единство арабской нации. Ведь фактически нет ничего другого, кроме языка, что было бы безусловно единым для арабов.
Языковая ситуация уникальна для арабского мира. Коран был письменно зафиксирован в VII веке, и с этого времени до наших дней, то есть в течение четырнадцати веков, его язык оставался неизменен. В какой-то степени он, конечно, претерпевал изменения, но не настолько, чтобы стать другим языком. Поэтому сегодняшний студент, выучивший арабский язык, в принципе может читать всю классическую литературу так же, как современную газету. Других подобных примеров я не знаю.
Надо ли модернизировать арабский язык — это вопрос, который является наиболее острым и для самих арабов. Конечно, модернизация нужна. Однако здесь мы имеем дело с очень глубоким парадоксом. В реальности арабский язык давно уже расщепился на то, что называют диалектами, или разговорными языками, которые необыкновенно бедны, потому что не имеют письменности. Это устные языки. Но если речь идет, например, о технической сфере, где арабский мир должен воспринять достижения западной цивилизации, там в реальности всегда используются диалекты. Существует и в литературном языке лексика, служащая эквивалентом для соответствующих, скажем, английских или французских технических понятий, но в реальности она практически не используется. Поэтому потребность в языковой модернизации, конечно, есть.
Как модернизировать — это другой вопрос. Это совсем не так просто. Есть опыт других языков. Так, например, классическая вьетнамская иероглифика была переведена на латиницу — это единственный известный успешный эксперимент такого рода. Однако упрощение письменности привело к тому, что вьетнамцы оказались отрезанными от своего классического наследия. То же самое произойдет и с арабами, если они согласятся на подобную модернизацию. Многие предлагают ввести диалект в качестве официального письменного языка. В таком случае литературный арабский язык будет забыт (и произойдет это очень быстро, на протяжении всего одного-двух поколений), и они таким образом окажутся отрезанными от всего классического наследия. Были и предложения перевести на латиницу арабский алфавит. Но это оказалось невозможным, потому что арабский язык, будучи семитским, опирается на совсем другое морфологическое мышление, чем привычные нам языки: трехбуквенный корень, система флексий и пр.
Что касается знаков вопроса и знаков препинания, они действительно были введены в арабский язык под влиянием европейских языков. Но эти знаки в арабском факультативны, потому что все то, для чего они служат, арабский язык выражает лексически и синтаксически (с помощью частиц, союзов и прочего). Знаки препинания могут присутствовать, могут отсутствовать. Сами арабы ставят их то так, то эдак, и в половине случаев они стоят не на своем месте, иногда просто графически украшают фразу. Почему? Потому что классический арабский текст в принципе не использовал никаких знаков препинания; он членится на фразы, но при этом весь текст един. Весь текст представляет собой как будто единую фразу, которая членится на отдельные, меньшие фразы.
Иначе говоря, можно ли модернизировать арабский язык — это вопрос без ответа. Вместе с тем сейчас арабские интеллектуалы бьют тревогу по поводу вестернизации арабского языка. С ним происходит то же самое, что и с русским языком: засилие иностранных (в основном английских) слов, которые заменяют арабские там, где в этом нет ни малейшей необходимости. Сказав вместо «звуковая дорожка» — «саундтрек», вместо «наклейка» — «стикерс», вместо «поддон» — «палетта», чего мы достигнем? Массовое сознание падко на такие подмены, будто бы тем самым массовый человек приобщается к «высокой иностранной культуре». Мы в этом смысле ничуть не отличаемся от арабов. Такое массированное вытеснение родного языка английским — феномен, который связывают с происходящими в мире глобализационными процессами, сминающими национальные культуры.
— Андрей Вадимович, многие из наших студентов, аспирантов выбирают путь научных исследований, свое место в науке, и для них было бы интересно узнать, каким образом Вы вышли на такую замечательную, интересную, но очень трудную тему научных исследований? (вопрос из зала)
— Этот вопрос сродни другому: «Почему ты женился на одной, а не на другой?» Если вы можете это рационально объяснить, значит, вы не любили. Так и здесь: я выбрал эту сферу просто потому, что она мне нравилась (и продолжает нравиться).
Но если попытаться ответить на вопрос, можно ли кому-то еще предложить сделать такой же выбор, и на каком основании его делать, то я бы сказал следующее. Арабская культура предлагает иное видение мира; это текст, который погружает вас в совершенно незнакомую вам ситуацию. Это чрезвычайно интересно. Как разгадывание загадки. Если вам интересно разгадывать загадки, тогда стоит заниматься такого рода вещами.
Но это не просто загадка для развлечения досужего ума. Далеко не так. Разгадывая такую загадку, мы пытаемся ответить на вопрос «как устроено наше сознание?», что оно собой представляет. А это — центральный вопрос сегодняшней философии. Подходя к нему с той точки зрения, о которой я говорю, мы имеем огромное преимущество: мы опираемся на опыт иной архитектоники сознания, тот бесценный опыт, который дает нам другая культура и который никогда и никак не может быть почерпнут нами из арсенала собственной культуры. Вот почему разгадывание такого рода загадки обещает невиданный прорыв в понимании того, что такое сознание и мышление, в ответе на основной вопрос: «Что такое смысл?»
Есть и другого рода соображения. Исламский мир — один из главных игроков в современном мире. Исламская культура — это полтора миллиарда человек. Это немало. Население Земли по сути — это население Китая, Индии, исламского мира, плюс «золотой миллиард» Запада. Это с точки зрения количественной. С качественной точки зрения исламская культура была мировым лидером на протяжении половины тысячелетия. Это необыкновенно интересная культура. Наконец, не надо забывать, что в России около 20 % населения — мусульмане. И неважно, исповедуют они ислам или нет. Эти люди так или иначе являются носителями культуры исламского типа — не в религиозном смысле, а по типу мировидения, этики, отношения к другому и т. д. Этого нельзя не учитывать. Если мы хотим сформировать единое российское цивилизационное пространство, то его надо формировать с учетом этих различных видений хотя бы главных групп населения России, то есть тех, кто сформирован христианской и исламской культурами, не говоря уже о том, что у нас есть представители буддизма и других конфессий.
— Скажите, пожалуйста, для рассматриваемого вопроса и для мусульманской культуры только ли арабский язык является носителем специфических свойств, или в мусульманской культуре есть и другие значительные языки, обладающие какими-то особенными свойствами? (вопрос из зала)
— Это вопрос, который имеет отношение к единству исламской культуры. В каком смысле она едина? Сами мусульмане, исламские религиозные деятели и деятели культуры очень любят выдвигать тезис о том, что ислам — нечто единое, что исламская культура едина, несмотря на необыкновенное этническое и языковое разнообразие — ведь исламский мир протянулся от Атлантического океана до Китая.
В определенном смысле это действительно так — исламская культура действительно едина. И роль арабского языка в этом (при всем уважении к другим языкам) трудно было бы отрицать, потому что арабский язык сформировал исламскую культуру. Это язык, на котором до сих пор говорят все классические исламские науки.
Иранцы — носители персидского языка и представители древней культуры; их вклад в формирование классической исламской культуры также невозможно переоценить. Персидский язык — не семитский, он относится к числу индоевропейских. Столкновение семитского и арийского — эта коллизия часто рассматривалась исламоведами в XIX и XX веках. Насколько это столкновение и это взаимодействие повлияло на формирование исламской культуры? Конечно, повлияло, но тем не менее все иранцы, получившие классическое исламское образование, и сейчас прекрасно говорят по-арабски.
Завершающий элемент в той языковой троице, которая составила основу исламской культуры, представлен тюркскими языками. Какие из них важнее? Если говорить о классической исламской культуре, то арабский язык являлся, конечно, основным, главным и ведущим. Картина мира, выстроенная в исламской доктрине и в значительной степени формирующая мировоззрение верующих, находится под определяющим влиянием тех языковых интуиций, которые характерны для арабского и которые проявились уже в Коране. Но как обстоит дело с не-арабскими народами, для которых арабский не является родным языком? Ведь родной язык нельзя поменять, как и культуру.
В. М. Межуев, очень уважаемый современный философ культуры, считает, что культуру можно поменять. Но это не так. Родной язык нельзя поменять — он в нас «встроен» без нашего на то согласия или ведома. Mother tongue, «язык матери», как говорят англичане, не выбирают. А ведь «механизмы» смыслополагания, благодаря которым сформировано смысловое тело культуры, зависят от родного языка. В этом смысле культуру выбрать нельзя — можно физически переместиться в пространство другой культуры, сменив место жительства, но невозможно превратить чужую культуру в свою. Однако, воспринимая арабский язык как язык образованности, учености, не-арабские народы в какой-то степени воспринимали и картину мира, свойственную данной культуре. Конечно, их мышление не могло быть полностью перестроено, но определенному влиянию оно подвергалось в силу той роли, которую играл арабский язык.
— В начале лекции Вы, Андрей Вадимович, дали достаточно лаконичное определение культуры как способа смыслополагания. Мне показалось, что слово «способ» уже относит нас к некой методологии, науке. Не исключает ли такое определение культуру (как нас этому учили) как нечто, созданное человеком, то есть не сам способ понимания мира, но то, что уже создано и сейчас находится и существует реально? (вопрос из зала)
— Конечно же, исключает. Для меня культура — это не то, что есть, а способ выстраивания того, что есть (или того, что будет или было). Это тот механизм, который работает в вашем сознании с тем, чтобы вы могли выстроить некое осмысленное целое, то, что потом и станет культурой в том понимании, о котором вы говорите, — культурой как суммой духовных и материальных благ. Вот почему мое определение не является эссенциалистским, то есть оно не привязывает нас к какой-то сущности культуры, к чему-то ставшему, — оно указывает на способ создания культуры. В этом смысле, например, можно говорить о западной культуре, хотя культуры античности, средневековья и так далее — это все разные культуры. Да, они разные, но с точки зрения базового способа смыслополагания, о котором я говорю, — это одна и та же культура, один способ выстраивания культуры. Поэтому не лишенными смысла являются выражения вроде «история западной философии» — мы не испытываем неудобства в такого рода обобщениях, они представляются естественными. Точно так же можно говорить и об «истории западного искусства». А вот если мы присоединим сюда исламскую философию или исламское искусство, то это будет восприниматься как совершенно искусственное объединение разнородных элементов, лишенное внутренней логики. Внутренняя логика возникает оттого, что работают одни и те же механизмы выстраивания культуры.
— Позвольте один уточняющий вопрос. Вы считаете, что процессуальность арабского языка не укладывается в субъект-предикатную структуру Аристотеля? (вопрос из зала)
— Нет.
— Но ведь субъект отделяет себя от процесса. Например, «я» в «процессе письма». Самосознание же есть, трансцендентальный ход…
— Очень хороший вопрос. Вы правильно сформулировали его: субъект-предикатная структура высказываний Аристотелевой логики не может отразить понимание процессуальности, которое лежит в основании арабского языкового и теоретического мышления. Для этого нужны другие логические средства. Что «субъект отделяет себя от процесса», также верно; правда, здесь мы имеем субъектность уже в нововременном смысле (субъект как «я»), а не в логическом (субъект как носитель предикатов), поэтому эти два смысла субъектности не надо смешивать.
В пределах аристотелевской логики логически правильное членение смыслового поля — это родовидовая иерархия. Ту же функцию логически правильного упорядочивания смыслового поля для арабского мышления выполняет тройка «процесс/действующее–претерпевающее», где процесс играет роль объединяющего понятия, своеобразной «стяжки», соединяющей две тесно сопряженные противоположности — действующее и претерпевающее. Принципиально, что как процесс, так и действующее-претерпевающее вынесены за пределы темпоральности: они не указывают на время. Поэтому процесс, будучи длящимся, в то же время вынесен из потока изменений, а потому именно с процессом связывается для арабского мышления устойчивость и истинность.
— Скажите, пожалуйста, что Вы думаете о разнице между понятиями «культура» и «цивилизация»? (вопрос из зала)
— Как вы знаете, существует множество определений этих понятий, как существуют различия в понимании соотношения между ними. Речь идет не о том, чтобы попытаться найти некое подлинное значение слова «культура» или «цивилизация», а всего лишь о том, чтобы договориться о терминах. Я это и попытался сделать, сказав, что я понимаю культуру как способ смыслополагания. Конечно, это определение предполагает определенное развернутое представление о том, что такое культура: я понимаю ее как целостное смысловое поле, выстраиваемое и переустраиваемое по определенным законам. Конкретное наполнение этого «тела» может быть разным в разные эпохи, а вот законы его выстраивания, которые я называю процедурами смыслополагания, устойчивы и не меняются с развитием культуры. Они составляют ее стержень, и отказ от них означает смерть культуры как жизнеспособного, творческого организма. Это не значит, что с утратой этого стержня исчезнет сразу все: этнос, язык, духовное и материальное наследие. Нет, все это может существовать еще очень долгое время, не будет только одного — способности творчески развиваться и делать свою культурную работу вместо того, чтобы пытаться освоить плоды чужой, вечно отставая и удивляясь своей хронической отсталости.
Сегодня мы поговорим о важнейших сегментах исламской культуры — праве, доктрине и этике. Но сначала освежим в памяти опорные моменты, связанные с возникновением и ранней историей ислама.
Ислам возник в VII веке нашей эры. Возникновение ислама связано с именем Мухаммеда, пророка и посланника. Разница между этими понятиями состоит в том, что пророк приносит вести от Бога, тогда как посланник приносит еще и Закон. Мухаммед принес Закон (араб. шари‘а, русск. «шариат»). 570 год считается годом рождения Мухаммеда. 610 год, когда ему было 40 лет, — это год начала ниспослания Корана, которое продолжалось почти до самой смерти Мухаммеда, последовавшей в 632 году.
Между 610 годом, началом откровения, и 632 годом, годом смерти Мухаммеда, — 22 года. Я не случайно это подчеркиваю. 22 года — это очень большой период, на протяжении которого ниспосылалось Откровение, то есть Коран.
Ниспосылался Коран отдельными порциями: иногда целыми сурами (главами), иногда отдельными аятами (стихами). Иначе говоря, Коран не был ниспослан разом. Исламское сознание вполне принимает факт историчности откровения Корана людям. Откровение давалось постепенно, Закон давался постепенно. Эта постепенность разворачивания Закона органично входит в исламское понимание Закона.
Но дело не только в историчности ниспосылания Закона. Еще одна опорная дата исламской истории — 622 год, год хиджры. Слово хиджра по-арабски означает «переезд». В данном случае имеется в виду переселение Мухаммеда с группой сподвижников-мусульман из Мекки в Медину (тогда этот город носил название Ясриб). Важно не само переселение, а тот факт, что в результате этого была образована исламская община — умма, то есть община, которая живет по Закону ислама — шариату. В Мекке этого не было, а в Медине это событие произошло. Для исламского сознания это событие имеет всемирно-историческое значение, поскольку умма, возникнув, не должна погибнуть до конца времен, до Судного дня; и исламское сознание ориентировано прежде всего на сохранение жизнеспособности уммы.
Заметим, что это 622 год. Прошло двенадцать лет после начала Откровения, которое будет ниспосылаться еще в течение десяти лет, а Закон уже начинает действовать — ведь он уже лежит в основе организации и жизнедеятельности уммы. Значит, историчность и в этом смысле: Закон еще не завершен, еще не открыт людям до конца, а община уже живет по нему. Закон изменяется и продолжает изменяться: появляются новые нормы, отменяется часть старых, и эта эволюция Закона продолжается на протяжении оставшихся десяти лет жизни Мухаммеда.
Это, подчеркиваю, еще один аспект историчности исламского Закона, который во времена Мухаммеда находился в становлении и развитии. Почему я на этом делаю особый акцент? Потому что один из широко распространенных стереотипов заключается в том, что Закон ислама имеет божественное происхождение, а потому он, мол, неизменен, фиксирован. Как всякий стереотип, это представление соотносится с реальностью «с точностью до наоборот». Уж если и есть что-то изменяющееся, так это именно шариат. Его изменчивость заложена уже в самом факте его возникновения, поскольку оно являло собой исторический процесс, растянувшийся на 22 года. И когда Закон уже лежал в основании жизнедеятельности исламской уммы, он продолжал развиваться. Поэтому идея абсолютной неизменности закона не соответствует самому основанию исламского законосознания.
Рассмотрим еще один аспект. Когда говорят «божественный закон», обычно подразумевают (и это довольно естественно), что Закон внутренне не противоречив. Можно ли представить себе божественный закон, который содержал бы какие-то серьезные противоречия? Трудно представить, чтобы Бог по недосмотру предписал нечто, а потом — нечто противоположное этому; или что он запретил что-то, а потом разрешил это же. Но оказывается, что в тексте Корана имеются так называемые «отмененные» и «отменяющие» аяты. Отменяющие отменяют те предписания, которые были зафиксированы ранее другими аятами, оказавшимися теперь отмененными.
Это еще одна деталь, которая должна разрушить наше представление о застылости и неизменности исламского Закона, поскольку даже в ходе его ниспосылания Богом человеку Закон претерпевал кардинальные изменения, когда одни его положения были отменены другими. То есть идея историчности закона (что в нем одно соответствует одному моменту, а другое — другому, и разным моментам могут соответствовать противоположные установки и нормы закона) заложена в самом фундаменте исламского правосознания.
Мы говорим «божественный Закон», и в общем это не ошибка, есть и соответствующее арабское выражение (шари‘а ’илахиййа), которое буквально так и переводится. Но что стоит за этим выражением? Божественный ли это закон в том смысле, что он целиком и только божественный и что человек не имеет никакого отношения к формированию этого закона, но должен только подчиняться ему? Если мы, слыша выражение «божественный закон», заключаем, что человек всего лишь объект права, в том смысле, что он лишь подчиняется Закону и никак не участвует в его формировании, то мы совершаем существенную ошибку. Чтобы понять, почему, рассмотрим понятие «основы права» (’усул ал‑фикх), под которыми понимаются источники исламского права.
Первый источник — Коран — имеет целиком божественное происхождение. Статус Корана — «слово Божье». Это богооткровенная (а не просто боговдохновенная) книга. Коран является словом Божьим, то есть атрибутом Бога, а это означает, что он столь же неизменен, как сам Бог, потому что никакой атрибут Бога не меняется. В этом смысле, конечно, Коран — то, что должно было бы быть абсолютно фиксированным и неизменным. (Именно «должно было бы», поскольку нам известна история постепенной фиксации текста Корана, в которой до сих пор не поставлена точка.)
Второй источник исламского права — сунна. По-арабски слово сунна, как и шари‘а («шариат»), означает «закон», но под сунной понимается закон как образец для подражания, как некое лекало, по которому надо выстраивать себя и свое поведение. Если Коран — это целиком божественный по своему происхождению источник права, то сунна не может быть названа таковой.
Сунна — это корпус хадисов (от араб. хадис «рассказ»), то есть рассказов о поступках или словах Мухаммеда, в которых выражено одобрение или неодобрение. Иначе говоря, это те слова или поступки Мухаммеда, которые имеют нормативный характер, поэтому сунна является источником исламского права (равно как и исламской этики).
С точки зрения исламского вероучения, Мухаммед — обычный человек, как любой из нас. Нет ничего, что онтологически отличало бы его, выделяло из числа всех людей. Он отличается тем, что Бог избрал его своим пророком и посланником. Но это — божественный акт избрания, тогда как сам по себе Мухаммед — обычный человек. Иначе говоря, сунна — это описание человеческих поступков, которые стали образцом для мусульманина и источником права. Здесь мы видим размывание представления о том, что исламское право имеет целиком божественное происхождение. Как же целиком божественное, если второй по значимости источник права не является столь уж безусловно божественным по своему происхождению?
Конечно, в этом вопросе нет абсолютной ясности. Мы не можем назвать этот источник целиком человеческим. Да, Мухаммед такой же, как все, что неоднократно подчеркивает исламская доктрина. Это один из принципиальных тезисов. Вполне понятно, почему на данном тезисе делается акцент: в этом есть скрытая полемика с христианством. Это принципиально для ислама — подчеркнуть исключительно человеческий статус Мухаммеда, исключив любые попытки приписать ему божественность в каком-либо смысле. Но вместе с тем то, что он говорил, что делал, его поведение, его одобрение–неодобрение стали образцом для мусульманина на все времена. Это касается не только деталей ежедневного поведения или манеры одеваться, но и существенных правовых вопросов. С целью сохранить божественное обоснование исламского Закона исламская доктрина подчеркивает, что зафиксированные в сунне слова и поступки Мухаммеда были «санкционированы» Богом как абсолютно правильные.
Если в отношении характера сунны (божественный или человеческий) и остаются вопросы, то два других источника права носят уже исключительно человеческий характер.
Третий источник права — иджма‘ «консенсус». Сама идея консенсуса опирается на хадис, согласно которому умма единогласно не может принять неправильное решение. Имеется в виду единогласное решение всей уммы по правовым или иным (этическим, доктринальным) вопросам. Но уже вскоре после смерти Мухаммеда и начала стремительных арабских завоеваний стало практически невозможным выяснить мнение всей уммы по какому-либо вопросу — слишком быстро возросла ее численность и слишком обширными стали земли исламского государства. Поэтому принцип консенсуса получил толкование как консенсус факихов (правоведов) — всей уммы или даже определенной географической области.
Но кто же такие факихи-правоведы, принимающие единогласно то или иное решение, которое становится нормативным и входит в состав исламского права? Это — обычные люди, и они высказывают свое мнение исключительно как обычные люди. Это тоже принципиальное положение исламской доктрины. Исламский правовед говорит только как человек, он не имеет никакой божественной санкции на то, что он говорит. Таким образом, иджма‘ — исключительно человеческий источник исламского права.
Последний источник исламского права — кийас, что означает «соизмерение». Часто это слово переводят как «суждение по аналогии», что не вполне верно. Это — несколько иная процедура, исключающая образование общего рода и нацеленная на перенос юридической нормы с установленного казуса на новый, не описанный в праве. Важно, что эта процедура проводится человеком — квалифицированным правоведом, юристом; она имеет человеческий, а не божественный характер.
Таким образом, из четырех источников исламского права один имеет сугубо божественное обоснование и божественный характер (Коран), один как будто совмещает человеческую природу и божественный авторитет (сунна), а два (иджма‘ и кийас) имеют собственно человеческую природу.
Таково суннитское представление об источниках права. Шииты заменяют кийас на принцип, которые они имеют ‘акл «разум», подразумевая под этим нормы и установления, изреченные шиитскими имамами (то есть главами шиитов) и имеющие практически божественный, несомненный авторитет в силу близкой связи имама с Богом. В шиизме, таким образом, по сравнению с суннизмом заметна очень существенная тенденция к сужению автономии человеческого решения.
Исламское право на протяжении истории исламской цивилизации продолжало развиваться. Исламская цивилизация смогла возникнуть и удержаться на огромных территориях, с необыкновенным многообразием и разнообразием этносов, культур, исторического опыта, только потому, что исламское право очень быстро и гибко приспосабливалось к этим меняющимся условиям. И первым, кто начал изменять и реформировать исламское право, был не кто иной, как второй халиф Омар.
Это выдающаяся фигура в истории ислама. При халифе Омаре, благодаря его усилиям, было построено исламское государство. Он был очень набожный и решительный человек, но не останавливался перед тем, чтобы менять установленные в Коране (и подкрепленные, следовательно, несомненным божественным авторитетом) нормы на другие, которые он считал нужными для интересов исламской общины. Понятие «интерес» (маслаха) заслуживает отдельного упоминания.
В исламском праве действует один из фундаментальных принципов — принцип интереса. Правовед вправе по своему усмотрению и исходя из тех интересов, которые в данный момент, «здесь и сейчас», определены как интересы исламской общины, принять любое решение, даже если оно противоречит нормам, ранее зафиксированным в исламском праве или вытекающим из какого-либо источника, даже Корана. В принципе это разрешено. Вот вам и «божественный закон», который человек может менять, исходя из усматриваемых для исламской общины интересов, менять по своему усмотрению! Конечно, это не происходит ежечасно или даже ежегодно, и для этого нужны очень веские обоснования. Однако понятно, что, если бы исламское право действительно было замкнуто в пределах тех норм, которые установлены Кораном или даже сунной, то есть если бы оно действительно оставалось «божественным законом» в собственном смысле этого слова, исламский халифат не только не просуществовал бы столь долгое время, достигнув блестящих успехов в экономике и культуре, но и вовсе не был бы создан.
Что вытекает из всего сказанного? Очень важный вывод. Чтобы понять, что такое исламское право, этот важнейший элемент исламской культуры, мы не можем схватить его как некую сущность, охарактеризовав ее одним или несколькими предикатами. Мы не можем сказать, к примеру, что «исламское право есть божественный закон», подразумевая при этом в качестве необходимого следствия, что «исламское право не есть человеческий закон», поскольку «божественный закон» и «человеческий закон» образовывают дихотомию. Такое утверждения явно будет промахиваться не просто мимо некоторых второстепенных деталей, но мимо самой сути исламского права.
В чем же дело? Исламское право — это процесс, процесс взаимодействия божественного и человеческого начал. При этом мы не можем сказать, какое из начал в этом взаимодействии имеет преимущество или приоритет. Что важнее — Бог или человек-правовед и интересы человеческой общины, уммы? Мы не можем этого сказать. Без божественных установлений не было бы исламского права как процесса взаимодействия человеческой правотворческой активности с нормами божественного закона; но точно так же без человеческого начала богоустановленные нормы не были бы развиты в право. Божественное и человеческое, противостоящие друг другу и одновременно составляющие две необходимые стороны процесса правотворчества, лишь вместе, в своем взаимо-действии порождают исламское право. Исламское право — не сущность, а процесс, связывающий эти две стороны. Быть может, мы теперь лучше поймем, почему то, что мы называем словом «право», по-арабски называется словом фикх («понимание»): понимание и есть процесс взаимодействия человека-правоведа и Бога-установителя, и именно в таком взаимодействии совершается правотворчество.
Так процессуальность, замеченная нами на уровне арабской языковой практики и арабского языкового мышления, проявляет себя в первом из рассматриваемых нами важнейших элементов исламской культуры — праве.
В этом смысле исламское право (фикх), как и Закон (шари‘а — «шариат»), в принципе не являются чем-то застывшим. Они и не могут быть застывшим, потому что это всегда результат взаимодействия двух сторон. Как процесс не бывает застывшим, так и шариат не может быть застывшим. До тех пор, пока это действительно шариат, то есть пока действуют системообразующие принципы исламской культуры, он находится в постоянном движении.
Этому же соответствует и простое историческое наблюдение: исламское право никогда не было единым в том смысле, что никогда не был создан единый свод исламских законов. Иначе говоря, исламское право никогда не было кодифицировано; и что более важно, сама исламская культура никогда не предпринимала попытки такой кодификации. (Мы не можем, конечно, считать такой попыткой Маджаллат ал‑ахкам ал‑‘адлиййа «Свод юридических норм», состоящий из 99 «принципов» права.)
Этот факт, как правило, смущает западных ученых, которые видят явное, как им кажется, несоответствие между огромным количеством интеллектуальной энергии, которую исламская культура затратила на развитие права, и достигнутыми результатами, которые нельзя не признать мизерными, если мерить уровень развития права критерием как будто самоочевидным: внутренней согласованностью частей права, их фундированностью неким единым принципом и направленностью к некой единой цели. И такой критерий в самом деле самоочевиден — но только в том случае, если мы подходим к праву как к некоторой сущности, а не как к процессу. Действительно, обилие правовых школ-мазхабов в исламском праве приводит к ситуации, когда одновременно действуют разные, в том числе противоречащие и несовместимые нормы. Такая правовая система не может быть названа единой, если мы ее рассматриваем как сущность. Но исламское право — процесс, и как процесс взаимодействия божественного и человеческого начал оно действительно едино и устойчиво, поскольку этот процесс организован на одних принципах и имеет единое устройство. Это устройство определяется тем, что по-арабски называется ’усул ал‑фикх. Это выражение принято передавать по-русски как «источники права», тогда как означает оно буквально «основы понимания». Это различие между принятым «терминологическим переводом» термина и его собственным (арабским) звучанием вскрывает зазор между субстанциально-эссенциалистским и процессуальным взглядами. ’Усул ал‑фикх — это не источники права как некой сущности, это те основания, которые задают процесс понимания (собственное значение термина фикх) человеком божественных установлений.
Перейдем к исламской доктрине.
Прежде всего определим понятия. Я говорю «доктрина», а не «догматика», хотя очень часто, говоря об исламе, употребляют именно это слово. С одной стороны, это как будто не ошибка, но с другой — употребление слова «догматика» ведет к существенным искажениям.
Дело в том, что слово «догматика» имеет два основных значения. В первом, узком смысле под догматикой понимают не подверженные сомнению теоретические положения, которые утверждены Церковью и потому обладают для верующего абсолютным авторитетом. Догматики в этом смысле в исламе нет по той очевидной причине, что в исламе нет Церкви. Единственный общеобязательный текст сводится к шахада — известной формуле исповедания веры «Нет бога, кроме Бога; Мухаммед — посланник Бога», составляющей первый (из пяти) «столп ислама», то есть обязанность верующего. Однако, говоря об исламском вероучении, имеют в виду, конечно же, нечто большее, чем эта короткая фраза. Так вот, помимо нее, в исламе нет общеобязательных теоретических положений, которые мусульмане обязаны принимать и не могут оспаривать, и в этом, узком и строгом смысле «исламская догматика» сводится к формуле исповедания веры, тогда как все прочие положения вероучения не имеют абсолютного общеобязательного характера. (Это вытекает, в частности, из того факта, что только отрицание формулы исповедания веры, но не какого-либо другого теоретического положения лишает человека статуса мусульманина.)
Если же догматику понимать во втором значении, как комплекс вероучительных тезисов, содержащихся в авторитетных текстах, то в этом, широком смысле догматика в исламе, конечно же, есть. Но чтобы не путать эти два смысла, применительно к исламу предпочтительно употреблять слово «доктрина». Тем более что слово «доктрина» имеет очевидный эквивалент в арабском языке — ‘акида. Так именуется исламское вероучение, а также тот жанр литературы, в котором задается и развивается религиозная картина мира.
Поскольку в исламе нет Церкви, доктринальные сочинения — всегда авторские. Исламская доктрина не обезличена, так что мы всегда имеем некий вариант доктрины, созданный тем или иным автором на основе авторитетных источников, зачастую с привлечением в той или иной мере философского материала. Инвариант для этих различных версий доктрины (никогда не принимаемых всеми мусульманами) — не собственно какой-то текст, а фундаментальные принципы и основополагающие понятия, задающие архитектонику мировоззрения. Мы поговорим о них чуть ниже, обозначив сперва источники исламской доктрины.
Источники исламской доктрины — это первые два из четырех источников исламского права, то есть Коран и сунна.
Коран является целостным текстом в том смысле, что это — книга, которую можно взять в руки, открыть и прочитать. Согласно исламской доктрине, Коран зафиксирован в том первоначальном виде, в каком он был ниспослан Мухаммеду. С того самого момента, как он ниспосылался Мухаммеду, при нем находились, как говорит нам исламская доктрина, два писца, фиксировавших все произнесенные им слова. В этом неизменном виде Коран и дошел до нас.
Эта идеальная картина не соответствует исторической действительности, поскольку хорошо известно, что текст Корана был зафиксирован довольно поздно. Мухаммед умер в 632 году, а Коран как целостный текст был зафиксирован только при третьем халифе Османе, который правил с 644 по 656 год. Фиксация текста Корана — это отдельная история. Как выясняется, не было единого списка Корана, а имелись разноречивые списки. Из них был выбран только один, а остальные уничтожены. Филологическая история составления Корана, определения порядка сур, разбивки текста на фразы — это увлекательная, почти детективная история, камня на камне не оставляющая от наивного представления о ниспослании Корана изначально в целостном виде.
Однако, если оставить эту историю в стороне, зафиксированный Коран, который с тех времен имеет хождение в исламской общине, — это одна книга и единый источник.
Что касается сунны, то это — не единая книга. Сунна представлена сборниками хадисов, составляющими некий корпус. Этот корпус текстов, во-первых, очень большой с точки зрения числа составляющих его книг (так что взять их в руки невозможно физически — их можно разве что разместить в большом количестве книжных шкафов), а во-вторых, не зафиксированный точно с точки зрения своего состава. Сунну можно представить как текстовое поле с центром и расширяющейся периферией. Центр представлен для суннитов «шестью книгами» (ал-кутуб ас-ситта) — шестью наиболее авторитетными, универсально признаваемыми сборниками; для шиитов это другие четыре наиболее авторитетные сборника. По мере удаления от центра растет число сборников хадисов, включаемых в сунну, и одновременно снижается их авторитетность: за исключением центрального ядра, прочие сборники признаются только частью мусульман.
Поэтому «сунна» — понятие весьма неопределенное и по своему объему (число и состав книг, включаемых тем или иным мусульманином в сунну), и по содержанию (разные сборники содержат варьирующиеся положения, и одни и те же сборники, включая авторитетные из числа «шести книг», содержат хадисы порой взаимоисключающего содержания). Если мы говорим, что мусульманин живет по сунне, то под словом «сунна» подразумеваем что-то, точно не определенное, поскольку, несколько преувеличивая, можно сказать, что сунна у всякого мусульманина своя.
Внутри ислама существует значительный разброс доктринальных мнений, который обязан своим происхождением не столько Корану, рисующему более-менее единую картину, сколько сунне. В ней мы находим подчас противоположные версии ответов на один и тот же вопрос, а иногда — и целый спектр мнений, занимающих промежуточное положение между противоположными версиями. Это результат того, что сунна складывалась постепенно (этот процесс занял около двух-трех веков) на огромных пространствах исламского мира.
Каковы же основные черты исламской доктрины? Отвечая на этот вопрос, отвлечемся от варьирующегося содержания доктринальных сочинений и обратимся к их инвариантной архитектонике.
Первое фундаментальное положение доктрины, первый элемент рисуемой ею картины мира, — это «Бог» (’аллах). С точки зрения исламской доктрины Бог характеризуется вечностью. Как понимается вечность в исламе?
С одной стороны, Бог «вечен» (кадим) в самом общем смысле. Слово кадим можно передать старым русским словом «ветхий», когда оно обозначает нечто настолько «старое», что старее его ничего нет. Далее, этот смысл конкретизируется: Бог «безначален» (’азалийй), то есть вечен в том смысле, что не имеет начала. Если что-то безначально, значит, оно не было сотворено, — вот в чем смысл этого положения: Бог не сотворен, он не имеет начала. Третий термин для выражения понятия вечности — «бесконечное» (’абадийй), то, что не будет иметь конца.
Второй элемент картины мира — то, что на языке исламской доктрины называется ма сива ’аллах «то, что кроме Бога». Этот термин так и надо понимать: он обозначает все, помимо Бога.
Заметим, что термины «Бог» и «то, что кроме Бога» образуют очень строго выраженную дихотомию, ясное разведение Бога — и всего остального. Это принципиальный постулат, краеугольный камень исламской доктрины, в котором и находит свое главное воплощение принцип тавхид «обеспечения единства».
Принцип обеспечения единства (тавхид) подразумевает, конечно, единство и единственность Бога в том смысле, что Бог один и кроме него нет богов. Это самый простой смысл этого принципа (он зафиксирован и в шахаде), но далеко не единственный. Именно в силу того, что этот принцип раскрывается в разных аспектах, он служит своеобразным стержнем исламской доктрины.
Этот принцип достаточно ясно задает полемику с христианской доктриной. Ислам в значительной степени выстраивал свою мысль в оппозиции к двум другим авраамическим религиям — иудаизму и христианству. Принцип строгого единобожия, строгого отделения Бога от всего остального в этом смысле краеугольный для ислама, поскольку ясно отличает его от христианства и иудаизма.
«То, что кроме Бога» — это мир в самом широком смысле, то есть все, что сотворено Богом. Если Бог характеризуется вечностью, то мир носит временной характер. Сотворенное (махлук), возникшее (хадис), временное (му’аккат) — в данном случае синонимы. То, у чего есть начало во времени, непременно будет иметь и конец, поэтому временное противоположно вечному.
Между Богом и миром нет ничего общего — таково принципиальное положение исламской доктрины. Это ближайшим образом раскрывает принцип тавхид: у Бога нет, как любит выражаться исламская мысль, «никаких соучастников». Это означает, что в мире нет ничего, что было бы хоть в чем-то похоже на Бога.
Фундаментальное положение исламской доктрины заключается в непостижимости Бога, невозможности представить его ни в какой форме. Поэтому поклонение Богу может быть только абстрактным в том смысле, что оно не является поклонением какому-то олицетворению или символу Бога. Ничто не символизирует Бога, и у него нет никакого воплощения или зримого образа.
Я продолжаю умножать аргументы и положения, которые свидетельствуют о четком разделении исламской картины мира на две ни в чем не совпадающие части: «Бог» и «то, что кроме Бога». Бог абсолютно властен и могуществен в отношении всего того, что кроме Бога, поскольку, в соответствии с положением исламской доктрины, сначала был один Бог, и ничего кроме него не было, а затем (здесь слово «затем» надо понимать в смысле не временном, а логическом) Бог сотворил все остальное — исключительно по собственному желанию и благодаря собственному могуществу. Значит, все остальное, кроме Бога, — результат его творения, результат его воли и могущества. Он столь же властен над всей дальнейшей судьбой, как и над возникновением, то есть абсолютно все в мире находится под властью Бога. Это — известное положение исламской доктрины, которое очень часто и поспешно трактуют как проявление фатализма.
Итак, «Бог» и «то, что кроме Бога». А что, кроме Бога, собственно, имеется? Это — весь сотворенный мир, земля и небеса. Это — гигантское, с точки зрения человека, мироздание. Представьте себе человека VII века, который передвигался по земле в лучшем случае на верблюде. Для него такие расстояния — нечто колоссальное, и тем не менее это — нечто ограниченное, целиком подвластное Богу.
И в этом огромном мире есть человек. Каково место человека в мире с точки зрения исламской доктрины? Это — центральный вопрос, который выявит динамику доктринальной мысли.
С точки зрения логики принципа тавхид (строгого единобожия), на котором настаивает ислам, человек должен, конечно же, попадать в разряд «того, что кроме Бога». Следовательно, он должен быть таким же, как весь остальной мир, — возникшим. Человек должен быть сотворенным, а значит — подвластным Богу, целиком должен быть под Его волей, как любая другая вещь мира. Так ли это с точки зрения исламской доктрины?
С одной стороны, так, и в Коране есть немало свидетельств того, что Бог целиком определяет любой поступок человека. Скажем, знаменитый аят, в котором сказано, что Бог, кого хочет, ставит на прямой путь, а кого хочет, пускает блуждать, и такой человек уже не сможет найти правильное руководство и выйти на путь спасения, если Бог этого не хочет. Бог, таким образом, распоряжается не только событиями нашей земной жизни, но и самым главным — посмертной судьбой, предопределяя тот или иной путь человека.
Я подчеркивал, что исламская доктрина не систематизирована, не сведена в единый кодекс, точно так же, как не кодифицировано исламское право. В исламской доктрине немало противоречий. С одной стороны, исламская доктрина как будто ставит человека в разряд всего остального, что кроме Бога, чего-то, полностью подвластного Богу. Но есть и другое фундаментальное положение Корана о том, что человек принял «залог веры» (’амана). Это — одно из центральных положений исламской доктрины, которое невозможно игнорировать.
«Залог веры» — один из ключевых исламских концептов. Коран повествует следующую историю: Бог предложил залог веры сначала небесам — огромным, гигантским небесам, которые по своей мощи несоизмеримы с маленьким человеком. И эти гигантские небеса отказались — они сказали, что им это не под силу. Тогда Бог предложил его земле — но и земля отказалась. Горы, великие горы также отказались взять залог веры. Наконец, Бог предложил маленькому, ничтожному человеку: «Возьми залог веры», — и человек согласился, принял его.
«Залог веры» по-арабски ’амана — слово с тем же корнем, от которого происходит известное всем «аминь» (’амин), корнем, слова с которым несут идею верности, честности. Между Богом и человеком было заключено своеобразное соглашение, поскольку человек единственный из всего мироздания решился принять залог веры. Тем самым человек принципиально выделился из всего мироздания, отделил себя от всего остального, стал отличным от него. Почему? Да потому, что он взял на себя ответственность за соблюдение Закона. «Залог веры» — это и есть ответственность за соблюдение Закона. Бог предлагал всему остальному соблюдать Закон, но все отказались. И только человек взял на себя эту ответственность. Человек, таким образом, вступил в своеобразные договорные отношения с Богом.
Исламский закон во многом проникнут духом, идеей договорных отношений. Человек не просто подпадает под действие тех или иных норм закона; он вступает с Богом в договорные отношения, и если соблюдает нормы Закона, то взамен Бог награждает его: дарует райскую награду или прощение и т. д. В этом также проявляется процессуальность арабского взгляда на мир: не применение высших божественных норм к низшему, пассивному объекту-человеку, а процессуальное со‑отнесение человека и Бога, устанавливающее между ними то, что исламская мысль называет словом хакк («право»).
Взяв на себя залог веры, человек вступил в некий договор с Богом. Но если он сделал это, то оказался в определенной связанности с Богом. Есть что-то, что связывает человека с Богом. Значит, человек уже не может принадлежать к тому, что целиком отделено от Бога, к «тому, что кроме Бога». Человек не может оказаться не имеющим ничего общего с Богом.
Так внутри исламской доктрины возникает ситуация, угрожающая самому ее основанию. Ведь если человек занимает такое положение в мироздании, то он, конечно, наделен каким-то особым статусом, не таким, как статус всего мира. Кроме «Бога» и «того, что кроме Бога», есть еще «человек» — нечто третье, имеющее особый онтологический статус.
Приняв залог веры, человек — единственный из всего сущего — получил посмертную участь. Он — единственный, чье существование не ограничено «земной жизнью» (дунйа), поскольку за этой жизнью для человека последует «иная жизнь» (’ахира). Соблюдение или несоблюдение Закона ведет человека по пути в рай или ад. Я хочу сейчас обратить внимание не на само это положение, а на тот факт, что рай и ад являются «бесконечными» (’абадийй).
Я уже говорил, что термин ’абадийй «бесконечное» указывает на то, что не имеет конца, что длится бесконечно, — неважно, имело оно начало во времени или нет. Рай и ад имеют именно такую природу: с точки зрения исламской доктрины, они сотворены, то есть они имели начало. Бог сотворил их, они не являются безначальными, потому что безначален только Бог. Итак, рай и ад сотворены — но они не будут иметь конца.
Кто же населяет рай и ад? Ответ понятен: рай и ад населяют люди, пересотворенные в том же облике и в тех же телах, что они имели при земной жизни. Это одно из принципиальных положений исламской доктрины. Посмертная судьба человека выглядит следующим образом: человек доходит до конца своей земной жизни, умирает, его тело попадает в могилу, а душа (в противовес распространенному мнению) никуда не попадает, ни в рай, ни в ад, — она попадает на Перешеек (барзах), промежуточное пространство между этим и тем миром, и там ждет последнего Суда. Когда заканчивается история и наступает время Суда, Бог воскрешает тела в том виде, в каком они были в этой жизни, и вкладывает в них души. Таким образом, на Суд является тот же человек, который жил в этой жизни.
Рай и ад бесконечны во времени, они не исчезнут — таково общее положение исламской доктрины. В ней идут споры по многим вопросам. Например, по вопросу о том, вечными или нет являются адские муки. Я уже говорил, что сунна дает основание для подчас противоположных выводов. Это один из таких случаев. Есть достоверные хадисы, в которых говорится о том, что адские муки будут вечными для тех, кто попал в ад. Это значит, что, если человек однажды попал в ад, он пребудет там бесконечно. Но есть хадисы, не менее достоверные, в которых говорится, что адские муки не являются вечными ни для кого, и все, кто попал в ад, то есть все грешники, в конце концов переместятся в рай. Грешники отбывают только временное наказание в аду в зависимости от тяжести своих грехов. Есть и промежуточное мнение: мусульмане, независимо от того, какие грехи они совершили, в конечном счете перейдут в рай из ада, отбыв какое-то время там в виде наказания, а немусульмане останутся в аду навечно. В общем, существует значительный разброс мнений.
Однако по поводу того, что сами рай и ад являются бесконечными, противоречий в исламской доктрине нет. Таким образом, мы — такие же, как здесь, в этом мире, именно с теми телами, которые у нас сейчас, — будем существовать бесконечно в раю и в аду.
Итак, согласно исламской доктрине, вначале, до сотворения мира, Бог был один. Затем Бог сотворил мир. Мир прошел свою историю, она закончилась, свиток небес и земли свернулся, творение исчезло — мира больше нет, свершился последний Суд. Но Бог теперь остался не один, а вместе с человеком. Потому что остались рай, ад и человек, который будет существовать бесконечно — вместе с Богом.
Таким образом, Бог и человек оказываются совечными во вполне определенном смысле слова, в том смысле, что они будут существовать бесконечно. Человек имел начало, он был сотворен вместе со всем остальным миром, но в результате того, что он совершил этот акт — принял залог веры, взял на себя ответственность за исполнение Закона, — он оказался совечным Богу. И хотя исламская доктрина на этом, конечно, не делает акцента, потому что это явно означает приписывание чего-то общего человеку и Богу, но это совершенно очевидным образом вытекает из ее основополагающих положений. Этого нельзя не видеть — это очевидно. Данный конфликт заложен в самой исламской доктрине.
И еще одно противоречие: с одной стороны, Бог полностью вынесен за пределы нашего мира, но с другой — постоянно присутствует в нем. В Коране и сунне неоднократно говорится об этом. В Коране говорится, например, что Бог ближе к нам, чем наша шейная жила (сонная артерия). Сонная артерия — это то, в чем, собственно, и заключается жизнь; следовательно, Бог ближе к нам, чем сама наша жизнь. Бог следит за превращениями любой вещи в мире. Ничто не совершается без Его ведома: не идет дождь, не падает лист и т. д. Бог постоянно присутствует в мире благодаря своему знанию, воле и могуществу. Но если так, то это означает, что Бог не просто вне мира, когда между ним и миром нет ничего общего; Бог также и внутри мира, вполне определенным образом связан с миром. Если говорить на философском языке, Бог трансцендентен миру, потому что полностью отличен от него, но и имманентен ему, Он внутри мира, потому что «встроен» в мир, неотъемлем от него.
Суммируем сказанное. «Бог» и «то, что кроме Бога» не могут сохранить свою дихотомическую разведенность, столь настойчиво декларируемую исламской доктриной. Вникая в смысл этих понятий, раскрывая его, мы замечаем, что они превращаются в противоположности, взаимно необходимые друг другу. Что мир нуждается в Боге, не вызовет удивления или протеста. Но ведь и Бог без мира не может явить ни знание, ни волю, ни могущество. Бог и мир должны быть связаны — но связаны так, чтобы эта связанность исключала какую-либо общность между Богом и миром, поскольку такая общность непредставима.
А возможна ли связь в отсутствие общности? Нет, если мы мыслим субстанциально, то есть если речь идет об общности вещей. Такая общность выражается также в чем-то субстанциальном, что в каком-то смысле присутствует равно в обеих вещах. Но именно на невозможности так мыслить связь Бога и мира настаивает ислам, исключая такого рода субстанциальную общность между ними.
А если мы примем процессуальный взгляд, характерный для арабского мышления? Тогда связь не будет влечь субстанциальной общности. Представим, что нам надо связать воедино «пишущего» и «записываемое»: мы найдем их связь как процесс «писание». Но «писание» не включает в себя ничего, что принадлежало бы «пишущему» или «записываемому», как и «пишущий» и «записываемое» субстанциально разведены и не совпадают. Здесь выполнено условие отсутствия общности (понимаемой как субстанциальная общность) между всеми тремя участниками процесса, поскольку все они внеположны друг другу. Точно так же процессуальную связь Бога и мира будет искать философское мышление в исламском мире. Чуть забегая вперед, скажем, что, перепробовав различные варианты, оно остановится на том, который подсказан доктриной: человек в философии суфизма, последнем из созданных в исламском мире философских учений классического периода, становится процессуальным единством Бога и мира (именно этот смысл выражен в концепте Совершенного человека).
— Вы упомянули, уважаемый Андрей Вадимович, что человек, согласно исламской доктрине, ведет себя так, как этого желает Бог. Означает ли это отсутствие свободы выбора у правоверного мусульманина? Его земной путь предопределен от рождения до самой смерти? (вопрос из зала)
— Хороший вопрос, правда, он касается того, о чем я собирался говорить в следующей лекции. В двух словах на него не ответишь. Важен принцип понимания этого вопроса. Исламская доктрина очень разная, в ней есть разные мнения. Одна из линий ответа на этот вопрос, не единственная, но репрезентативная, заключается в следующем: божественная воля и человеческая воля не противоречат друг другу, и исламская доктрина выстроена так, как если бы это положение было верным. Действительно, Бог всемогущ, никто не отрицает его могущества, но воля человека автономна, она должна формировать его собственный и ответственный поступок. Человек должен проявлять свою волю к благу. К этому призывают очень авторитетные исламские ученые, такие как ’Абу Хамид ал‑Газали (ум. 1111). В одном из главных своих произведений, которое называется «Воскрешение наук о вере», он, обращаясь к читателю-мусульманину, говорит так: «Не думай, будто ты подобен куску мяса на колоде мясника и что тебе остается лишь лежать безвольно под ударами топора. Ты должен всегда проявлять свою волю и действовать так, как если бы твоя воля была свободной».
Это — самый общий ответ на заданный вопрос, который не освещает все нюансы, но лишь намечает основное направление. Говоря о мутазилитской философии, мы подробно остановимся на проблемах выбора, автономии действия, соотношения божественного и человеческого могущества и способности к действию.
— Когда речь идет об исламской культуре, невольно возникает параллель с православной культурой. На Ваш взгляд, каково соотношение общего и особенного в этих культурных системах? (вопрос из зала)
— Я не знаю, о какого рода параллелях вы говорите. Если вы хотите сказать, что и та и другая культуры религиозные, то такая параллель действительно возникает. Это и правильно, и неправильно. Поэтому я и стараюсь, насколько возможно, избегать употребления слова «исламский», но совсем без него не обойтись. Скажем, говоря о философии, лучше не говорить «исламская философия», потому что действительно возникает параллель с «христианской философией», как если бы и в том и в другом случае речь шла о религиозной философии, но лишь отталкивающейся от постулатов разных религий. Исламская культура «исламская» в том смысле, что связана с исламом, но она не исламская в том смысле, что каждая деталь в ней определена исламом как некой жесткой догматической системой. Исламская культура не сводится к исламу, и вы не можете любое проявление того, что есть в исламской культуре, свести к исламу как к некой жесткой норме. Это очень гибкая и развивающаяся система.
— Андрей Вадимович, насколько правомерно соотносить современные террористические организации с исламом и мусульманской культурой? Ответ на данный вопрос есть решение проблемы толерантности и взаимоотношений между западной и восточной культурами. (вопрос из зала)
— Это верная постановка вопроса: можно их соотносить или нельзя, тем более, что сами террористические организации, как правило, подчеркивают свой исламский характер и исламское происхождение. Но давайте не будем забывать, что в исламе нет организаций, которые имеют право принимать общеобязательные решения или говорить от лица всех мусульман.
С точки зрения исламской культуры, поведение террористических организаций абсолютно неправильно. Оно противоречит основам исламского права и исламской этики. Их стержневая идея — сохранение жизни и жизнеспособности, понятых как первоосновной «интерес» (маслаха). Прежде всего уммы в целом, потому что умма должна просуществовать до Судного дня. Но об умме в целом сейчас непросто заботиться, поскольку она насчитывает более миллиарда человек. Попробуйте доказать, что умма погибнет, если вы не совершите террористический акт! Следующее в шкале интересов — это жизнь каждого отдельного мусульманина. Это следующий объект опеки, заботы исламского права и исламской этики. Поэтому в исламе категорически запрещено убийство (и мусульманина, и немусульманина), если оно не санкционировано правом, то есть если не имеют место военные действия или что-то подобное. Вы имеете право убивать, только защищаясь и только в качестве адекватного ответа на угрозу. Даже в случае войны классическое исламское право строго регламентирует размер ущерба, который можно нанести врагу. Нельзя воевать против кого-либо на вражеской территории, кроме боеспособных мужчин, причем только тех, которые держат оружие; мусульманин не имеет права воевать против женщин, детей и безоружных. (Я говорю о праве, я не говорю о практике войны — она всегда и везде отклоняется от правовых норм.) Более того, исламская армия не имеет права наносить материальный ущерб противнику сверх того, который необходим для обороны. С точки зрения исламского права, нельзя прийти на чужую землю, чтобы все разрушить и сжечь.
Это общеизвестные вещи, касающиеся исламского права. Если так называемый террорист-смертник убивает себя и мирных людей — мужчин, женщин, детей и вообще всех, кто попадется ему на пути, то он нарушает основные нормы исламского права. В этом смысле он, конечно, не принадлежит к исламской культуре. Он принадлежит к ней лишь постольку, поскольку сам это декларирует, потому что с точки зрения исламской доктрины человек, принявший ислам, не может быть лишен этого статуса, его нельзя вывести из ислама иначе, чем на основании трех вещей. Первое — его собственное признание, то есть если человек сам заявляет, что он не мусульманин. Второе — если человек не признает единобожие, то есть если он говорит, что богов много или что Бога нет. Третье — если он оскорбляет Коран или Мухаммеда. Вот три основания, по которым человека можно лишить статуса мусульманина. Если же человек нарушает те или иные нормы исламского права, о которых я упоминал, например совершает террористический акт и убивает мирных жителей, — он, согласно исламским положениям, не может быть лишен статуса мусульманина (хотя подлежит судебному преследованию). Тут ничего нельзя сделать. Поэтому до тех пор, пока человек сам себя считает мусульманином, не совершает открытого богохульства и не оскорбляет Коран или Мухаммеда, он остается мусульманином с точки зрения исламской доктрины, пусть и совершившим грех.
Я согласен с вами, что понимание этого вопроса важно с точки зрения развития терпимости. Ведь исламские террористические организации или те, кто за ними стоит и их поддерживает («ваххабиты» и прочие), — мизерная часть исламского мира. И главное ведь то, как остальной исламский мир на них реагирует. Вполне очевидно, как именно. Мы же знаем, как реагировали российские мусульмане на события в Чечне. Если бы они реагировали иначе, вряд ли бы Россия осталась в сегодняшних границах.
Нас не испугало объявление крестового похода американским президентом, нас не пугает надпись In God we trust на американских денежных знаках, не так ли? Мы же на основании этого не говорим, что христианское воинство разбомбило Югославию или что христиане, поправ международное право, изнасиловали Ирак. Мы же не утверждаем, что все это — деяния христиан, хотя для такого утверждения имеются ровно те же основания, исходя из которых мы говорим об исламской принадлежности террористов и ответственности ислама за известные террористические акты.
— Андрей Вадимович, согласны ли Вы с мнением, что ислам как религиозное учение взял основные законы и понятия от арианства? (вопрос из зала)
— Есть такое мнение, но оно недостаточно, с моей точки зрения, аргументировано. Связь ислама с двумя другими авраамическими религиями — это особая тема.
Очевидно, что ислам является одной из авраамических религий. Очевидно, что Мухаммед в начале своей пророческой миссии не осознавал себя как пророка новой религии. Это легко понять, почитав первые по хронологии, мекканские суры Корана. Они наиболее короткие и расположены ближе к концу Корана (Коран составлен не в хронологическом порядке, а в порядке убывающей длины сур, хотя этот порядок не выдержан полностью). В этом смысле ислам прошел определенную эволюцию. Видимо, вначале Мухаммед осознает себя как пророка, который восстанавливает истинную веру. И ислам понимается не как что-то абсолютно новое, не как некая новая истина, отменяющая предыдущие, а как та же самая истина и то же самое откровение, которое уже неоднократно ниспосылалось человечеству. Это принципиальное положение ислама, и к вопросу о веротерпимости оно имеет прямое отношение.
Так, иудаизм рассматривает себя как законченную истину, считая христианство отходом от этой истины, своего рода ересью, возникшей внутри иудаизма, а уж ислам — ересью от ереси; христианство рассматривает иудаизм как учение, не поднявшееся до истины искупления, до осознания пришествия Христа — искупителя и спасителя, ислам же расценивает как ненужное после Христа, а следовательно, ложное учение. Я говорю, конечно, не о политически модулированных позициях представителей этих религий в современном межконфессиональном диалоге, а о том, как эти религии расценивали друг друга исторически, когда религиозная истина воспринималась всерьез, а не как разменная монета в политическом торге. Иными словами, если иудаизм и христианство оба расценивают две другие авраамические религии как «неправильные», то ислам иначе относится к иудаизму и христианству, рассматривая их как изначально такие же религии, как ислам.
С точки зрения исламской доктрины, откровение, принесенное Моисеем и Иисусом, — это то же самое откровение, которое было принесено и Мухаммедом. Разница состоит лишь в том, что еврейский и христианский Законы претерпели порчу и были искажены по объективным и субъективным причинам. Таким образом, исламский Закон — тот же самый Закон, что был ниспослан многократно прежним посланникам. Вот почему исламское сознание так озабочено тем, чтобы не допустить искажений в вероучении.
В силу этого переклички исламского вероучения с положениями иудаизма и христианства воспринимаются исламским сознанием как совершенно нормальные, а не как свидетельство заимствования исламом каких-то положений других религий и, следовательно, его несамостоятельности (а ведь именно на этом строится в значительной мере полемика иудаизма и христианства против ислама). Они свидетельствуют о том, что все три религии — изначально нечто одно. Именно в этом заключается принципиальное положение исламского вероучения: иудаизм и христианство — не неистинные учения, а учения, изначально обладавшие полной истиной, но затем утерявшие ее.
А. ЩЕРБАКОВ, аспирант кафедры философии и культурологии: — В каких именно телах воскреснут люди? Если человек умер стариком, он и воскреснет таким или все же в каком-то среднем возрасте?
— Это правильный вопрос. В источниках исламской доктрины это точно не определено, просто сказано, что Бог нас «сотворит заново» (халк джадид). Первое творение — это когда Бог сотворил нас первый раз для земной жизни, а затем он снова соберет нас из праха, воссоздав вторым творением те же тела. Точно не определено, но, согласно мнению большинства ученых, рай — это такое место, где все вечно, бесконечно длится, где все свежо, молодо и прекрасно. Например, есть хадис, в котором говорится, что Мухаммед однажды во время молитвы прервал ее ритуальный порядок и потянулся рукой куда-то, а затем продолжил молитву. Когда он закончил молиться, его спросили: «Куда ты потянулся?» Он ответил: «Мне был явлен рай, и я потянулся, чтобы сорвать гроздь райских плодов. Если бы я их сорвал и принес сюда, на эту землю, то вы бы ими питались до конца света, пока стоит земля». Райские плоды таковы, что никогда не теряют своей свежести и не заканчиваются. Поэтому те тела, которые будут у нас для райского блаженства, — молодые, не тронутые болезнями и т. п. В этом смысле мы можем смотреть в будущее с оптимизмом…
— А если младенец умирает?..
— Вопрос о том, могут ли младенцы попадать в ад, — один из самых спорных в исламской доктрине. Неверие (куфр) является грехом, который ввергает человека в ад, если только Бог не решит простить неверующего. Но неверие вменяется в вину только тому, кто является ответственным по Закону (мукаллаф), потому что, с точки зрения исламского закона, отвечать можно только за то, за что ты можешь отвечать, а для того, чтобы отвечать по закону, необходимо достичь возраста совершеннолетия, то есть возраста, когда ты понимаешь нормы закона и осознаешь свою ответственность. А младенцы по определению такого возраста не достигли. И второе условие: ответственность за неверие несут только те, до кого дошел исламский призыв и кто на него сознательно не откликнулся. Здесь тоже есть разница между христианской и исламской позициями.
Источниками исламской этики, как и исламской доктрины, являются прежде всего Коран и сунна, а кроме того, многочисленные разработки исламских ученых.
Исламская этика — это довольно сложный предмет, и всесторонне в пределах одной лекции его невозможно рассмотреть, поэтому мы коснемся лишь основных моментов. Как и прежде, остановимся на архитектонике этого важнейшего сегмента исламской культуры.
Главным объектом внимания исламской этики являются две категории — намерение (ниййа) и действие (фи‘л). «Намерение» — это нечто внутреннее (батин), то, что формируется внутри человека, в его сердце. Намерение определяется исламскими учеными как твердая решимость совершить то или иное действие. «Действие» — это некие движения, которые выполняются телом, то есть руками, ногами, головой и языком. Иначе говоря, действия — это слова или телодвижения. Это — внешнее (захир), нечто явленное другим людям.
Соотношение намерения и действия — это соотношение внутреннего и внешнего, скрытого и явленного. Основополагающая идея мусульманской этики заключается в том, что это соотношение всегда должно быть гармоничным, сбалансированным. То, о чем ведет речь мусульманская этика, не является ни внешним поступком, ни внутренним намерением. Предмет мусульманской этики — их связь, связь внутреннего и внешнего, намерения и действия. Переход намерения в действие — вот что волнует мусульманскую этику.
Посмотрим с этой точки зрения на «столпы ислама» (аркан ад‑дин), то есть главные обязанности мусульманина.
Первая из них — «свидетельство» (шахада): «Нет бога, кроме Бога; Мухаммед — посланник Бога». Это, заметьте, двучастная формула: свидетельство того, что Бог один и нет бога, кроме него, и свидетельство о том, что Мухаммед — посланник Бога. Двойное свидетельство, которое можно назвать Бого-человеческим, не в христианском, конечно, смысле термина «богочеловеческое», а в смысле взаимодействия этих двух начал, их процессуального перехода, о чем мы говорили выше, рассматривая фикх и доктрину.
Второе — регламентированная пятикратная ежедневная молитва (салат). Кроме этой обязательной молитвы, есть еще и нерегламентируемая мольба (ду‘а’), с которой мусульманин может обращаться к Богу, моля о чем угодно (естественно, о хорошем, мольба о причинении зла невозможна).
Третье — «очистительный налог» (закат). Закат — обязанность мусульманина, это обязательный налог на имущество, который взимается начиная с определенного уровня. Во времена Мухаммеда это было пороговое число 40, то есть с каждых 40 динаров нужно было платить один динар налога, с 40 верблюдов — одного верблюда отдавать в пользу мусульманской общины и т. д. Разряды тех, кто может пользоваться деньгами и имуществом, выплаченными в качестве заката, четко определены в исламском праве. Сегодня в большинстве случаев принят налог в 2,5 % в денежном исчислении. Наряду с этим обязательным налогом имеется институт добровольной милостыни (садака), сумма которой определяется дарителем. Часто закат путают с благотворительностью, но это неверно. Закат — обязанность, тогда как благотворительность — добровольное деяние.
Четвертое — пост (савм) в месяц рамадан.
И, наконец, пятое — паломничество в Мекку (хаддж).
Так вот, все это — обязанности, причем строго регламентированные. Может показаться, что это — некий до мелочей определенный внешний ритуал. В самом деле, что такое пятикратная молитва? Надо в четко определенное время по призыву муэдзина явиться в мечеть (желательно); если не можете, тогда молитесь дома или в любом месте, где вас застигло время молитвы. Но лучше, конечно, прийти в мечеть, вместе со всеми встать в ряды и повторять за имамом раз и навсегда определенные движения и слова. И если вы сбились на каком-то слове или движении, то молитва оказывается недействительной, она должна быть повторена в другое, также строго регламентированное время. В общем, исламская молитва для внешнего наблюдателя оставляет впечатление чего-то очень монотонного, скажем так, незрелищного по сравнению с христианской службой. Нет никакой пышности, красивых обрядов и нарядных одежд у служителей культа. Священников-то нет в исламе, а у служителей религии нет ничего такого, что привлекало бы взор, да и убранство мечети — крайне скупое.
Но это — лишь на сторонний взгляд. На самом деле, с точки зрения самого мусульманина, это только одна сторона молитвы — явная, внешняя, тогда как внутренняя сторона молитвы — это намерение, которое должно быть сформировано до молитвы. Намерение состоит в том, чтобы во время молитвы целиком направить все помыслы к Богу и только к Богу — больше ни к чему. Это намерение должно быть сформировано к началу молитвы и воплотиться в действии, то есть стать внешним проявлением — результатом осуществления намерения. Это не значит, что намерение стало действием, переплавилось в него и исчезло. Намерение должно оставаться таковым — нерушимым, ненарушенным до конца молитвы. Если намерение нарушилось, то есть если вы вдруг подумали о чем-то другом, о «том, что кроме Бога», то есть о земном, то молитва нарушена. Точно так же, как она нарушается в случае, если вы сбились в движениях или словах.
Это — принципиальное положение ислама, выражающее двуединство внутреннего и внешнего, скрытого и явного, в данном случае — намерения и действия. Только вместе, в процессе перехода одного в другое они составляют молитву. Молитва не состоит из одних только внешних движений, как не состоит она и из внутреннего намерения, решимости совершить ее. Это также не «сумма» того и другого. Молитва — это процесс, заключающийся в правильной связанности внутреннего и внешнего и пропадающий при нарушении такой связанности.
То же относится и к свидетельству веры (шахада) — первой обязанности мусульманина. Шахада тоже должна произноситься с твердо сформированным намерением. Если она произносится машинально, это не будет свидетельством, потому что нет намерения. Заметьте: процедура принятия ислама очень проста. Нужно трижды произнести формулу исповедания веры по-арабски в присутствии свидетелей — и человек становится мусульманином. Крайне простая процедура, не требующая фактически ничего дополнительного, здесь нет никакой сложности. Однако она осуществляется при одном непременном условии: наличие внутреннего намерения обязательно. Если внутреннего намерения нет, то эта процедура недействительна. Только переход намерения в действие (решимости принять ислам — в слова исповедания веры) составляет то, что называется шахада. Произнесение этих слов без намерения (по ошибке, в целях обучения и т. п.) не составляет шахаду.
То же самое касается и всех остальных столпов ислама. Все религиозные обязанности, исполняемые мусульманином, предполагают формирование твердого намерения и его переход в действие: все обязанности и являются процессом такого перехода.
Это подсказывает нам, что мусульманская этика ориентирует человека на обращение к собственной совести. Предполагается, что мусульманин должен сам контролировать состояние своей души (есть у него намерение или нет), поскольку по внешним признакам нельзя удостоверить, имеется у человека искреннее намерение или отсутствует. Это целиком на совести верующего: он сам должен удостоверять свое состояние.
В этом смысле ислам апеллирует не к внешней обрядовости, не к тому, что обычно бросается в глаза, а к сознанию человека. Но это обращение — не исключительно к внутреннему, не к внутреннему как таковому, а к тому, чтобы внутреннее было связано с внешним. Именно это я хочу подчеркнуть: акцент не на исключительности одной из двух сторон, а на их процессуальной связанности.
То же относится и к пониманию в исламе совершенства человека. Если мы будем сравнивать христианское и исламское понимание человеческого совершенствования, то увидим, что они существенно различаются. Различие обнаруживается уже в понимании природы человека. Если говорить схематично, христианское понимание природы человека состоит в том, что все мы изначально греховны. Это так называемый первородный грех, который унаследован от прародителей и который мы должны искупать ежедневным трудом. Отсюда постоянное внимание к собственной греховной природе. В исламе же нет положения о первородном грехе. Согласно исламскому вероучению, Адам и его супруга совершили прегрешение. В результате они оказались на земле, но этот грех не передается по наследству. Человек с точки зрения ислама не является изначально испорченным — он рождается с правильной природой. Это принципиальное положение ислама — природа человека изначально правильная и как таковая достаточна для спасения, она не является источником зла. Поэтому с точки зрения религиозной мотивации для мусульманина достаточно не испортить свою природу. Он не должен ее как-то кардинально улучшить, превзойти себя, избыть свою внутреннюю греховность и так далее — ничего этого не требуется.
Христианское понимание человеческого совершенствования хорошо согласовывается с платоническим взглядом на мир (вертикальная ось, помещающая совершенство в горнем мире, а несовершенство — в земном) и неоплатоническим пониманием совершенствования как преодоления материального в пользу духовного. Поэтому платонизм и неоплатонизм прекрасно вписались в христианство. В исламе, наоборот, ось человеческого совершенствования — не вертикальная. Человека не призывают к тому, чтобы максимально освободиться от плотского и телесного, потому что плотское не является источником греха и страдания. Наоборот, человека призывают к тому, чтобы сохранять двуединство тела и души: тело —внешнее, душа — внутреннее.
Соотношение внешнего и внутреннего как их взаимная согласованность, взаимный переход — это базовая интуиция исламской культуры. Эта интуиция двуединства и гармонии внешнего и внутреннего полностью проявляет себя и в понимании исламом человеческого совершенства: любое развитие одной из двух сторон в ущерб другой характеризуется как несовершенство. С точки зрения ислама, неоплатоническая парадигма освобождения от оков телесности ради воспарения духа не является парадигмой совершенствования, потому что она ведет к нарушению связанности внутреннего и внешнего, — а такая связанность и есть человек. Это не значит, что неоплатонические по своему происхождению теории и взгляды не имели распространения в классической исламской культуре; это значит, что они не могли взаимодействовать с собственно исламским мировоззрением, поскольку построены на иных, несовместимых логических основаниях. В первую очередь именно этим объясняется отчуждение и взаимная неприязнь между приверженцами подобных взглядов и представителями собственно исламского мировоззрения.
Итак, намерение (ниййа) и действие (фи‘л) составляют внутреннюю и внешнюю стороны, процесс перехода между которыми и есть человеческий поступок (‘амал). В этом вновь заявляет о себе процессуальность как фундаментальная черта арабского языкового и теоретического мышления, характерная для него стратегия смыслополагания.
Поступок, о котором мы говорили до сих пор, — это поступок отдельного человека. А что говорит исламская этика относительно отношений между людьми?
Основная идея исламской этики состоит в том, что человек должен завязать максимальное количество социальных и человеческих связей; этим же во многом определяется и исламское правосознание. Здесь максимальный акцент делается на том, чтобы человек находился в постоянной процессуальной связанности — и социальной, и дружественной — с другим человеком. Рассмотрев, какие черты характера являются, с точки зрения исламской этики, осуждаемыми или, наоборот, похвальными, мы заметим ясное основание их классификации. К похвальным чертам относятся те, которые способствуют завязыванию отношений с другим человеком.
К таковым принадлежит, к примеру, скромность: ты должен быть скромным, не ставить себя выше другого, потому что, если ты ставишь себя выше, то тем самым ставишь под сомнение связь с другим человеком, он не захочет иметь с тобой отношения; скромность, а не заносчивость.
Это качество демонстрирует традиционная исламская одежда, в которой преобладают приглушенные тона. В России есть отдельные мусульманские служители религии, которые используют яркие тона в одежде, но это все же аномалия, исключение, которое не предполагается исламской культурой. Согласно сунне, исламский стиль одежды не должен быть вызывающим, поэтому не рекомендуется использовать дорогие и яркие материалы, такие как шелк, парча и др. Почему? Только потому, что это ставит одного человека выше другого. Это устраняет равенство и возможность взаимодействия людей, которые изначально предполагаются исламской этикой. Поэтому цвета одежды не должны быть кричащими, а материалы дорогими: одежды должны быть скромными. Нельзя, например, делать шлейфы на женских платьях, потому что это — показатель богатства: если вы делаете шлейф, значит, у вас есть средства на лишнюю материю, которая будет волочиться по земле, пачкаясь и портясь только ради демонстрации вашей состоятельности.
По этой же причине ислам не рекомендует носить золотые украшения: это ставит одного человека над другим и препятствует завязыванию отношений. Исламская этика категорически против споров и разногласий. Всякий спор ведет к вражде, к разрыву отношений. А отношения должны быть обязательно сохранены. Поэтому, например, исламская этика настоятельно рекомендует не настаивать на своей правоте, даже если вы абсолютно уверены, что вы правы, а ваш противник очень хочет доказать обратное. Согласитесь, не спорьте. Еще один пример: как правило, мусульмане не повышают голос, ибо это тоже не рекомендуется исламской этикой. Драка мусульманина с мусульманином также запрещена исламом. Есть хадис, в котором сказано: не нападайте на мусульманина, не деритесь с ним, а уж если будете драться, то ни в коем случае не задевайте лицо. Вообще драчливость — и в смысле русской деревенской «стенки на стенку», и как бокс — не характерна для мусульман, с классическими мусульманскими идеями она трудно совместима.
Это то, что можно наблюдать при ежедневном общении с носителями исламской культуры.
Для исламской этики характерен императив: если ты такой же, как я, то ты лучше меня. Казалось бы странно, почему это ты лучше меня, если такой же, как я? Мы скорее склонны утвердить самого себя в соотношении с другим: я — такой-то! С точки зрения исламской этики нужно всегда сделать шаг навстречу партнеру и поставить его выше себя. Если вы равны, то он выше тебя, ему надо уступить. Для чего? Для того, чтобы завязались отношения между двумя людьми. Это основополагающая, можно сказать, регулятивная идея в исламской этике.
И наоборот, осуждаемыми качествами характера являются все те, которые вредят таким отношениям: вероломство, ложь, обман, неверность слову, заносчивость, лицемерие и пр. Все они категорически осуждаются исламской этикой.
Суммируем эти основополагающие тезисы. В области регулирования межличностных отношений ислам делает акцент не на индивидуальной личности, не на человеке как таковом, а на отношении человек–человек. Процессуальная связь двоих — вот то, что ислам всячески стремится сохранить.
Во многом исламская этика соотносится с нормами исламского права. Например, в том, что касается намерения. С одной стороны, этика следит за тем, чтобы намерение сохранялось, а с другой — непременность намерения как условие входит и во многие собственно правовые положения. Так, процедура развода (согласно исламскому праву) крайне проста: мужчина трижды в присутствии свидетелей произносит слово «развод» (талак) — но произносит с намерением, иначе процедура не имеет силы. Казалось бы, это не проблема этики или посмертного воздаяния, но чисто правовой вопрос, из которого проистекают правовые следствия. Однако намерение в этой процедуре является не менее важной частью, чем внешнее произнесение формулы. То же и в вопросе об убийстве: намеренное и ненамеренное убийство влечет за собой принципиально разные последствия. Если убийство было намеренным, то, согласно исламскому праву, кровник имеет право отомстить убийце, поскольку исламское право сохранило право кровной мести, которое существовало во времена Мухаммеда. Но вместе с тем этика категорически настаивает на прощении в том случае, если убийство было ненамеренным. Раз не было намерения, то и самого дурного поступка не было: совершено только внешнее действие без его внутренней стороны, переход между которыми и составляет поступок; раз нет одной из сторон, нет и перехода между ними, а значит, нет и поступка — вот в чем логика рассуждения. Поэтому этика настаивает на прощении, и право также стимулирует прощение, хотя Мухаммед не мог отменить право кровной мести в те времена: как ядерное оружие в наше время, право кровной мести в племенном обществе было скорее сдерживающим, чем карающим началом, и с его устранением в племенном обществе времен Мухаммеда скорее всего воцарился бы хаос.
Таким образом, интуиция связанности внутреннего и внешнего, в данном случае намерения и действия, фундирует не только этику, в значительной мере она пронизывает и положения исламского права.
Поговорим теперь о философии. Философия составляет один из заметных сегментов исламской культуры. Может быть, не первый по счету: если намечать значимость, то прежде философии, пожалуй, следует упомянуть фикх, филологию (в широком смысле — от лексикографии до поэтики) и доктрину, а также этику. Мы уже немного поговорили об этих областях, кроме филологии — обсуждение этого сегмента требует значительного объема специальных знаний и, главное, хорошего знания арабского языка. Правда, мы начали с арабского языка, и наш экскурс в область языкового мышления несколько компенсирует этот пробел.
Во всех этих областях я стремился показать вам процессуальность как основополагающую интуицию, руководящую выстраиванием смыслового тела культуры. Мы видели, что процесс понимается как переход между двумя сторонами, в самом общем виде именуемыми внутренней (батин) и внешней (захир); процесс является чем-то третьим, самостоятельным, не сводимым ни к одной из сторон, ни к их сумме. Логика соотношения этих сторон — не дихотомическое разделение противоположностей, а их взаимное фундирование.
Мы перейдем теперь к философии. Конечно, мы затронем лишь одну-две темы, не больше: систематическое изложение классической арабской философии только в основных ее чертах заняло бы несколько семестров.
Кто-то из вас задавал вопрос о том, имеется ли у человека свобода выбора с точки зрения исламской доктрины или нет. Этот вопрос стал одним из основных предметов обсуждения для представителей первого направления классической арабской философии — мутазилизма. Мутазилизм возник в VIII веке, то есть менее чем через сто лет после смерти Мухаммеда. Первые два века исламской истории — это период больших политических перемен; они вызвали к жизни бурные дебаты и споры. В то время в крупнейших городах исламского мира возникли интеллектуальные кружки, где люди собирались и обсуждали наболевшие, спорные вопросы.
Что же это были за вопросы?
Когда сразу после смерти Мухаммеда произошло разделение на суннитов и шиитов, начались споры по вопросу о механизмах передачи власти и ее легитимности. Поскольку Мухаммед скончался, не оставив завещания, то есть никак не выразив свою волю и не определив, кто после него должен возглавить исламскую общину, то мусульмане оказались в своеобразном политическом вакууме. Пока был жив Мухаммед, любой вопрос рано или поздно получал разрешение. Община была маленькая, к Мухаммеду почти всегда можно было прийти (если, конечно, он не находился где-нибудь в военном походе), задать вопрос и получить на него ответ, который и превращался обычно в норму права или этики, становясь либо частью сунны, либо, если ответ давал сам Бог в виде откровения, — частью Корана. Так или иначе, при Мухаммеде любые вопросы разрешались через него, и его уход для уммы означал потерю единственного главы, источника решения любых правовых и доктринальных вопросов.
Мухаммед в течение двенадцати лет возглавлял общину в Медине и проявил себя и как талантливый политический и социальный руководитель, и как человек, который, как утверждают источники, знал о времени своей смерти. Многочисленные свидетельства говорят о том, что он знал об этом и говорил, что умрет через такое-то время. Тем не менее он не позаботился о преемнике. Поэтому после того, как он умер, мусульмане собрались на «совет» (шура), чтобы решить, что делать. В результате был выбран преемник Мухаммеда, халиф (араб. халифа «преемник»). Первым халифом стал ’Абу Бакр.
Так был найден принцип выбора преемника. Высказывались разные мнения о том, кого выбрать. Одни считали, что это должен быть прямой потомок Мухаммеда. Но у него не осталось сыновей, в живых остались только дочери, а значит, прямых потомков Мухаммеда не было. Другие говорили, что это не обязательно должен быть родственник пророка. В конце концов было решено, что халифом, преемником Мухаммеда, станет представитель рода курайшитов, то есть того рода, из которого происходил Мухаммед, но при этом наиболее пригодный для управления исламской общиной — таков отныне стал принцип выбора властителя. И первые четыре халифа, так называемые «праведные халифы» (ал‑хулафа’ ар‑рашидун), избирались по этому принципу.
Все это, напомню, является суннитской версией. Шииты же утверждают, что события развивались иначе. На самом деле Мухаммед оставил завещание, по которому после него преемником должен был стать ‘Али — его родственник, который воспитывался в доме Мухаммеда и был к нему очень близок. ‘Али можно было бы даже назвать приемным сыном Мухаммеда, если бы институт усыновления не был запрещен в исламе. (Усыновление не признается в исламе на том основании, что ребенка нельзя лишать его родной фамилии: нельзя лишать человека связи с предками, ведь если вы усыновляете ребенка, то даете ему свою фамилию. В этом смысле усыновления в исламе нет — но воспитание чужих детей, особенно сирот, в доме позволительно и, более того, похвально, но только под их собственным именем.) В этом смысле ‘Али был «приемным сыном» Мухаммеда, воспитывался им.
Шииты считают, что именно ‘Али должен был стать преемником Мухаммеда (согласно его завещанию), но злонамеренная группировка скрыла этот документ, поставила своего человека и таким образом узурпировала власть. Поэтому шиитская политическая идея — это идея борьбы за восстановление узурпированной власти.
Этот раскол на суннитов и шиитов произошел сразу после смерти Мухаммеда. В дальнейшем из-за него, а также в силу многих других причин не раз возникали политические войны, стычки, появлялись разнообразные направления в исламе. Одни из них призывали к тому, чтобы бороться с теми халифами, которые, по мнению борющихся, являются нелегитимными. Другие говорили, что этого делать ни в коем случае нельзя. В общем, существовала масса всевозможных разногласий, которые, конечно, отражались на политике. Кое-кто, например, хариджиты, отличались особо крайними взглядами и практически все погибли на поле боя, защищая их. А кто-то обсуждал разные мнения в рамках теоретических диспутов, которые тогда проходили во многих центральных городах исламского мира, — но не в сердце ислама (не в Мекке, не в Медине), а в других центральных городах, таких как Багдад, Басра и др. Эти споры и обсуждения привели к появлению мутазилитов.
С точки зрения мутазилитов, вопрос о свободе выбора следует решать в рамках общей теории, которую можно назвать теорией действия. Она рассматривает, как совершается действие и каковы условия действия. Согласно этой теории, для того, чтобы действие совершилось, необходимы два условия, а именно — воля (ирада) и могущество (кудра). Воля определяется как способность выбрать одну из двух противоположностей (это определение вполне соответствует духу и даже букве античности). Выбор между «сделать» и «не сделать» — это и есть ваша воля. Могущество же — это такое свойство действователя, при котором, если он чего-то хочет, то это получает бытие. Например, если я хочу поднять руку, то я ее поднимаю, — значит, у меня есть могущество в отношении поднятия моей руки. Хочу — сяду, хочу — встану и т. д. А в отношении, например, восхода солнца у меня нет никакого могущества: я могу хотеть сколько угодно, чтобы оно взошло ночью и не взошло днем, но оно все равно взойдет, как ему положено. На восход и заход солнца мое могущество не распространяется.
Заметьте: в рамках этой теории наличие свободной воли (=возможность выбора) необходимо по определению для того, чтобы произошло действие. Второй стороной является могущество: воля (нечто внутреннее), овнешняясь благодаря могуществу, производит действие, так что действие является процессом перехода воли в осуществленное могущество.
По этому вопросу у ранних мутазилитов споров не было, это было исходным определением. Полемика шла по вопросу о том, обладает ли человек собственным могуществом для совершения действий. Обсуждение этого вопроса отталкивалось в конечном счете от доктринальных положений. Вспомним характерное для исламской доктрины строгое дихотомическое деление всего на «Бога» и «то, что кроме Бога». Согласно этому взгляду, все могущество принадлежит только Богу. Бог могуществен — тварь бессильна, она целиком — объект могущества Бога, а значит, и человек — объект могущества Бога. Но если так, то человек не является действователем (фа‘ил), а значит, пропадает основание для самой идеи Закона, поскольку Закон дан существу, способному действовать, то есть выбирать и осуществлять действие, чтобы затем нести за него полную ответственность. В этом смысл залога веры (’амана), о котором мы говорили. Если же признать человека действователем в полном смысле этого слова, то придется урезать могущество Бога, часть его отдав человеку.
Поэтому мутазилиты в этом вопросе занимали разные позиции, но все они могут быть сведены к двум основным. Первая позиция (наиболее радикальная, к которой склонялось большинство) состоит в том, что человек по определению обладает и волей и могуществом в отношении всех тех действий, которые он реально совершает. Человек не вызывает дождь, у него нет такого могущества, но у него есть его собственное, автономное могущество в отношении всех тех действий, которые он совершает в этой жизни.
С этой точки зрения человек является абсолютно автономным действователем, со своей свободной по определению волей и своим могуществом. Причем это могущество не Бог дает человеку, оно принадлежит ему, воля же — целиком проявление личного выбора человека. Это принципиальная позиция мутазилитов — они утверждают абсолютную свободу и абсолютную автономию человека.
Противоположное мнение было высказано также мутазилитами: человек обладает волей, но могуществом его наделяет Бог. Эта компромиссная позиция была выработана для того, чтобы совместить несовместимое: собственный выбор человека и всемогущество Бога. С одной стороны, человек имеет свободу воли и свободу выбора, а с другой — могущество совершать те действия, которые он выбрал, дает ему «взаймы» Бог. Получается, что человек избирает, а действие творится божественным могуществом. Но в любом случае, даже если могущество для совершения действия дается Богом, выбор остается за человеком. Это очень существенно.
Эта позиция, выработанная ранней исламской философией, не устояла и не имела продолжения. Мутазилитский этап развития философии — это два столетия, с VIII по X век. После этого мутазилиты не исчезают вовсе с интеллектуальной арены, но вытесняются из основных центров исламского мира под напором ашаризма.
Ашаризм оппонировал мутазилизму. Главное отличие ашаритов от мутазилитов состоит в том, что они запретили задавать вопросы относительно целого набора тем. Мутазилиты могли задавать вопросы о чем угодно («почему», «как», «на каком основании», «как это согласуется с…», «а что если…» и т. д.) и в поиске ответов шли настолько далеко, насколько хотели, не смущаясь авторитетом коранического текста или сунны. Это была действительно философская мысль, свободная в постановке вопросов и добывании ответов. Напротив, ашаризм — это религиозная доктрина, которая запрещает задавать вопросы относительно целого ряда тем на том основании, что обсуждение их ведет к непонятным следствиям, сомнительным с точки зрения добропорядочности, религиозности и т. д. Вместе с тем ашариты сохранили ряд положений, которые были выработаны мутазилитами, и в дальнейшем именно ашариты разрабатывали исламскую доктрину. Не только они, конечно, но большинство представителей суннитской доктрины принадлежали к ашаризму.
В ашаризме, а в дальнейшем и во всей религиозной мысли, и в доктрине, постепенно от крайней мутазилитской позиции (человек абсолютно свободен, у него свободная воля, полное могущество, он — автономный действователь наряду с Богом) произошел постепенный дрейф в направлении противоположного тезиса. Промежуточный тезис, выработанный еще в мутазилизме, но полностью победивший в ашаризме: у человека есть воля, но все могущество — божественное. Следующий шаг: и воля, и все наши желания сотворяются Богом. Эта позиция в исламской доктрине побеждает и становится заметной начиная с позднеклассического периода — в XI–XII веках.
В дальнейшем исламская доктрина представляла собой набор противоречивых мнений по этому вопросу. В ней боролись эти две основные ветви мысли. Одна — утверждавшая, что все целиком восходит к Богу, включая наши желания, и другая ветвь, которая берет начало от мутазилитов и которая утверждала автономию человеческой воли и действия.
— Если мусульманин совершил убийство без намерения, то его стоит простить. Но как он может доказать, что в самом деле не хотел причинить зло? (вопрос из зала)
— Это очень хороший вопрос в том смысле, что он показывает ход вашей мысли: а как можно доказать, как можно удостоверить? Да никак — на основании самого свидетельства человека: он говорит, что у него не было намерения, и это принимается как истинное до тех пор, пока не доказано обратное. В исламском праве действует принцип презумпции невиновности (ал‑’асл ал‑бара’а), толкуемый в широком смысле этого слова, в том числе и в том смысле, что свидетельство принимается как истинное, если и пока не доказано обратное.
— Не могли бы Вы пояснить, Андрей Вадимович, какие именно направления ислама поощряют воспитание террористов, заведомо зная о нарушении законов и принципов мусульманской религии? (вопрос из зала)
— Не будем называть их по именам. Да в этом и нет необходимости, поскольку направление это в исламе известное. Когда формировалось современное королевство Саудовская Аравия, для той династии, которая тогда боролась за власть и стала правящей, необходима была какая-то военная сила, способная завоевать для нее трон. И такая сила была найдена, мобилизована. Надо сказать, что Аравийский полуостров тогда, до открытия нефти, представлял собой один из самых бедных регионов мира, как и в момент возникновения ислама. Население там было, конечно, в основном неграмотное. Где бедность — там и неграмотность. Тут уже не до тонкостей исламского закона. В тех условиях довольно легко было сформировать армию, которая готова пойти на войну, чтобы бороться за чистоту ислама, как эти люди ее понимали. Это то самое течение, которое затем стало известно под названием «ваххабизм».
Ваххабиты не различают две категории запретов и рекомендаций, которые различает исламское право. Основополагающей для исламского права является система так называемых пяти категорий. Любой поступок человека попадает в одну из них. Первые две — это категории предписаний, или императивов. Последние две — категории запретов. А к средней категории, которая называется «безразличное» (мубах), относится то, что исламское право не регулирует. (Вот почему правы те, кто говорят, что исламское право тотально — оно классифицирует любые человеческие поступки, в том числе и те, которые оно не регулирует. Оно тотально в отрицании своей тотальности.)
Из двух категорий императивов одна представляет абсолютный, или категорический, императив, а вторая — некатегорический императив. В чем между ними разница? Современные исламские правоведы дают следующее разъяснение. К категории категорических императивов относятся действия, которые мусульманин обязан выполнять и за выполнение которых он получает награду, земную или небесную, а за невыполнение — наказание, земное или небесное. К числу категорических императивов относятся обязанности мусульманина, о которых мы уже говорили. Но имейте в виду, что, хотя это и звучит строго или даже угрожающе — «категорическая обязанность», мусульманин не теряет статуса мусульманина, даже если он ни одну из этих обязанностей не соблюдает, кроме первой, конечно, ибо, если мусульманин не признает единственность Бога и Мухаммеда в качестве посланника Бога, то его могут лишить статуса мусульманина. А вот если он не ходит на молитвы, не платит закат и не выполняет прочие обязанности, он, конечно, поступает нехорошо, но все равно никто не имеет права лишить его статуса мусульманина.
К категории некатегорических императивов относят такие действия, за совершение которых полагается награда (земная или небесная), а за несовершение не полагается никакого наказания. То есть это то, что вы вроде бы должны делать, но если не делаете, ничего страшного. Это относится к требованиям к внешнему виду мусульманина, например, к ношению недлинной бороды. Исламская борода должна быть такой, чтобы, будучи зажатой в кулак ее носителя, не была бы видна. О рекомендациях ислама в отношении одежды я уже говорил. Если вы соблюдаете эти простые правила, это очень хорошо. Всякие похвальные черты характера также являются рекомендованными. Но если вы этого не делаете, исламское право вас не покарает. Исламское право не налагает кары за несоблюдение некатегорических рекомендаций.
То же самое касается разделения категорических и некатегорических запретов. К числу категорически запрещенных относятся такие преступные поступки, как незаконная половая связь, воровство, убийство и некоторые другие. А вот создание изображений, например, относится к числу некатегорически запрещенных, то есть к таким действиям, за воздержание от которых вас награждают, но за совершение которых не карают с точки зрения исламского права.
Так вот, суть правопонимания в ваххабизме и тех современных террористических организациях, которые выросли из него, состоит в том, что они не различают две категории императивов и запретов. С их точки зрения, любой императив и любой запрет является категорическим. Поэтому они запрещают телевидение, которое разрешено везде, в том числе и в тех исламских странах, где действует шариат в качестве закона. Телевидение разрешено, потому что оно и самим исламским правом не запрещено абсолютно. По тем же причинам ваххабиты предписывают исламский вид одежды как абсолютное требование, а за несоблюдение этого сажают в тюрьму, и творят прочие, тому подобные вещи.
На прошлой лекции мы говорили об исламском праве, доктрине, этике и начали разговор о философии. То, что я стремился показать вам, давая конкретный материал, можно суммировать следующим образом. В перечисленных сегментах, из которых слагается исламская культура, действует принцип связанности двух аспектов, двух сторон, взаимо‑отношение и взаимо‑связь которых и образует предмет, о котором идет речь. При этом такой предмет является не субстанцией, а процессом. Например, в этике это намерение и действие, внутреннее и внешнее, которые в своей связанности, в своем двуединстве образуют поступок. В праве это тоже намерение и действие, которые образуют поступок, подлежащий правовой оценке.
Исламское право часто оценивается как казуистичное, то есть рассматривающее конкретные казусы, а не идущее от общих принципов к частным нормам. И это правильно: оно действительно не построено как дедуктивное. Более того, оно не сведено в единую систему и как будто не структурировано. Но это также следствие того, о чем мы говорили: исламское право всегда рассматривает не просто казус, а связанность двух сторон — причины и следствия. Это предмет исламского права. В пределах этой связки действуют права и нормы.
На этом же принципе основано то, что в современном мире называют «исламская экономика». Исламская экономика выглядит на первый взгляд парадоксально, потому что это такая экономика, которая должна функционировать при отсутствии банковского процента: ростовщический процент запрещен в исламе. Но как могут действовать банки без процентов? Это же абсурд, это экономически невозможно. Тем не менее действуют. Каким образом? Да очень просто: выстраиваются цепочки экономических операций, где каждое отдельное звено совершенно законно с точки зрения исламского права, то есть в рамках одной операции, одной транзакции не происходит взимание ссудного процента, а в результате всей цепочки получается так, что процент все же фактически взимается. Но это совершенно нормально с точки зрения исламского права — к этому нельзя придраться, нельзя предъявить правовую претензию. И это в данном случае не столько уловка, сколько следствие привычки мыслить процессуально, рассматривая процесс как единство двух взаимодействующих сторон: каждая отдельная операция в рамках очень длинной цепочки и представляет собой подобный процесс. Однако для такого мышления связаны именно стороны–непосредственные участницы каждого конкретного процесса, но не самое начало и конечный результат, которые не взаимодействуют непосредственно и не образуют процесс.
Говоря о философии ислама, мы рассматривали теорию действия и тоже видели связанность двух сторон — внутреннего и внешнего: внутренней воли и того, что может быть названо внешним — могуществом действователя (это его физическая, так сказать, телесная способность к совершению действия).
Рассматривая эти крупные блоки, я старался показать, что исламская культура выстраивает себя, ориентируясь на принцип процессуальной связанности двух сторон.
Сегодня мы продолжим разговор о мутазилизме и углубимся в очень интересные, с моей точки зрения, проблемы, такие как пространство и время. После этого мы перейдем к суфизму — мистическому направлению в исламе, поговорим о философии суфизма, а на следующей лекции — об исламском искусстве.
Мутазилиты создали богатый спектр философских учений, которые охватывают практически все основные разделы философии. Обо всех мы, конечно, не сможем поговорить; мы рассмотрим их теории пространства и времени.
Мутазилиты создали весьма интересное атомистическое понимание времени. Это — оригинальная теоретическая конструкция, которая не имеет аналогов в западной мысли, насколько мы можем судить по имеющимся источникам. Поэтому сопоставление концепций времени, которые имеются в европейской философии и выявляют тенденции европейского мышления, и концепций, созданных мутазилитами, представляет большой интерес.
Итак, атомистическая концепция времени, разработанная мутазилитами. Из самого названия понятно, что время состоит из атомов — неделимых моментов времени. Что такое неделимые моменты, атомы времени? Мутазилиты определяют их следующим образом. Атом времени возникает тогда, когда сменяют друг друга два события: уничтожение и следующее за ним возникновение. Уничтожение и возникновение чего? Уничтожение и возникновение одного и того же, одной и той же вещи: ее уничтожение сменяется ее возникновением. Речь идет об одной и той же вещи, поэтому эти два события не совместны — они следуют одно за другим. Если они следуют одно за другим, то каким образом они создают атом времени? Атом времени нельзя мыслить так, как если бы он вмещал в себя эти два события, как если бы он был вместилищем, неким объемом, одна половинка которого вмещает уничтожение, а другая — возникновение. Это неправильный пространственный образ, потому что в таком случае, совершенно очевидно, атом времени был бы делим, а по определению атом — это то, что не может быть разделено.
Значит, атом времени следует мыслить не так, и мутазилиты мыслили его не так. А как?
Они мыслили это таким образом, что уничтожение и возникновение совершаются не во времени. Это — не временные события, а некие акты действователя. А атом времени — это переход между этими двумя событиями, то есть некий мостик, который их соединяет. Вот эта стяжка, соединение двух событий, и есть атом времени. То есть атом времени существует, как если бы он помещался между этими двумя событиями. Если мы построим его пространственный образ (он, конечно, не будет адекватным, но у нас нет другого способа визуализировать это), то мы будем иметь в виду некие две вертикальные черты, символизирующие уничтожение и возникновение, и нечто третье, что их стягивает, образует переход между ними. Этот мостик, который не вмещает сами события, и есть атом времени. Таким образом, события не встроены внутрь атома времени, а сам этот переход между двумя событиями является чем-то простым, единичным и неделимым — простым ведь является то, что не подвержено делению. Поэтому это именно атом — то, что не может быть разделено, — атом времени, который не имеет внутри себя длительности.
Вот такая интересная концепция, которая, еще раз повторю, оригинальна, которая не имеет аналога в европейской мысли и которая, вообще говоря, плохо совместима с представлениями о рациональности, выработанными в западной традиции еще в античности.
Чтобы понять это, нам достаточно провести небольшой мысленный эксперимент: попробовать поместить в среду мутазилитской мысли то, что известно в европейской традиции под названием апорий Зенона.
Например, апория «Ахиллес и черепаха». Это действительно замечательная апория, очень интересная сама по себе. Как вы думаете, имеет она разрешение или нет? Все дело в том, что, если Ахиллес бежит за черепахой, тогда, конечно, апория достаточно легко разрешается, потому что имеется бесконечная последовательность уменьшающихся промежутков времени и расстояний, которая имеет предел. А если наоборот: если Ахиллес не бежит за черепахой, когда расстояние между ними уменьшается, а он должен только начать движение; если мы спрашиваем не о том, догонит ли Ахиллес черепаху, а о том, как он может сменить свой покой на движение, как он может начать двигаться к черепахе? Это принципиально иная постановка вопроса. Тогда мы вслед за Зеноном строим последовательность расстояний, которые Ахиллес должен преодолеть, чтобы дойти до черепахи, и говорим: прежде чем преодолеть весь путь, он должен преодолеть его половину, а до того — половину половины, и т. д. Эта последовательность бесконечно уменьшающихся отрезков, но тем не менее бесконечная последовательность, не позволит Ахиллесу сдвинуться, то есть сменить покой на движение: бесконечная последовательность отрезков, на которых совершается движение, никогда не дойдет до той точки, на которой стоит неподвижный Ахиллес. Говоря образно, движение будет бесконечно приближаться к покою, но никогда его не достигнет. Мы ведь ставим вопрос о том, как начинается движение после покоя: есть покой и есть следующее за ним движение, притом что покой и движение дихотомичны, по крайней мере с точки зрения строгой аристотелевски-ориентированной логики: покой — это не-движение. Если вы находитесь в покое, значит, вы не движетесь. Как перейти от покоя к движению? Вот о чем спрашивает Зенон в этой апории. Не то, как Ахиллес догонит черепаху, уже двигаясь, — это не проблема; а как он сдвинется, как он от покоя перейдет к движению, — вот где проблема.
Как можно из одной противоположности попасть в другую? Как можно один предикат, движение, сменить на противоположный, покой, притом что они дихотомичны? Зенон говорит о пространственном движении; но ведь то же касается и любого движения (в античном его понимании), то есть любого изменения. Если время состоит из неделимых моментов, то изменение должно заключаться в том, что в следующий момент времени мы приписываем вещи противоположный предикат. Но тогда окажется, что в данный момент времени она имела данный предикат, а в следующий момент времени — его противоположность; однако где, когда произошло изменение, как вещь сменила один предикат на другой? Места для изменения субстанциальный взгляд, мыслящий вещь как субъект, как основание для предикатов, не оставляет. Ровно ту же логическую структуру имеет и зеноновский вопрос о соотношении движения и покоя. Оказывается, что нельзя начать движение, то есть сменить покой на движение. Можно обладать либо тем либо другим, но невозможно представить себе переход от одного к другому. В этом смысле апория сохраняет свою значимость и силу и для сегодняшнего мышления.
Другая апория, «Стрела», повествует о стреле, летящей вдоль стадиона. Стрела летит, то есть движется, но в каждый отдельный момент, атомарный момент времени «теперь» она зафиксирована, покоится, не движется. Следовательно, и в течение всей последовательности атомарных моментов времени она тоже не движется, потому что весь ее полет — это сумма таких «теперь». Но в каждое отдельное «теперь» стрела находится в неподвижности, потому что занимает равное себе пространство. Если бы она занимала не равное себе пространство, то это не был бы атомарный момент времени, не было бы «теперь». Такова суть данной апории.
Иначе говоря, если время действительно может быть разделено на атомарные моменты времени, на атомарные мгновения, каждое из которых и будет представлять «момент настоящего времени», то движение будет невозможным. Собственно, эта апория тоже не имеет решения в логико-смысловом пространстве западной мысли, если мы принимаем предпосылки как правильные. Если действительно можно выделить атомарный момент времени, тогда движение оказывается невозможным, потому что в каждый атомарный момент времени стрела, или любой движущийся предмет, будет не двигаться. А между «не двигаться» и «двигаться» нет ничего среднего — это две дихотомические противоположности, и то, что «не двигается», не может «находиться в движении». Если сложить сумму отсутствий движения, вы не получите движение. В этом смысле данная апория правильна, то есть фиксирует затруднение нашей мысли.
Именно поэтому Аристотель говорит, что всякое деление лишь актуально имеет предел, а потенциально продолжается до бесконечности. Иначе говоря, нет таких неделимых моментов времени, которые были бы атомарными. И время как продолжительность с точки зрения аристотелевской концепции не складывается из своих элементов: настоящее есть граница между прошлым и будущим, но прошлое и будущее не сложены из атомарных мгновений настоящего (прошлое не является суммой «ушедших в прошлое» моментов настоящего, и будущее не является суммой «имеющих наступить» моментов настоящего). Это та концепция, к которой привыкло наше сознание, это — континуалистское понимание времени, которое верно и для нововременной физики и которое мы обычно усваиваем в школе. В этом смысле апории Зенона актуальны, потому что показывают суть устройства понимания времени в западной традиции.
Интересно совместить разные понимания времени — западное и арабское (мутазилитское) и посмотреть, что будет, если мы попробуем сформулировать зеноновскую проблему, исходя из мутазилитского понимания атомарности времени. Что в таком случае произойдет? Для этого мы должны ввести понятие «движение». Ведь у нас пока есть лишь мутазилитское понятие «атомарный момент времени», но нет понятий «движение» и «покой».
Понятия «движение» и «покой» мутазилиты определяют следующим образом. Тело находится в движении в том случае, если его положения в пространстве в некий фиксированный, атомарный момент времени и в следующий за ним — разные. Если эти положения совпадают, то тело находится в покое.
Например, мы рассматриваем некий момент времени X и следующий за ним X + 1 и сравниваем: если положение тела в эти моменты времени разное — тело находится в движении; если положение то же, то есть тело занимает одно и то же место в пространстве в два последовательных момента времени, значит, оно покоится. Но если мы берем только один атомарный момент времени, то не можем сказать о теле, ни что оно движется, ни что оно покоится. То есть оно физически не находится ни в состоянии движения, ни в состоянии покоя.
Здесь действует тот же самый принцип — принцип образования некоего нового смыслового элемента, в данном случае движения, при соположении, приведении во взаимодействие двух других элементов. Два другие элемента в данном случае — это два следующие друг за другом атомарные момента времени. Ни один из этих атомарных моментов времени не несет в себе ни смысл движения, ни смысл покоя. Лишь взятые вместе, они образуют либо смысл движения, либо смысл покоя. Мы можем сказать и так: движение, как и покой — это процессы, процессуальные связки между двумя моментами времени. Как таковые, то есть как именно процессы, они для рассматриваемого мышления не могут иметь место в один момент времени — они по определению связывают два момента времени и не включаются «внутрь», не входят в семантический состав отдельного момента времени.
То же относится и к понятию времени; я хочу сказать, что это понятие образовано благодаря тому же механизму смыслополагания. Время — это смысловой элемент, который не содержится «внутри» ни события уничтожения, ни события возникновения. Уничтожение и возникновение не несут в себе смысл времени. Смысл «время» возникает, когда эти два события сополагаются в качестве противоположностей, предполагающих одна другую. Точно так же, когда сополагаются два атома времени в качестве предполагающих друг друга противоположностей («предшествующий» и «последующий» атомы времени), возникает смысл либо движения, либо покоя. Но для одного атома времени эти понятия, движение и покой, оказываются бессмысленными.
Заметьте, что мы говорим о покое или о движении для любых двух следующих друг за другом моментов времени. Мы не можем установить движение либо покой для какой-либо последовательности таких моментов, взяв начальный и конечный моменты времени и перескочив через все промежуточные. Дело в том, что мы должны сформировать непосредственно взаимодействующую пару противоположностей, соотносящихся друг с другом как явное и скрытое (сформировать захир-батин-взаимодействие — так это описывает сама арабо-мусульманская мысль), чтобы возникла и их процессуальная стяжка — третий, новый семантический элемент. Такое непосредственное взаимодействие может быть установлено только для пары непосредственно следующих друг за другом моментов времени, как оно устанавливалось в рассмотренном примере с исламской экономикой для каждой отдельной операции, связывающей двух взаимодействующих партнеров, — но не для всей цепочки моментов времени или экономических операций сразу.
Мы попробуем сформулировать зеноновские рассуждения в этой логике. Но прежде, чем это сделать, я покажу вам, как применяется эта теория времени и как она работает на решение одной физической проблемы. Перед мутазилитами, интересующимися самыми разными проблемами, стоял такой вопрос. Земля, как всякий может убедиться на опыте, обладает тяжестью и всегда падает вниз. Почему же тяжелая Земля тем не менее находится в центре мироздания и никуда не падает?
Ранними исламскими философами были предложены разные решения. Физическое объяснение таково: Земля состоит из тяжелого и легкого тел, одно из которых стремится вверх, другое — вниз, и они друг друга уравновешивают. Но было предложено и иное объяснение, основанное на той концепции времени, которой придерживались мутазилиты. Они говорили, что Земля покоится. Это означает, что она находится в одном и том же месте в любые два последовательные момента времени. Почему же покоится Земля? Земля покоится, потому что в любой момент времени опирается на тело, которое ее поддерживает. Эту своеобразную «подставку» Бог в каждый момент времени уничтожает и заново сотворяет под ней.
Но как держится подставка, почему она не падает, да и Земля вместе с ней? Ведь и относительно подставки можно спросить то же, что и относительно Земли: почему она находится в покое? Но в том-то и дело, что подставка уничтожается и сотворяется в каждый атомарный момент времени, а значит, нет таких двух последовательных моментов времени, в которые мы бы имели одну и ту же подставку, то есть одно и то же тело. В самом деле, в каждый момент времени Бог уничтожает прежнюю подставку и сотворяет новую (ведь момент времени — это уничтожение и возникновение). Подставка, таким образом, обновляется в каждый следующий атом времени, она, как говорили мутазилиты, «не живет два момента времени». Нет двух последовательных атомов времени, когда мы могли бы говорить об одном и том же теле-подставке. А это значит, что подставка никогда не находится ни в движении, ни в покое, поскольку движение и покой возникают только как «стяжки» двух последовательных моментов времени. Что же касается Земли, то она, оставаясь той же самой (ее Бог не пересотворяет), в любые два последовательные момента времени опирается на свою подставку. Совершенно не важно, что в каждый следующий момент времени эта подставка новая, важно, что она поддерживает Землю в том же положении. Это значит, что Земля занимает одно и то же место в любые два последовательные момента времени, а значит, покоится.
Этот пример показывает, что концепция атомарного времени и движения были не просто отвлеченными логическими построениями, обладающими некоторой культурной спецификой, притом что время, движение и покой мутазилиты чувствовали и воспринимали «так же, как мы», что для них они были «тем же самым», поскольку составляют часть общего для нас всех, «одного и того же» объективного мира. Так часто представляют дело: «настоящая» физика одна, потому что «настоящий мир» один, и правильно отражать его может только единственная система законов. Защитники такого взгляда скажут нам, что мутазилитские построения — это очень интересные упражнения, но полезны они только для развития ума и расширения исторического кругозора, а вот к реальности они не имеют никакого отношения, потому что на самом деле тела не ведут себя так, как говорят мутазилиты, и время не таково, каким они его считают. Так в самом деле и было бы, если бы один и тот же мир не мог бы быть увиден и субстанциально, как его видит западная традиция, и процессуально, как его видит арабское мышление, притом что эти два способа видения одного и того же мира несовместимы. Эта несовместимость проявляется как в том, что нельзя применить оба взгляда сразу (получится абракадабра), так и в том, что для них отсутствует общая логическая база, так что нельзя одну систему взглядов переформулировать в другую (можно только полностью отказаться от одной и заново, «с нуля» выстроить другую).
Рассмотренные концепции отражали представления мутазилитов о реальном движении и реальном поведении тел. Для них тело-подставка в самом деле физически не может падать, будучи пересотворяема в каждый момент времени, — а вот Земля, не пересотворяемая в каждый момент времени, а, напротив, пребывающая, на эту подставку опирается и также не падает — но уже не потому, что не обладает ни движением, ни покоем, а потому, что покоится. Они, можно сказать, ощущали эту реальность физически, соотносили ее с показаниями своих органов чувств и своими представлениями о том, что может быть и чего не может быть, как устроен мир, — и не только не ощущали в этом никакой несуразицы, но, напротив, считали это абсолютно правильным, логичным и естественным отражением реальности. Чтобы понять, почему это так, мы должны отвлечься от нашей привычки мыслить вещами. Мы должны начать мыслить мир процессами — но не теми процессами, как они понимаются в европейской традиции (здесь процесс всегда — отношение между вещами, процесс не первичен), а как его понимает арабское мышление. Конечно, это непросто: это означает целиком перестроить свое сознание, придав ему иную архитектонику, задействовав иные механизмы смыслополагания.
Попробуем теперь погрузить зеноновские рассуждения в мутазилитскую мыслительную среду. Начнем со «Стрелы».
Рассмотрим движение стрелы с точки зрения мутазилитской концепции времени и движения. Для мутазилитов время является чередой атомарных моментов, в каждый из которых стрела не движется и не покоится. Зенон же говорит: стрела покоится в каждый данный момент времени, ибо занимает равное себе пространство и, следовательно, не движется. Для него очевидно, что в каждый момент времени можно либо двигаться, либо покоиться, потому что действует закон исключенного третьего. Если некоему телу, субъекту может быть приписано движение либо его противоположность — покой, то оно и должно быть приписано: либо одно, либо другое должно быть верно. Нельзя не приписать ни то, ни другое. Одно из двух обязательно должно быть верно. Если нет движения, значит, есть покой.
Это то логическое основание, с которым согласны и Зенон и Аристотель. Именно поэтому стрела у Зенона в каждый атомарный момент времени находится в покое. Зенон не может сказать, что она не покоится. Раз она не двигается, значит, покоится. А мутазилиты могут сказать, что в каждый момент времени, рассматриваемый изолированно, она по определению не является ни движущейся, ни покоящейся, потому что движение и покой могут быть установлены только для двух последовательных моментов времени.
Продолжим наш эксперимент и проследим дальше глазами мутазилитов за построениями Зенона. Посмотрим, где находится стрела в следующий момент времени. Замечаем, что она находится в другом месте и занимает, как правильно утверждает Зенон, равное себе пространство, — но, важно, что это место другое, нежели ее положение в предыдущий момент времени. Раз это другое место, значит, говорят мутазилиты, имеется движение, и мы фиксируем его для двух последовательных атомов времени.
С точки зрения мутазилитов, никакого затруднения нет, все правильно: стрела занимает в любой атомарный момент времени равное себе пространство и вместе с тем движется. Здесь не только нет затруднения; это — совершенно правильная формулировка, так и следует описывать поведение стрелы и любого другого движущегося объекта.
Таким образом, мутазилитская концепция времени позволяет выделить атомарные моменты времени, и движение оказывается возможным, притом что в каждый отдельный момент времени мы не можем фиксировать движение тела, равно как и его покой.
— Вы сказали, что атомарное время состоит из атомов, а атом времени по определению — это уничтожение-и-возникновение. В таком случае почему это неприменимо к той же самой стреле? Если атом времени для стрелы — это смена ее уничтожения ее возникновением, то почему это каждый раз не новая стрела? Ведь рассуждая о том, почему Земля не падает, Вы говорите, что Бог уничтожает и создает в каждый атомарный момент времени некую подставку для нее. Эта теория распространяется на все предметы? Откуда берется атом времени, если сама стрела не уничтожается? (вопрос из зала)
— Очень хороший вопрос. Является ли атом времени чем-то локальным, «привязанным» к каждому конкретному предмету, который может уничтожаться и возникать в собственном, так сказать, ритме, никак не согласованном с ритмами уничтожения-и-возникновения других предметов, или же атом времени один и тот же для всех предметов, то есть все они сразу переживают уничтожение-и-возникновение?
Мутазилиты дают на этот вопрос второй ответ. Вспомним понятия субстанции и акциденции. Субстанция — это нечто, служащее «подставкой» для признаков, акциденций. Случайны эти признаки или нет — вопрос другой, тут возможны различные ответы. Итак, субстанция — это то, что несет некие признаки. Смысл разделения на субстанции и акциденции очень легко понять на простом примере. Скажите, бывает ли белизна сама по себе? Нет. Бывает только что-то белое. Бывает ли длина сама по себе, длина как таковая? Нет. Бывает только что-то длинное. И так далее. То, что является белым, черным, длинным, коротким — это и есть субстанция. А ее признаки — акциденции.
Субстанция — это нечто самостоятельное, то, что не нуждается ни в чем другом, чтобы существовать. И в нашем примере стрела — это субстанция.
С точки зрения мутазилитов, обязательно уничтожаются и возникают все акциденции, но не субстанции. Субстанции могут переживать два и более мгновения, но могут жить и все мгновения. Бог, может быть, сотворил в первое мгновение мира некую субстанцию, и она будет жить до конца творения. А вот акциденции обязательно в каждый момент времени уничтожаются и возникают. Поэтому атомарность времени — вещь объективная в том смысле, что атом времени фиксируется для всего мироздания в целом.
В нашем примере стрела является субстанцией, а ее нахождение в том или ином месте — ее акциденцией. В момент времени В уничтожена акциденция нахождения стрелы в месте М – 1 и сотворена акциденция ее нахождения в месте М. В следующий момент времени В + 1 уничтожена акциденция нахождения стрелы в месте М и сотворена акциденция ее нахождения в месте М + 1, ином, нежели место М. Стрела, таким образом, оказывается в другом месте в следующий атом времени — это та же самая стрела с новым признаком, та же субстанция, сменившая акциденцию. И поскольку новое место — другое, мы фиксируем движение.
С точки зрения данной концепции, все логично. Если мы принимаем определения и принимаем логику, мы должны принять и следствие.
Есть еще вопросы? Убедил ли я вас в правоте мутазилитов? Есть ли какие-то возражения, сомнения? Нет? Тогда скажите мне, где же происходит движение? Где стрела движется? Я вас убеждал, что в каждый из атомов времени нет ни движения, ни покоя. Нет этих смыслов «внутри» атомов времени, они не несут эту семантику. А где тогда движение?
— Это разница между моментами…
— А что значит «разница между моментами времени»? Где эта «разница» находится? Ведь движение должно быть где-то. Как мыслить это движение?
Представьте себе кадры фильма: один кадр — человек здесь, следующий кадр — он уже там. А где движение? Это же два статичных кадра.
— Между ними.
— А что значит «между ними»? Между ними ничего нет.
— Это смена картинки.
— Верно, смена картинки. Так есть что-нибудь между кадрами? Ничего нет?
— Но они же меняются и изменяются?
— Да, но ведь это всего лишь иллюзия. Движение — иллюзия, если мы говорим о фильме. В каждом кадре персонаж статичен, и движение, которое мы видим, — это всего лишь результат работы наших механизмов восприятия. У мутазилитов-то не так, они-то считали, что движение на самом деле есть. Движение для них — не иллюзия. Но где оно находится? Где оно, если его нет ни в одном, ни в другом моменте?
— В вере.
— Вера — такая вещь, к которой можно апеллировать, если ничего не получается. Если мы чего-то не понимаем, можно все свалить на Бога: если мы не понимаем, как это устроено, значит, это он так сделал. Но мутазилиты-то так не поступали. Они считали, что могут найти ответ, апеллируя не к Богу, а только к разуму.
Так где же находится движение?
— Между.
— Действительно, между первым и вторым атомами времени находится движение. Но что есть между этими атомами времени? Там же нет времени по определению. Это же два последовательных атома времени — и между ними ничего нет.
— В четвертом измерении…
— Это действительно трудный вопрос. Как ответить на него, если у нас есть только два «статичных» момента (условно статичных, потому что, с точки зрения мутазилитов, в каждый отдельный атом времени стрела не является покоящейся, это надо помнить: она ни двигается, ни покоится). Где тогда движение?
— А они-то нашли ответ?
— Нашли, будьте уверены. Попробуйте поискать его вместе с ними.
— Может быть, движение — в совокупности кадров?
— А что вы найдете в совокупности кадров? У мутазилитов не было, конечно, этого образа. Но если мы расклеим кадры, у нас не будет движения, — у нас будет только последовательность статичных состояний.
— Но ведь мы видим в фильме движение…
— Да, видим, если на экране кадры достаточно быстро сменяют друг друга. Верно, но это лишь иллюзия движения. Иллюзия — это эффект, создаваемый нашим восприятием. А для мутазилитов движение было объективным. Где оно?
— Может быть, атомы движутся как-то?
— Вы имеете в виду атомы времени? Нет, атомы времени не могут двигаться, поскольку, чтобы двигаться, нужно менять место, а атом времени не имеет места по определению, потому что место занимает только тело.
Сложный вопрос, не правда ли?
Не случайно я на первой и второй лекциях столько рассказывал про действующее-претерпевающее-процесс. Давайте зададимся вопросом: где находится процесс, когда мы имеем действующее-и-претерпевающее? Где находится «писание» как процесс, когда есть «пишущий» и «записанное»? Где процесс? Между ними. А что между ними? Между ними ничего нет.
— Это и есть процесс.
— Что значит «это и есть процесс»? Вы же не можете мне предъявить его. Вы можете предъявить действующее и претерпевающее. А где процесс?
Мы должны ответить, что процесс — это их связь, не имеющая никакого «где» и потому не сводящаяся к паре действующее-претерпевающее: ни к каждому из них по отдельности, ни к их сумме.
— То же самое и с движением, да?
— То же самое и с движением. Совершенно верно. Это и есть та парадигма, которая носителю арабского языкового сознания подсказана языком, но которая вполне может быть понята и нами, даже если мы не являемся носителями арабского языка. В этом смысле это не что-то эксклюзивное, это вполне общечеловеческая вещь.
Эта парадигма и является в данном случае объясняющей. Где находится движение, объединяющее два статичных момента времени? Оно находится между ними — точно так же, как процесс находится между действующим и претерпевающим.
Здесь действует та же самая модель объяснения. Представьте, что первый атом времени — это воздействующее, а второй — претерпевающее. Тогда движение — это процесс, который их связывает и находится между ними.
— Вы же сказали, что между ними ничего нет?
— Между ними ничего нет в смысле времени: между двумя атомами времени нет времени, «в которое» можно было бы «поместить» движение. Я говорил вам об этом, стремясь показать, что мутазилиты не мыслили движение (да и вообще любой процесс) так, как мыслим его мы, «помещая» на ось времени. Для них наличие времени как «вместилища» процесса не было условием понимания процесса.
Обратим более пристальное внимание на слово «между». Его можно мыслить по-разному, точно так же, как по-разному можно мыслить «и» или «или». Это простые, но в то же время очень сложные слова. Что значит «между» для нас? Мы мыслим его как «посередине»: был у нас кусок торта, мы его разрезали и отодвинули куски друг от друга: тогда «между» ними образовалось пространство, «куда» можно поместить что-то третье, что и окажется между двумя кусками торта. Вот в этом смысле «между» двумя моментами времени нет никакой расщелины, куда бы поместилось движение. И вместе с тем движение не может быть понято как обнимающее два момента времени, как включающее их в себя. Оно между ними в другом смысле.
В арабском языке слово «между» (байна) означает «соединяя», «стягивая» — это как мостик. Я не случайно привел образ мостика, перехода между двумя сторонами. «Мостик», который соединяет положения тела в два последовательные атома времени, и есть движение.
Мутазилиты тоже бились над вопросом, где находится движение. Они пытались поместить его в один атом времени, во второй — не получается. Их ответ был следующим: движение находится между этими двумя атомами времени, но «между» — не в смысле посередине, раздвигая эти атомы времени, а «между» в смысле стягивая их, соединяя, но не включая внутрь себя. Точно так же процесс соединяет и стягивает действующее и претерпевающее, но не включает их внутрь себя. Ведь мы не можем сказать, что я как «пишущий» включен внутрь, помещен в пространство «писания» как процесса. Нет, «писание» связывает меня с результатом моего труда, но не включает меня внутрь себя.
Итак, я рассказал вам о двух главных, наиболее репрезентативных аспектах мутазилитской мысли — теории действия и атомистической концепции времени. Кроме атомистической концепции времени, они создали также концепцию атомарного пространства и вещества. Тоже очень интересная концепция, и тоже прямо противоположная концепции Аристотеля.
Аристотель выдвигает положения, которые, наверное, хорошо знакомы всем нам по курсу школьной геометрии и которые воспринимаются как интуитивно верные. Он утверждает, что более сложные, высокие измерения пространства не складываются из более низких, простых. Пространство не выстраивается из «кирпичиков», из простых элементов, наоборот, более простые элементы пространства получаются «из» более сложных как их предел, их оконечивание, — как то, что прерывает их бесконечное течение. Например, линия не складывается из точек, с точки зрения Аристотеля. Неправильно будет думать, что, если точка является самым «маленьким», безразмерным элементом, то мы получим линию, построив последовательность точек. Неверно, потому что ее нельзя так получить. А как получается линия?
Давайте начнем с точки. Что такое точка?
— Отрезок.
— Как же отрезок может быть точкой? В отрезке бесконечное число точек.
— Точка — это атом.
— Правильно, точка есть атом. Я и спрашиваю, как мы получаем этот «атом». Можно ли считать точку «строительным материалом» для выстраивания всего пространства? Можно ли считать, что все пространство состоит из таких атомарных точек, которые сначала образуют линии; затем мы складываем линии, этакие макаронины, и получаем плоскость; потом плоскости накладываем друг на друга, как листы бумаги, получаем трехмерное пространство и живем в нем. Так, по Аристотелю, строится пространство или нет?
Нет, оно так не строится. Правильно, что точка — это атом, потому что она безразмерна. Но откуда она берется?
Точка — это место пересечения двух линий. Место, где совпадают две непараллельные прямые линии, и есть точка. А откуда берется линия? Ведь чтобы пересечь две линии, надо их иметь. Линия — место пересечения двух плоскостей.
Суть дела именно в этом: нижестоящие измерения пространства, по Аристотелю, мы получаем как пересечение вышестоящих — иначе быть не может. Почему? Это совершенно очевидно. Ведь точка не имеет размерности: у нее нулевая размерность, и, складывая нули, вы никогда не получите протяженность. Сколько точки ни прикладывай друг к другу — линии не получится. То есть линия — это что-то более самостоятельное, чем точка; существование линии не зависит от существования точек, напротив, точки существуют благодаря линии.
Согласно мутазилитам, дело обстоит иначе. Они считают, что мы имеем пространственную точку потому, что существует атом вещества, который и занимает это место. То есть пространственная точка — это не просто конструкция ума, она физически фиксируется атомом, который соответствует этой точке. Он занимает точку пространства, которая не имеет измерения.
Таким образом, согласно мутазилитам, атом вещества не имеет вовсе ни одного измерения, как и точка.
Можем ли мы представить что-то, не имеющее измерения? Лишь символически. Например, нарисовать точку, но на самом-то деле наш рисунок будет не точкой, а фигурой, неким кругом, который имеет размер. А представить себе что-то, не имеющее размера, мы не можем, потому что как тогда отличить это от ничто? Как-то отличим, а как — не знаем.
С точки зрения мутазилитов, атом пространства — это то, что не имеет размера, и атом вещества — то, что не имеет ни одного измерения и занимает пространственную точку. Правда, они признают, что такой атом вещества представить нельзя, но сконструировать как некую теоретическую конструкцию можно.
Более того, согласно мутазилитам, мы не только не можем представить такой атом сам по себе, но он и существовать не может в одиночку. Потому что существованием обладает только то, что имеет три измерения, то есть реальное тело в реальном физическом пространстве. А у атома вещества вообще нет измерений, поэтому в одиночку он существовать не может. Следовательно, этот атом вещества должен нарастить пространственные измерения для того, чтобы создать тело. Давайте вслед за мутазилитами посмотрим, как это происходит.
Они говорят, что, когда два таких атома соединяются, получается «линия» (хатт), то есть одномерная пространственная структура. Откуда берется это измерение, если его нет «внутри» атомов, пространственных атомов (точек) и атомов вещества, которые тоже безразмерны? Откуда берется то, что они называют линией, то есть одномерная структура, пространственная и вещественная? Этот вопрос имеет ту же логическую и смысловую природу, что и вопрос о том, где движение между двумя атомами времени, что и вопрос, где процесс, который связывает действующее и претерпевающее. Там же находится и первое измерение пространства, которое возникает в результате соположения двух безразмерных атомов пространства и вещества.
— Мутазилиты использовали термин «пространственное измерение»? (вопрос из зала)
— Да, я употребляю это выражение, не модернизируя. Термин «пространственное измерение» (бу‘д) у мутазилитов был. Тело — это то, что имеет три пространственных измерения. Мутазилиты принимали это определение, по-видимому, оно пришло к ним из античности. Тело — это нечто трехмерное, и существовать может то, что имеет три измерения. Три измерения — это длина, ширина, глубина. В этом смысле все это — точные термины. И «отсутствие измерения» — это тоже точный термин.
Итак, получив одномерную структуру как переход между двумя безразмерными атомами, мы точно по той же технологии берем две одномерных структуры и, сополагая их, получаем плоскость, то есть двумерную структуру, берем две плоскости и сополагаем их как взаимно-обусловливающие противоположности — получаем трехмерное тело.
— В таком случае плоскость тоже не может существовать, потому что она одномерная.
— Да, существовать отдельно плоскость не может; правда, она имеет два измерения, а не одно. Только получив трехмерное тело, мы получили то, что может существовать самостоятельно. Это — конфигурация восьми атомов, потому что два атома дали одномерную, две двойки — двумерную и две четверки — трехмерную структуру. Конфигурация из восьми атомов — это минимальная конфигурация, которая может существовать, с точки зрения мутазилитов.
— А как может сложение двух безразмерных атомов дать одномерную структуру?
— В том-то и дело, что, с точки зрения нашей с Вами рациональности, исходя из которой Вы и задаете свой вопрос, конечно, не может. Сколько нули ни складывай, ничего не получится. Мутазилиты тоже это знали. Но в том-то и дело, что здесь не складываются нули. Эти два атома не просто прикладываются один к другому, они вступают в такое же взаимодействие, которое связывает действующее и претерпевающее в единый процесс. Опять я вас возвращаю к этой парадигме. Нет никакого другого способа осмыслить это, нежели апеллировать к этой парадигме. Где находится процесс, происходящий «между» действующим и претерпевающим? В действующем нет процесса, в претерпевающем тоже нет процесса, так где же процесс? То же самое и здесь. Это — переход между двумя.
— Кем по профессии были люди, которые размышляли об этом? Они были богатыми, известными? (вопрос из зала)
— В первую очередь эти люди были интеллектуалами. Кто-то из них был состоятельным, кто-то — нет. Но, как правило, жили они интеллектуальным трудом, не каким-то другим. Этот вопрос отсылает нас к тому, как понималось знание в классической исламской культуре.
Один известный и очень популярный среди мусульман хадис звучит таким образом. Мухаммед говорит: «Ищите знание, хотя бы вам за ним пришлось поехать в Китай». Китай, конечно, понимается как символ края земли.
Императив получения знания — один из самых главных в исламской культуре. Тому есть много подтверждений. Часто цитируется еще один известный хадис: «Ученые — наследники пророков». Если выстраивать иерархию людей по их достоинствам, то первыми будут посланники, затем — пророки, за ними — ученые (араб. ‘улама’, русск. «улемы»). Не цари, не правители, не халифы, а ученые, потому что они — носители знания.
Есть особая область этики, которая описывает то, что по-арабски буквально называется «права знания» (хукук ал‑‘илм). Но надо помнить, что термин «право», как мы говорили раньше, — это понятие, которое связывает две стороны — контрагентов некоего отношения; право — это отношение, связь сторон, а не «принадлежность» одной из них. В таком понимании права (хакк, мн. хукук) ярко проявляется процессуальность мышления арабо-мусульманской культуры. Каковы стороны такого отношения в данном случае, выясняется из термина ‘илм. Мы переводим это слово как «знание», но в арабском слово ‘илм обозначает именно процесс «познавания». Две стороны процесса «познавания» — это отдающий и получающий знание, то есть научающий и научающийся.
Это все та же парадигма действующего-и-претерпевающего, активной и пассивной сторон: дающий и получающий знание. А право — это то, что связывает эти две стороны воедино, что действует «между» ними. Оно заключается в том, что обладатель знания не имеет права держать это знание при себе: он обязан делиться этим знанием с другим и не имеет права отказывать спрашивающему. Вспомним, о чем мы говорили в общем смысле, рассматривая мусульманскую этику: ее главная идея — завязанность отношения-с-другим. В данном случае мы имеем дело с конкретным проявлением этого принципа. Если кто-то ищет знание, то обладающий знанием (ученый) обязан посвятить ему свое время, поделиться знанием. Поэтому мечеть (и раньше, и зачастую сейчас) является стихийным образовательным центром, где находятся знающие люди, которые распространяют знание.
Итак, императив получения знания — это закрепленный в культуре этический императив. Уважение к ученым-обладателям знания — это тоже вещь, закрепленная в культуре. Не случайно уровень образованности во времена классической исламской цивилизации был на порядок выше, чем в Европе того времени. О степени развития грамотности и культуры знания мы можем судить по количеству рукописей, которые дошли до нас. Это огромный объем. Раз рукописи существовали, значит, они переписывались и продавались. Ведь рукопись не создается «просто так», она пишется или для себя (когда кто-то снимает копию для собственных нужд), или, чаще, на продажу. Значит, существовали рынки. Мы знаем, насколько была развита книготорговля в средневековом Багдаде, а один из продавцов (Ибн ан-Надим) даже составил каталог своих рукописей, и этот документ до сих пор служит одним из надежных источников по средневековой арабоязычной библиографии, настолько он полный.
Но рукопись не существует без человека, сама по себе она не может «кочевать» от одного человека к другому. Рукопись нужно прочитать и преподать эту науку ученику. Коль скоро знание обладает высоким статусом, то высок и статус того, кто распространяет знание — учителя. В период расцвета мутазилизма, начиная с VIII–IX веков, уже сложилась система образования, которая включала комплекс так называемых классических исламских наук. Это коранические науки, то есть толкование Корана, право, хадисоведение, филология — огромный комплекс наук, который требует большого труда для своего освоения. А за всякий труд нужно платить. Поэтому люди, которые зарабатывали интеллектуальным трудом, жили хотя и не слишком богато, но вполне могли заработать на хлеб. И такой способ заработка — распространение знаний — был известен в исламской культуре на всем протяжении ее развития.
— Как Вы считаете, какое место занимает личность в сравнительном исследовании культур? Нужно ли исследователю уверовать в слова или, наоборот, отстраниться от этого? (вопрос из зала)
— Как выстраивать сравнительное исследование вообще и восточной культуры в частности — это вопрос непростой. В конечном счете Вы, может быть, имеете в виду не просто веру в Бога или ислам как вероучение, а герменевтическую проблему: вчувствование, вживание в иную культурную среду. Как лучше всего вжиться в чужую культуру? Ответ простой: лучше всего это сделать, живя в ней. Надо ее почувствовать, «пропустить через себя». А иначе как Вы ее узнаете? В таком случае, конечно, надо пожить в этих странах, принять ислам, сделать арабский язык родным (и прежде всего забыть русский, чтобы не мешал) — другими словами, стать настоящим мусульманином.
Хорошо, Вы вжились, забыли все, чему Вас учили в школе, овладели комплексом исламских наук — стали представителем исламской культуры. Вы вжились на 100 %, лучше не бывает. Что Вы этим достигли? Для самого себя Вы достигли глубокого понимания исламской культуры. Однако парадокс в том, что Вы даже не можете понять, чего Вы достигли, потому что забыли свою изначальную задачу, ибо она была поставлена Вами, когда Вы были в пределах собственной культуры. А Вы ее забыли — Вы вжились в новую культуру. Вы как будто вышли из-за одного стола и сели за другой. Но Вы никак не решили задачу сравнительного исследования. Вы даже не решили задачу описания исламской культуры, потому что Вы ее можете описать на ее собственном языке, но Вы не можете сделать этот язык понятным для меня, потому что я-то по-прежнему нахожусь в пределах своей культуры — в тех пределах, которые Вы покинули.
Поэтому всякого рода вживания, вчувствования и так далее — это дело хорошее, то, что называется «исследовательской кухней». Каждая хозяйка на своей кухне готовит пирог каким-то особым образом, но когда подает его гостям, ее руки уже не в тесте и не в масле. Так же обстоит дело и с вчувствованием, вживанием, вбиранием в себя, переживанием иной культуры. Переживайте сколько угодно на своей исследовательской кухне, но вы должны изложить эти результаты на языке своей культуры, иначе они бессмысленны.
Методом вживание быть не может, вот что я хочу сказать. И, конечно, принятие другой культуры никак не может быть условием ее постижения.
Я уже не в первый раз слышу такого рода вопрос. Наверное, есть какая-то причина, но я пока не могу понять, какая именно. Представьте себе, что вы физик, изучаете кварки. Неужели вам для этого надо стать кварком?.. Нет, конечно. Исследователь не может отождествлять себя с объектом исследования. Разумеется, хорошо бы представить «изнутри», как ведет себя кварк, но опасно стремиться для этого превратиться в кварк.
— Вопрос о соотношении общечеловеческого и конкретно-национального, локального. Знаменитые теории Шпенглера, Тойнби. Есть единое человечество именно в духовном плане, в религиозном — или нет, а есть разные цивилизации, культуры и т. д.? (вопрос из зала)
— Я бы ответил таким образом. Раз уж мы с вами взяли язык как генеральную метафору, я и здесь к ней прибегну. Лингвистами установлено, что у всех детей, пока они не закрепили окончательно владение родным языком (если не ошибаюсь, это продолжается до пяти лет), имеется так называемая языковая способность. Все люди от рождения наделены некой непонятной нам пока что способностью к овладению любым языком. Если вы русского ребенка поместите в китайскую среду, для него китайский станет родным языком — в том случае, если он будет осваивать его как родной.
Понимаете? Это к вопросу об «общечеловеческом». У нас у всех есть общечеловеческая способность к языку, но у нас нет общечеловеческого языка, поскольку любая реализация этой общей способности является уже чем-то особенным. Это всегда вариант, а не инвариант. Китайский язык — это не монгольский, не корейский, не русский и т. д.
Точно так же и культура. Я думаю, что есть нечто общечеловеческое в смысле способности к овладению культурой, к выстраиванию культуры. Но как только вы эту способность реализовываете в виде какой-то конкретной культуры, так вы тем самым ее (способность) и теряете как общечеловеческую, но приобретаете ее конкретную реализацию. И тогда уже мы имеем разные культуры.
Культуры различаются, но, с моей точки зрения, различаются в большей или меньшей степени. Есть разные степени различия. Одно дело различие, скажем, между английской и французской культурами, которое, конечно, очень глубокое, — но все-таки это различие другого порядка, чем различие между любой из европейских культур и арабской, или между арабской и китайской культурами. Это различия разного порядка. Это очень существенный тезис для меня: есть порядок различия. Я стремился показать, что между арабской и западной культурами различия настолько глубоки, что они всесторонни, системны и нередуцируемы — они касаются самого основания, самого принципа смыслополагания.
А того, что мы называем «общечеловеческим», нет как субстанциального, как того, что мы можем эксплицировать в качестве «вот этого», указав на «это» рукой и представив «это» как текст. То, что нам предлагают в качестве общечеловеческого, — это просто вариант, это одна из культур: вариант, но не инвариант. Это, по-моему, надо очень ясно понимать, потому что все современные культуры, кроме той, которая претендует на общечеловеческий характер, стоят перед вызовом: принять эту другую культуру как общечеловеческую, согласиться с этим и потерять свое — или не согласиться.
— Шпенглер все-таки нащупал какую-то истину?
— Шпенглер, а до него — Данилевский. С моей точки зрения, да.
— Известно, что в античности существовала атомистическая позиция, греки первыми заявили о прерывистом, дискретном строении материи, так что едва ли мутазилиты выдвинули принципиально новую идею… (вопрос из зала)
— Да, верно. Заслуга мутазилитов не в том, что они придумали атомизм. Известен атомизм и греческий и индийский. Я говорил о том, что тот вариант атомизма, который предложили мутазилиты, насколько мы знаем, был их собственным изобретением; я и показывал вам, в чем именно заключается его несводимость.
Вместе с тем здесь есть своего рода исследовательская проблема и загадка: как культура, которая выросла как будто из ничего, создала свою философию и свою науку?.. Ну что собой представляли арабы к моменту возникновения ислама? Это были кочевые племена, правда, известные прекрасным владением словом, изысканной доисламской поэзией. Это были люди слова, такими они и остались. Да, прекрасное владение словом, но больше-то ничего, даже развитой мифологии у них не было, как не было и развитого теоретического мышления. Более того, даже письменности не было. Фактически арабская письменность развивалась вместе с исламом. И как в таких условиях, спустя всего лишь сто лет после начала исламских завоеваний, возникают такие сложные абстрактные теоретические построения? Это большая загадка. Единственное приходящее на ум объяснение — они это заимствовали: арабы пришли на территории, которые уже были культурно освоены. Но проблема в том, что ничего этого не было, пока арабы не пришли. Значит, что-то в этом приходе дало толчок к развитию культуры. Объяснить все просто влияниями не получается: первоисточников-то не обнаружено. Ни в индийских, ни в греческих учениях мы не можем найти того, что объяснило бы нам теории, созданные мутазилитами. Эти теории не сводятся к сумме заимствований.
Судьба мутазилитских учений в рамках исламской культуры, к сожалению, была не самой блестящей. Спустя приблизительно два века после возникновения мутазилизм сменяется ашаризмом; это уже не философский, а доктринальный этап исламской мысли. Эти два этапа — мутазилитский и ашаритский — называются в исламской традиции словом «калам» (калам «речь»); его представителей называли мутакаллимами. Ранний его этап, мутазилитский, — философский. Поздний этап, ашаритский (примерно с X в. до наших дней), — доктринальный. Мутазилизм как философия, к сожалению, постепенно сошел на нет: он был вытеснен доктринальной мыслью, как я уже говорил, из интеллектуальных центров в провинцию и постепенно исчез. Мутазилитов никто не «закрывал», никакого запрещающего их «декрета» не было принято. Просто мутазилизм перестал быть популярным.
Однако было широкое духовное и философское течение, которое частично восприняло мутазилитские концепции. Это — суфизм. Мутазилитские концепции времени были восприняты в суфизме и оказали на него прямое влияние. И суфийская онтология, то есть учение о бытии, и вообще суфийская концепция мира, мироустройства, трактовка соотношения между миром, Богом и человеком не могут быть поняты без учета того, что они построены на фундаменте мутазилитской концепции атомарного времени. Если это не учитывать, то суфизм как философское учение будет непонятен.
Суфизм возник, как считают некоторые авторы, фактически одновременно с исламом. Это, скорее всего, преувеличение, но несомненно, что суфизм возник очень рано. Первые люди, называвшие себя суфиями, появились, по самым осторожным оценкам, в VIII веке. В дальнейшем суфизм продолжал развиваться, менять свои формы на протяжении всего классического периода. И вплоть до настоящего времени суфизм является одной из самых популярных и очень представительных форм исламской культуры.
Суфизм — это мистическое направление в исламе. Но что такое мистицизм? Мистицизм ведь, как известно, не исламское изобретение, как и атомизм.
— Мистицизм связан с передачей тайного знания.
— Тайного знания, потому что mystical, в смысле mystery — тайна, так? А чем тогда мистицизм отличается от эзотеризма? Это одно и то же или нет? Это близко, но все-таки не одно и то же. Какие учения мы называем мистическими? Не просто тайные.
— Необъяснимые…
— Это уже в разговорном смысле: необъяснимые, включая всякого рода астрологию и тому подобное. Нет, это не мистицизм.
— Духовные…
— Духовные? Однако любая религия как таковая — тоже духовное учение. Много о чем можно говорить как о духовном.
Ответ на этот вопрос простой. Мистицизм — это такое учение, которое утверждает, что возможно непосредственное постижение Бога, или Первоначала, человеком. Это главное. А духовное оно или не духовное, тайное или не тайное — это дело второе. Суфии, собственно, никакой тайны из своих учений не делали. Ничего там потаенного, скрытого нет.
Суфизм вполне соответствует данному определению. В этом смысле суфизм, действительно, мистическое направление в исламе, то есть такое направление, которое основано на идее непосредственного постижения Бога, когда Бог напрямую познается человеком, без всяких посредников.
Как может происходить такое постижение? Оно может происходить в разных формах. Например, в виде озарения, достигнутого в результате духовной практики. Это может быть и результатом каких-то иных целенаправленных усилий, например аскетической практики. Это может быть философское или духовное учение и т. д. Суфизм принимал все эти формы и в этом смысле представлен в самых разных пластах исламской культуры.
Арабское слово тасаввуф, которое мы передаем как «суфизм», не имеет однозначной этимологии. Еще в классические времена ал‑Кушайри, автор знаменитого «Трактата» (Рисала) о суфизме, зафиксировал в качестве наиболее правильного следующее мнение. Точная этимология слова «суфизм» неизвестна, но смысл, к которому возводится этот слово, проистекает от созвучного слова сафф («ряд»): суфии считают, что они стоят в первом ряду перед Богом, а значит, они — наиболее приближенные к Богу. Почему? Потому что суфизм возник как реализация устремленности к повышенному, акцентированному благочестию, и популярность суфизма в исламской среде с классических времен до настоящего времени имеет прежде всего этот источник. Суфизм популярен, авторитетен в силу того, что суфии считаются людьми, которые предъявляют к себе более высокие, чем средний мусульманин, требования религиозного благочестия и этики. Суфий — это человек, который служит своеобразным этическим ориентиром для мусульманина. Такое понимание суфизма имело место с возникновения суфизма и сохраняется до сих пор.
В тех регионах России, где распространен ислам и, следовательно, суфизм, скажем, в Поволжье и в регионах, где проживают татары и башкиры, равно как в ряде районов Кавказа, авторитет суфийских шейхов сохранялся даже в советские времена. Даже при советской власти, когда, конечно же, никакого открытого практикования религии и тем более суфизма не могло быть, суфийские шейхи сохраняли авторитет среди мусульман благодаря тому, что отличались повышенным благочестием.
Суфизм оказал огромное влияние на персидскую поэзию, на таких всем известных авторов, как Хафиз, Низами, Руми и др. Все они не просто испытали влияние суфизма, а суфизм вошел в ткань их поэзии — суфийская образность и, главное, суфийская философия. Суфизм, конечно, это очень богатая система образов, и в поэзии, и вне поэзии, — но главное, что за каждым из них стоит совершенно рациональное истолкование. «Рациональное» в смысле «рационально получаемое»: имеется некая рациональная процедура, которая приводит образ к вполне внятному, рациональному учению.
Суфизм существует до настоящего времени в разных видах. Довольно быстро суфизм обрел так называемую институционализированную форму, когда возникли суфийские ордены. В таком виде он сохранился до настоящего времени. Суфийские ордены — это подчас хорошо выстроенные организации с четкой иерархией и подчинением руководству, что делает их в ряде случаев вполне боеспособной силой в нынешнем мире. В этом смысле суфизм подчас начисто теряет свои связи с духовной практикой, постижением Бога, отрешенностью от мира и, наоборот, становится очень активной силой в современных политических баталиях. Так, в последние полтора-два столетия суфийские ордены играли значительную роль в политике на Балканах, потому что это очень удобный и действенный способ мобилизации, а также собственно в арабском мире, например, в Египте. Суфийские ордены играют большую политическую роль и на Кавказе: многие из наших чеченских друзей считают себя последователями суфийских шейхов.
Суфизм — очень сложное духовное явление с многовековой историей развития, и философская кристаллизация суфизма — непростой, многоэтапный процесс. Поэтому мы рассмотрим лишь один из его периодов — зрелый этап философии суфизма XII–XIII веков, который представляет квинтэссенцию философской сути учения и связан с именем Ибн ‘Араби. Созданная этим мыслителем концепция, получившая название вахдат ал-вуджуд («единство бытия»), составила высшую точку развития суфийской философии и оказалась непревзойденной внутри самого суфизма.
Сегодня я вижу свою задачу в том, чтобы поговорить о философских основаниях того, как возможно непосредственное постижение Бога с точки зрения суфизма и каково отношение между Богом и миром. Потому что для того, чтобы понять, как может человек постигать Бога, нужно прежде всего понять, как связаны Бог и мир.
Оттолкнемся от нормативно-религиозного видения этой связи. Исходя из доктринальной картины мира в исламе, можно сказать, что в целом отношения между Богом и миром выстраиваются как преимущественно вертикальные. Бог — всевластный творец, который не нуждается в мире; мир — сотворенное, то, что целиком зависит от Бога и нуждается в Нем. Термины «нуждается–не нуждается» (муфтакир–ганийй) представляют собой оппозицию, которая постоянно подчеркивается в религиозной, доктринальной картине мира. Одно из имен Бога звучит как ганийй — «Ненуждающийся». Богу мир не нужен, и он творит мир не потому, что тот нужен ему. А мир, напротив, нуждается в Боге постоянно, потому что, если бы не было божественной поддержки, мир бы погиб. Именно такое понимание в конечном счете выстраивает отношения между Богом и миром как вертикальные, как отношения подчинения, как строгую иерархию Бога и мира.
Суть суфийской философии (повторю, мы говорим о ее завершающем, ибн-арабиевском варианте) состоит в том, что эта вертикальная иерархия заменяется горизонтальным соотношением. Это означает, что Бог и мир как две главные составляющие картины мира и как основная оппозиция взаимно нуждаются друг в друге, они не могут быть друг без друга. Это главный переворот в религиозной картине мира, который совершает суфизм, и в этом основное отличие суфийского понимания соотношения между Богом и миром от нормативно-религиозного.
Горизонтальные отношения между Богом и миром — это пространственная метафора. Мы можем наполнить ее определенным смыслом: это такие отношения между Богом и миром, в которых нет иерархии, подчинения. Но этого мало, потому что непонятно, как именно выстраиваются такие отношения. Если нет отношений подчинения, то каковы эти отношения? Для того, чтобы это понять, нужно вникнуть в суть хотя бы минимального набора тех философских терминов, которые описывают данные отношения.
Как мы говорили, мутазилиты создали концепцию атомарного времени, согласно которой атом времени возникает благодаря двум событиями, стянутым воедино, — уничтожению-и-возникновению. Правда, у мутазилитов уничтожению-и-возникновению подвергаются акциденции (все акциденции мира), а не субстанции. Понимание соотношения между Богом и миром, которое развито в зрелом суфизме, в философии Ибн ‘Араби, также строится на этом понимании времени.
Давайте построим схему этого соотношения и наполним ее терминами и понятиями.
Итак, Бог и мир. Бог вечен (кадим), тогда как мир является временным (му’аккат). Так задается оппозиция «вечность–время». В этом пока что нет ничего нового по сравнению с нормативным пониманием, заданным и доктриной, и философией.
Пойдем дальше. Время — это последовательность атомов времени. Каждый атом времени является «стяжкой» двух событий, как это было у мутазилитов, — уничтожения и возникновения. Но в суфизме это — уничтожение и возникновение не только акциденций (как это было у мутазилитов, для которых субстанции переживают два и более мгновения), а всего мира.
Ибн ‘Араби фактически отрицает разделение на субстанции и акциденции и дает очень интересную и правильную критику понятия «субстанция», как оно употреблялось мутазилитами (и после них — ашаритами). Ведь само по себе это понятие является пустым. Все, что мы можем сказать о какой-либо субстанции, всегда будет каким-то признаком или их набором, который мы приписываем этой субстанции, а значит, будет акциденцией. Функция субстанции как именно субстанции — служить основанием для акциденции, и больше ничего. Но если ежемгновенно все акциденции гибнут (чтобы тут же возникнуть вновь), то оказывается, что сама субстанциальность непостоянна: она то есть, то нет, мерцая и пульсируя вместе с тактами уничтожения-и-возникновения, составляющими атомы времени. Субстанциальность оказывается, говорит Ибн ‘Араби, акциденцией — парадоксальный, но неизбежный вывод! Вот почему уничтожение-и-возникновение охватывает все вещи мира без исключения.
Итак, все вещи мира каждое мгновение погибают-и-возникают. Эти гибель-и-возникновение создают в своем единстве атом времени. Если вещь существует, это означает, что она имеет атрибут существования, если погибает, уничтожается — атрибут несуществования. Два противоположных атрибута: существование (вуджуд) и несуществование (‘адам).
Для нас сейчас важно просто зафиксировать тот факт, что в арабской философской традиции существование и несуществование понимались как атрибуты вещи. Это означает, что вещь как таковая может мыслиться и пониматься независимо от своего существования и несуществования. Мы можем вещь, образно говоря, перемещать из существования в несуществование, но при этом несуществующая вещь остается вещью, равно как и существующая. «Вещность» (шай’иййа) неотъемлема от вещи и составляет «ее саму», в отличие от существования или несуществования. Это положение можно считать практически универсальным для арабской философии во всем многообразии ее направлений, за исключением той ее части, которая напрямую воспроизводит античность.
Что означает с этой точки зрения «уничтожение» (фана’, халак) всех вещей? Это значит, что все вещи теряют атрибут существования и приобретают атрибут несуществования, но при этом остаются вещами. А «возникновение» (худус, ’иджад) означает, что атрибут несуществования заменяется у вещей атрибутом существования, — и они «возникают» в этом мире.
Таков первый шаг на пути категориального осмысления суфийской картины мира. Пойдем дальше. Что значит, что вещи получают атрибут несуществования? Они куда-то исчезают, «их просто нет»? Ничего подобного. В том-то и дело, что, получая атрибут несуществования, вещи остаются вещами, то есть не исчезают, не подвергаются аннигиляции. Но куда же они деваются? Если они уходят из мира, значит, они «перемещаются» в Бога, — ничего другого, где они могли бы оказаться, просто нет в нашем универсуме. Получая атрибут несуществования, все вещи мира перемещаются в Бога, оказываются внутри божественной самости. Получая атрибут существования, вещи из Бога возвращаются в мир. Значит, гибель, или получение атрибута несуществования, — это переход из мира в Бога, а получение вещами атрибута существования, — это переход из Бога в мир. Такое пульсирующее мерцание (переход из мира в Бога и возвращение из Бога в мир) и есть уничтожение-и-возникновение, которое создает атом времени.
Нам кажется, что время течет, но на самом деле время — это последовательность атомарных мгновений, и в каждое из этих мгновений мир уходит в Бога и возвращается обратно.
Мы наполним еще большим содержанием эту схему, раскрывая смысл этого процесса, но уже сейчас можно зафиксировать следующее. Поскольку эта связь является постоянной (ведь Бог вечен, он всегда есть), а возвращение вещей в Бога и их переход из Бога в мир — это способ существования Бога и способ существования мира, то оказывается, Бог и мир неотъемлемы друг от друга: если есть Бог, то обязательно есть мир, который является второй составной «частью» этого соотношения. Иначе говоря, не может быть так, чтобы Бог был, а мира не было. На теоретическом языке такое соотношение описывается арабской мыслью как захир-батин-соотношение (отношение «явное-скрытое»).
А на языке образов весь этот процесс описывается компактно, емко и очень красиво — как «дыхание Бога». Бог является живым (хайй — «Живой» — атрибут Бога: в исламе, как, впрочем, и в иудаизме, и в христианстве, Бог — живой), а всякое живое дышит: пока мы живем, мы дышим, дыхание остановилось, значит, мы умерли. Но Бог-то никогда не умирает — он всегда дышит. Дыхание — это череда вдохов-и-выдохов. Вдох — это переход всех вещей из мира в Бога («гибель мира»), а выдох — это их переход из Бога в мир («возникновение мира»).
Такой вот очень емкий, компактный образ: мир — «дыхание Бога». Казалось бы, этот образ поэтический, расплывчатый, непонятный, далекий: ну что значит «дыхание Бога», кто когда видел это «дыхание»? На самом же деле он расшифровывается ясно и четко на языке философии, причем на строгом языке.
— Чем вызвано, что вещи в каждое мгновение теряют атрибут существования, заменяют его атрибутом несуществования, то есть «уходят в Бога», и, наоборот, в то же самое мгновение заменяют атрибут несуществования на существование? Кто это делает, кто действователь? (вопрос из зала)
— Действователь — Бог, это он «инициирует» пульсирующий процесс смены несуществования существованием. Не случайно «мир — дыхание Бога», но не наоборот. В паре «Бог–мир» оба элемента необходимы друг другу, но все-таки Бог обладает некоторым приоритетом, потому что именно Бог является дарителем бытия: Бог дает бытие, и Он же его заменяет на несуществование.
— Если Бог вечен, то в каком смысле мир временной? (вопрос из зала)
— Мир временной в том смысле, что для него характерен атрибут времени. Что это значит и с какими другими понятиями связано понятие «время», мы рассмотрим чуть ниже. Но в том-то и дело, что в этой концепции время безначально и бесконечно. В этом весь смысл: эта концепция фактически делает Бога и мир «параллельными», и, таким образом, время оказывается равновеликим вечности и не может иметь начала, потому что Бог всегда был, не имел начала, и всегда был живым, а живое всегда дышит — если выражаться на языке образов. Значит, и дыхание Бога, то есть мир, было всегда, и не будет такого момента, когда мир закончится.
В этом, собственно, и состоит наиболее кардинальное онтологическое следствие философии суфизма. Я говорил вам, что исламская культура подверглась сильному влиянию суфизма и он в ней пользуется большим авторитетом. Но эта культура не является одноликой, унифицированной, и в ней наличествует очень широкий спектр мнений, вплоть до противоположных. Имеются довольно мощные течения в самом исламе — и доктринальные, и политические, — которые не принимают суфизм в принципе, категорически. Это было и в классические времена, так это и сейчас. С точки зрения этих деятелей, суфизм — второй враг верующих после Сатаны. Вот такие диаметрально противоположные мнения: суфизм как выразитель подлинности ислама, суфии — те, кто стоят в первом ряду перед Богом, суть суфизма — это стремление узнать Бога, понять, чего хочет Бог, и со-действовать, а не противо-действовать Богу; а с другой — суфизм как основной враг ислама, второй после Сатаны.
Если этот, первый этап разъяснения схемы соотношения между Богом и миром ясен, пойдем дальше по пути наполнения ее смыслом, чтобы сделать затем выводы.
Что еще происходит, кроме потери атрибута существования, когда вещи перемещаются в Бога? Что сопровождает этот процесс? Его сопровождают вещи не то чтобы очевидные, но такие, которые нетрудно понять.
Когда вещи обладают атрибутом существования, они находятся в этом мире, как мы с вами. Если рассматривать нас с точки зрения этой концепции, то мы воспринимаем и осознаем только одну сторону процесса: мы же не ощущаем, что мы ежемгновенно оказываемся в Боге, мы ощущаем только наше мирское существование. В нашем мирском существовании мы с вами, как и любая другая вещь мира, обладаем тем, что Ибн ‘Араби называет «инаковость» (гайриййа). Благодаря инаковости каждая вещь является иной, чем другая вещь, а это значит, что она отделена от другой вещи. Мы имеем право сказать и ясно видим, почему мы говорим: «Это не есть то, я не есть ты». У каждой вещи есть ее границы (худуд), некая «воплощенность» (‘айн), и благодаря тому, что каждая вещь заключена в своих границах, она является иной, чем другая.
Это первое. И второе, что следует из этого: поскольку вещи разные, их можно ранжировать, то есть расположить на рангах (маратиб), на разных уровнях: одни лучше, совершеннее, чем другие. В этой идее нет ничего неожиданного. Ранжированность сущего — это универсальная идея и ислама, и христианства, в обеих этих религиях венцом творения выступает человек.
Вот это просто понять, это вполне очевидно. Но что происходит, когда вещи теряют атрибут существования, получают атрибут несуществования и перемещаются в Бога, в его самость? Они ведь остаются вещами — но оказываются вещами несуществующими. Потеря атрибута существования сопровождается потерей взаимной инаковости: вещи, которые находятся в Боге, остаются вещами, то есть самими собой, но при этом они не инаковы в отношении друг друга. Почему? Потому что теряют свою воплощенность, свою плоть, и уже не имеют своей, четко очерченной границы.
Это нам с вами уже не так легко осознать, для этого не так просто придумать какой-то разъясняющий пример. Каждая вещь остается вещью, она остается самой собой, то есть вещи не растворяются в безликом единстве, не происходит так, что вещь переходит в Бога и растворяется там, как крупинка соли в океане — растворилась, и нет ее больше. Не это происходит. Каждая вещь остается самой собой. Более того, она соотнесена с самой же собой в своем мирском, то есть во временном существовании. Но она уже не инакова в отношении других вещей, как если бы она была не отделена от других вещей.
— Материальна ли вещь в состоянии своей вечностной ипостаси, так сказать, в Боге? (вопрос из зала)
— Нет, в Боге вещи нематериальны, безусловно. Только в мире вещи обретают материю. Но это не значит, что в Боге они находятся в таком состоянии, которое мы можем отождествлять, скажем, с платоновскими нематериальными идеями. Нет, это не идеи, — это принципиально. Иногда приравнивают одно к другому, но это неверно. Все дело в том, что вещи в Боге (это вещи, которые являются несуществующими и находятся в Боге) не являются неизменными. Платоновские идеи зафиксированы раз и навсегда, это абсолютно неизменные сущности, которые, только воплощаясь в мире в материи, все время воплощаются в немного другом виде в силу того, что материя несовершенна и никогда не может вместить всю полноту идеи. Платоновская парадигма — это вертикальное соотношение: идея всегда лучше и чище, чем ее материальное воплощение. В случае суфизма мы говорим о другом: вещь в Боге всегда соответствует самой же себе, находимой в мире. То есть по мере того, как меняются вещи в мире, они меняются и в Боге.
— А в случае смерти вещи? Она и в Боге умирает?
— Что такое смерть, уничтожение? Смерть, или уничтожение, вещи означает, что эта вещь ушла в Бога и осталась в Боге, она не вернулась в мир. То есть смерть, в том числе человека, это не аннигиляция, не полное исчезновение, а потеря второй половины нашего существования, нашей мирской воплощенности. С точки зрения этой концепции, когда мы умираем, мы просто перешли в Бога и не вернулись в мир.
— Это верно для любой вещи?
— Да, это касается абсолютно любой вещи. Посмотрите, какие интересные следствия из этого вытекают. Например, оказывается, что познание Бога не является какой-то целью, чем-то, чем люди не обладают и к чему им необходимо стремиться. Обычно мистицизм так себе представляют: есть обычные люди, которые Бога не знают, а познание Бога — это какая-то запредельная цель, и надо приложить некие сверхусилия, чтобы ее достичь. Но здесь-то ничего подобного. Мироздание, Бог и мир, так устроены, что каждый из нас ежемгновенно оказывается в Боге, и тем самым мы познаем Бога, — ведь в нем нет инаковости, и в нем любая вещь неотделима от всех остальных.
Но когда мы находимся в мире, мы об этом не помним. Проблема не в том, чтобы познать Бога, а в том, чтобы так заострить свое внимание, чтобы помнить и о второй — божественной — половине нашего существования. Проблема не в том, чтобы достичь того, чего у нас нет, получить то, чем мы не обладаем. Цель суфия (с точки зрения этой концепции) — пробудить свое внимание и помнить о том, что и так есть у всех. Поэтому настоящий суфий, настоящий мистик отличается от обычного человека не тем, что он достиг чего-то, чем другой не обладает, а тем, что он пробудил свое внимание к тому, что есть и у него, и у другого.
— В таком случае как представляется процесс творения?
— Переход из мира в Бога и из Бога в мир, который описывается на языке образов как «дыхание Бога», на кораническом языке именуется в суфизме термином «новое творение» (халк джадид). «Новое творение» — это термин, многократно употребленный в Коране, но в суфизме он используется не в его кораническом смысле, а в том смысле, что творение обновляется каждое мгновение и в каждое мгновение мир является новым, он заменяется полностью. В каждое следующее мгновение мы являемся новым, так сказать, выдохом Бога. В этом смысле творение — это овнешнение Бога, это воплощение Бога, — но это не творение, как оно трактуется в исламской доктрине.
— Как суфии обозначали мгновение? (вопрос из зала)
— Мгновение они обозначали тем же термином, что и мутазилиты — заман фард или синонимичный ему вакт фард («единичный момент времени»). «Единичный» и означает неделимый: абсолютную единицу нельзя разделить. Это тот самый атомарный момент времени, который был у мутазилитов.
Итак, мы увидели, что концепция единства бытия означает совечность мира Богу, что она означает их неотъемлемость друг от друга, что она означает, что все вещи, и люди в том числе, ежемгновенно оказываются в Боге и выходят из него в мир. Что еще она означает, какие еще следствия из нее вытекают?
Эта концепция означает, что весь мир в целом является, как говорят суфии, проявлением Бога, или воплощением Бога, потому что те вещи, которые в мире, и те, которые в Боге, — это одни и те же вещи, только одни с атрибутом существования, а другие — с атрибутом несуществования. В этом смысле мир и Бог — одно и то же. Однако это выражение — «одно и то же» — очень коварно, и нам надо немного остановиться на нем.
Мир и Бог «одно и то же» не потому, что они неразличимы. Наоборот, мир и Бог — двоица, а не единица: мир существует наряду с Богом, а не «растворяется» в Боге. Они «одно и то же» потому, что мир не является иным по отношению к Богу — он является воплощением Бога, и в этом смысле они «одно и то же». Мы можем сказать так: мир и Бог — одно и то же потому, что между ними и связывая их имеется переход: мир переходит в Бога и Бог переходит в мир. Это «одно и то же» перехода, а не «одно и то же» совпадения.
Это верно для мира в целом, и это верно для любой вещи мира. Любая вещь в мире взялась не откуда-нибудь, она пришла в мир из божественной самости. Поскольку, во-первых, в божественной самости, как мы помним, вещи лишены взаимной инаковости, там каждая вещь равна любой другой и между ними нет превосходства, и, во-вторых, в этом мире вещи соответствуют самим же себе, находящимся в Боге, то из этого следует, что любая вещь в этом мире является воплощением Бога. Конечно, воплощением не исключительным: нельзя сказать, что весь Бог воплотился в этом столе или в этом микрофоне, но они — одни из воплощений Бога, одни из ликов Бога. Любая вещь в этом мире является тем или иным воплощением Бога, и чем больше таких воплощений мы видим, тем богаче для нас Бог.
Отсюда вытекает прямое следствие для понимания того, как суфизм относится к вопросу, который в современных терминах мы обозначили бы как вопрос о «свободе совести» — к вопросу о других религиях, о других вероисповеданиях. Истинны ли другие вероисповедания или нет? С точки зрения рассматриваемой концепции, ответ следующий. Во-первых, ислам — это, безусловно, правильное и лучшее вероисповедание. Ибн ‘Араби, как и прочие суфии, вовсе не индифферентен по отношению к религии. Он принимает доктринальный тезис о том, что ислам — это лучшая, последняя, правильная и наиболее полная религия, не подвергнувшаяся порче. Но, во-вторых, признавая истинность ислама как религии, нельзя отрицать истинность никакого другого исповедания. Никакого в буквальном смысле этого слова: не только авраамических религий, не только монотеизма, но и идолопоклонничества и т. п. Ведь любой человек, который поклоняется чему-либо в этом мире, поклоняется не кому иному, как Богу, — но воплощенному в той или иной вещи. Если мы поклоняемся дереву, мы поклоняемся воплощению Бога. А если придет кто-то и скажет: «Ты не имеешь права поклоняться этому дереву, иди вместо этого в мечеть (или в церковь, или в синагогу)», — то такой человек будет действовать против Бога, потому что он будет запрещать мне поклоняться Богу в одном из его воплощений.
Таким образом, если сформулировать кратко, суть в следующем: любое вероисповедание является истинным, но только до того момента, пока оно не отрицает истинность всех других вероисповеданий. Как только, скажем, мусульманин говорит, что любое другое вероисповедание не истинно, он уже впадает в заблуждение. Пусть идолопоклонник поклоняется своему идолу, и он правильно делает, он настоящий служитель Бога, — но только если он не говорит, что все остальные заблуждаются, что неправы все, кто ходит поклоняться не этому дереву, а вон той реке. Твое вероисповедание истинно, но ты не имеешь права отрицать истинность никакого другого.
На языке религиозных символов это выражается таким образом. Тот, кто поклоняется Богу, во время молитвы обращается лицом к Мекке. Это известное положение ислама: во время молитвы мусульманин должен поворачиваться лицом в сторону Мекки, на что и ориентирует михраб в мечети, указывая направление на Мекку. Почему? Потому что там «лик Божий». Но, говорит Ибн ‘Араби, признавая, что там лик Божий, не отрицай, что лик Божий везде. Поворачиваясь лицом к Мекке, признавай, что лик Божий везде, в любом другом месте (есть такой аят: «Куда бы вы ни обратились, везде лик Божий», и Ибн ‘Араби опирается на него).
Таково следствие данной концепции для вопроса о терпимости. Здесь даже слово «веротерпимость» оказывается недостаточным. Ведь терпимость предполагает допущение другого лишь в определенных границах. Даже если это маскируется риторикой политкорректности, как сейчас, все равно подразумевается некая иерархия ценностей. А в суфизме в его ибн-арабиевском варианте предполагается абсолютная истинность любого вероисповедания, без каких-либо ограничений.
В этом смысле для ислама суфизм — это крайнее выражение идеи дозволенности любого исповедания, потому что здесь нет никаких ограничений. И это вторая причина, заставляющая многих рьяных защитников «чистоты исламской веры» так нетерпимо относиться к суфизму. В самом деле, что это за люди, которые говорят: «Верьте так, как вам предписывает ислам, но если хотите — верьте и любым другим образом». Поэтому суфизм и подвергается нападкам со стороны определенного крыла в исламе.
Сказанное схематично и кратко выражает суть суфийской концепции соотношения мира и Бога. Следует добавить к этому один очень существенный момент. Он состоит в следующем.
Бог и мир находятся в соотношении, которое в суфийской философии описывается с помощью категорий «явное» и «скрытое». Это два фундаментальных термина исламской мысли, которые используются в самых разных областях знания, в том числе и здесь. Если Бог является скрытым, то мир — явным. Явное и скрытое — обе эти стороны необходимы, не могут быть одна без другой. Точно так же, как в человеке скрыта его душа и явлено его тело, и оба — и душа, и тело — равно необходимы для совершенства; как поступок создан тем, что нечто скрытое (намерение) переходит в нечто явное (телесное действие); точно так же мыслится соотношение между миром и Богом — как соотношение между скрытым и явным, где одно переходит в другое.
Но должно быть и нечто третье — ведь мы с вами уже научились применять эту парадигму при рассмотрении самых разных вопросов, — что стягивает явное и скрытое воедино. Что соединяет Бога и мир? Что заставляет их быть вместе? Это очень интересный вопрос, и вопрос нетривиальный. Что в нашей картине мира есть, кроме Бога и мира? Что может быть третьим элементом, который стягивает их воедино?
— Время и вечность.
— Но ведь вечность и есть Бог, а время — мир.
— Человек.
— Правильно. Человек — это третий, связующий элемент. Но имеется в виду не просто человек, а то, что в суфизме называется термином «Совершенный человек» (’инсан камил). Это то, что удерживает Бога и мир в состоянии взаимной соотнесенности как скрытое и явное. В каком-то смысле Совершенный человек стоит над Богом и миром, поскольку он обеспечивает их взаимо‑действие и взаимо‑переход; он, собственно, и является процессом этого стягивающего их воедино перехода.
В суфизме в его ибн-арабиевском варианте понимание Совершенного человека очень нетривиальное и, конечно же, выходящее за рамки средневековой картины мира, потому что человек наделяется функцией, которая ставит его выше Бога-и-мира.
Совершенный человек — это метафизическое понятие. Однако предполагается, что есть люди, которые в своем реальном земном существовании достигли такого состояния, когда они воспринимают и свою мирскую, и свою божественную ипостаси, то есть видят обе стороны бытия, и Бога, и мир, в их взаимосвязанности. Эти люди тождественны метафизическому понятию Совершенного человека, и это те люди, которые стоят над Богом-и-миром.
— А какими качествами обладает Совершенный человек? (вопрос из зала)
— Совершенный человек обладает особым даром — видеть вторую сторону нашего существования, что недоступно обычным людям. Но не просто «видеть» в смысле «воспринимать», а «видеть» в смысле «быть». Совершенный человек «вбирает в себя» и свое мирское, и свое божественное существование, обладает ими обоими равно, — в отличие от нас, которые могут распоряжаться только своим земным существованием. Как мы свободны в своем временном, мирском бытии, так Совершенный человек свободен и в божественной ипостаси своего существования и может «распоряжаться» (тасарруф) ею так же, как мы распоряжаемся своим существованием в этом мире.
Но все дело в том, что вещи в Боге лишены взаимной инаковости, они могут становиться одна другой, они не непроницаемы друг для друга, в отличие от того, какими они предстают в мирском существовании. Поэтому Совершенный человек в божественной стороне своего существования обладает доступом ко всем вещам мира, а значит, может распоряжаться ими — так же свободно, как мы здесь распоряжаемся своим телом. Это то, что называют словом химма («энергия»): Совершенному человеку подвластен весь мир.
Далее, поскольку Совершенный человек «реализует в себе» (тахаккук) обе стороны существования, он реализует и взаимный переход между ними — именно он становится «мостиком» между Богом и миром, и на самом деле благодаря ему существует мир — иначе произошло бы «схлопывание» соотношения «явное-скрытое» между Богом и миром, их взаимный переход прекратился бы, мир без остатка влился бы в Бога, не находя выхода наружу, и вместо двоицы «Бог-и-мир» получилась бы абсолютная единица «Бог».
Совершенный человек обладает качеством, которое называется вилайа. Это слово обычно передают термином «святость», хотя оно означает «близость» в смысле особых отношений между покровителем и тем, кто пользуется покровительством. В доктринальном суннитском исламе, который абсолютно эгалитарен, отрицается феномен святости: все люди абсолютно равны перед Богом. В шиизме существует концепт святости, хотя это слово обозначает не то же самое, что слово «святой» в христианстве. В суфизме, в том числе в суннитском, развивается концепция святости, которая толкуется как «близость к Богу». И это не случайно, ведь суфии — это те, кто стоит в первом ряду перед Богом; их близость к Богу означает, что они контролируют обе стороны соотношения между миром и Богом и в этом смысле стоят над этой оппозицией. Бог-то ведь только в одной стороне, мир — в другой, а эти люди оказываются на обоих берегах, они как будто являются мостиком между двумя берегами. Это и есть Совершенный человек, или святой, тот, кто обладает качеством святости.
Концепт святости, как уже говорилось, — это то, что категорически противоречит доктринальному суннитскому исламу, но очень привлекательно для публики. Мусульмане ходят на могилы суфийских шейхов попросить о чудесном вмешательстве, хотя посещение могил ради испрашивания заступничества категорически запрещено доктринальным исламом, ибо обращаться с мольбой можно только к Богу. Бог единственный, так сказать, агент действия в этом мире. В шиизме же концепт святости органично встроен в доктрину, и там посещение могил и гробниц — особый ритуал, прикосновение к святому.
— Что будет, если Совершенный человек исчезнет?
— Я уже говорил об этом. Правда, это вопрос теоретический, потому что он не может исчезнуть, мироздание так устроено. Но если представить себе, что его не станет, то в таком случае исчезнет связь между Богом и миром, процесс «божественного дыхания» прекратится, если говорить метафорически. Это значит, что весь мир уйдет в Бога и останется один Бог. Но это чисто теоретическое допущение, в реальности, говорит Ибн ‘Араби, такого произойти не может: Совершенный человек всегда есть.
— А суфии не рассматривали время, когда человека еще не было на Земле?
— Но ведь мир не имеет начала. Нет временного творения, так что мир безначален, и человек всегда был.
— Процесс смены существования несуществованием и наоборот конечен?
— Если брать мир в целом, то он постоянно переходит в Бога и воплощается вовне, в своем явном существовании, как внеположный Богу. Этот процесс бесконечный, и мир в целом не перестанет существовать. Но каждая отдельная вещь может перестать существовать. В этом нет ничего удивительного, потому что прекращение существования, гибель вещи означает, что в некое мгновение она ушла в Бога и не воплотилась как та же самая вещь.
Более того, любая вещь мира, в том числе и мы с вами, может уйти в Бога (погибнуть) и в это же мгновение возникнуть как любая другая вещь. На наших глазах этот микрофон может превратиться во что угодно…
— В цветок…
— Да, например, в цветок. В устройстве мира нет никакого основания для того, чтобы микрофон продолжал быть таковым. С точки зрения этой концепции, странно, что вещи остаются такими, какие они есть, лишь чуть-чуть меняясь, потому что они, вообще говоря, могли бы становиться любыми другими в каждое следующее мгновение. Ведь причинность действует между божественным и мирским в пределах данного мгновения. Мирское таково, каково божественное, а божественное таково, каково мирское, — они друг друга обусловливают. Это круговая причинность. А в следующее мгновение будет другая причинность между другим состоянием вещи в мире и ею же самой в Боге — они обе изменятся. В любое следующее мгновение любая вещь может стать любой другой.
Поэтому чудеса имеют вполне рациональное и внятное объяснение. Но кто может творить чудеса? Или, если использовать суфийскую терминологию, кто может распоряжаться миром?
— Сверхчеловек.
— Не сверхчеловек, а Совершенный человек. Конечно, это может делать тот, для кого открыты обе стороны — явная и скрытая — мироздания. И Совершенный человек действительно может, как говорит Ибн ‘Араби, как говорят другие суфии, действовать как Бог, то есть он может менять вещи мира. Это и есть та абсолютная власть над миром, которую получает Совершенный человек. Правда, в саму эту концепцию встроены ограничители, потому что, чем более могуществен человек, тем больше он знает, а чем больше он знает, тем больше понимает, что вмешиваться, собственно, некуда, распоряжаться нечем, ибо в любое мгновение каждая вещь мира соответствует самой себе, но находящейся в Боге. Поэтому чем больше «энергия», позволяющая такого рода вмешательство, тем меньше оно осуществляется. Хотя настоящие суфии считали, что обладают способностью изменять вещи, распоряжаться миром и т. п.
— Насколько я знаю, существует сто имен Бога. Девяносто девять из них известны, а сотого имени не знает никто. А Совершенный человек, который настолько близок к Богу, может ли знать это сотое имя? (вопрос из зала)
— Наиболее распространенное в доктринальном исламе представление действительно заключается в том, что у Бога 99 имен. В некоторых изданиях Корана эти 99 имен перечислены на особой странице. Сотое же имя тоже известно — это имя ’аллах, то есть «Бог». Таким образом, есть 99 имен, а сотым является имя ’аллах («Бог»). Собственно говоря, ничего тут неизвестного нет. Я не знаю, откуда происходит та концепция, о которой Вы говорите. Но то, о чем я говорю, — это общепринятая концепция, и она зримо воплощена в исламских четках, которые состоят из трех секций, разделенных между собой, в каждой — по 11 костяшек. Трижды одиннадцать — 33, и если мы проходим весь круг, перебирая все костяшки четок, три раза, то получаем 99. А внизу висит самая большая косточка, которая и соответствует имени ’аллах. Иногда на ней даже написано это слово по-арабски. Поминание Бога является одним из богоугодных дел для мусульманина. Поминая Бога, он перечисляет его имена, перебирая четки, чтобы знать, что никакое имя не упущено.
О тайных именах Бога скорее говорит каббалистическая традиция. В средневековье еврейская ученость и философия процветали в исламском мире, но мусульманам были мало известны. Знаете, это схоже с эффектом тонированных стекол: в одну сторону видно, а в другую — нет. Примерно так было и с еврейской традицией. Еврейские ученые писали научные и философские тексты по-арабски (ведь арабский был тогда языком науки), но еврейскими буквами. (Если речь шла о собственно еврейской традиции, каббале, изучении Талмуда и так далее, то там, конечно, использовался иврит.) Поэтому образованные евреи могли читать по-арабски, и последователи средневековой каббалы знали о существовании суфизма. Однако заметного взаимного влияния эти учения друг на друга не оказали.
— Когда человек умирает, что тогда? Есть ли в исламе учение о перевоплощении? (вопрос из зала)
— Если человек умер, значит, он умер. Никакого учения о перевоплощении в исламе нет. Ислам отрицает учение о реинкарнации. Лишь некоторые из «крайних шиитов» (гулат) верили в перевоплощение душ, но это была очень небольшая группа людей. Было и учение о воплощении Бога в человеке, но оно также осталось изолированным исключением.
— Может ли человек быть святым и не знать об этом? (вопрос из зала)
— Это невозможно. Ведь Вам будет открыта вторая, божественная сторона бытия, и у Вас будет могущество распоряжаться этим миром. Вы не можете этого не знать, знание будет обязательно.
— Может ли быть суфием человек, исповедующий другую религию? (вопрос из зала)
— Исторически это абсурд: суфии всегда были мусульманами, это собственно исламское явление. Но мы живем в абсурдном мире, где высказываются абсурдные мнения и творятся абсурдные вещи. Сегодня на Западе это очень популярная версия: суфизм-де — доисламское, чуть ли не вечное учение, лишь «случайно» связавшее себя с исламом. Это делается лишь для того, чтобы облегчить приток желающих в суфийские кружки, неимоверно расплодившиеся в западных странах, а значит, увеличить и приток денежных средств. Нечто подобное в еврейской традиции делает г-н Лайтман, утверждающий, будто каббала — чисто научное учение, не имеющее сущностной связи с иудаизмом. Обоснованность и цели — те же. Так что, если хотите поиграть в суфизм в подобных кружках, которые есть и в России, — пожалуйста, но если хотите всерьез — тогда придется принять ислам.
— В 1990-е годы шла активная вестернизация нашей культуры, а сейчас большое влияние оказывает Восток. Может ли в результате произойти перекос в другую сторону, в сторону Востока, при поиске нашей национальной идеи? (вопрос из зала)
— Я сомневаюсь в этом, потому что «Восток» в Вашем вопросе выступает как некий символ, а не как реальный Восток. Ведь реальный Восток сам находится ровно в том же положении, в каком и мы с вами, — он находится перед лицом сминающей его западной культуры, в ситуации раскола между носителями традиционной культуры и вестернизированной частью населения. В Индии, например, этот раскол абсолютно очевиден. Это же касается и Китая, где произошел слом многотысячелетней культуры. Вестернизация происходит и в исламском мире. Поэтому опасаться, что они нам что-то навяжут, вряд ли стоит, — им бы для себя найти ответ на этот вопрос. Главное тут — не придумывать сказок про «Восток» и не принимать их за реальность. Собственное мифотворчество может стать реальной опасностью.
В этой части лекции я буду обсуждать вопрос, который вы, наверное, и сами задавали себе, знакомясь с теми или иными образцами исламского искусства. Вопрос этот очень простой: о чем это искусство хочет нам рассказать? Что в нем такого особенного; или, может быть, ничего особенного в нем нет — но почему тогда оно так непохоже на наше?
Говоря попросту, в этом и заключается тот вопрос, который я буду задавать и обсуждать с вами. А если говорить ученым языком, то я попытаюсь погрузить исламское искусство в исламскую культуру; поставить его в контекст этой культуры. Я буду рассматривать исламское искусство не как сумму артефактов. У меня другой подход — от культуры идти к искусству, рассматривать искусство как один из сегментов культуры, один из способов выражения мировоззрения. Моя задача заключается в том, чтобы понять искусство как отражающее, подобно другим сегментам культуры, общие принципы ее построения. Это иной подход, нежели подход искусствоведа. Попытка понять исламское искусство для меня — это попытка понять его как способ смыслополагания, а не как сумму артефактов. Мы будем рассматривать исламское искусство через призму вопроса: насколько оно подтверждает тезис о процессуальности как фундаменте арабо-мусульманской культуры; как проявляется процессуальность в исламском искусстве, и что такое процессуальность в произведении искусства?
В качестве предварительного замечания рассмотрим вопрос: существует ли вообще исламское искусство? Вопрос этот не праздный. Были и есть исследователи, отрицающие существование исламского искусства как чего-то самостоятельного.
Такое утверждение зиждется на двух основаниях.
Первое — ислам как религия против художественного самовыражения. Аргумент тут следующий. Поскольку ислам придерживается принципа строгого единобожия, значит, всякое художественное изображение, которое может претендовать на то, чтобы стать объектом поклонения, должно быть устранено. Часто говорят, что в исламе потому так развита орнаменталистика, что фигуративное искусство запрещено. С одной стороны, это верно, но с другой — нет. Конечно, имеется целый ряд хадисов, в которых осуждается создание изображений, но вместе с тем есть хадисы, из которых следует, что Мухаммед не был против изображений, лишь бы эти изображения не отвлекали верующего от религиозных мыслей. Вопрос этот в исламском праве не был решен окончательно. В самой исламской культуре категорического запрета на создание изображений как общепризнанного не было никогда, а некатегорический запрет, то есть рекомендация не создавать изображения, действительно существовал. Это означает, что исламское право не рекомендует создавать изображения, но за их создание не налагается наказание. Поэтому в реальности фигуративное искусство в исламе существовало. Но какого рода было это искусство?
Здесь мы переходим ко второму возражению против существования исламского искусства. Оно заключается в том, что это искусство несамостоятельно, поскольку было заимствовано из Византии и Ирана и несет следы иноземного влияния. Исламское искусство с этой точки зрения — всего лишь воспринятые иноземные влияния, каким-то образом приспособленные к исламским нуждам.
Обе эти точки зрения на исламское искусство высказывались, причем наиболее активно в конце XIX — начале ХХ века. Однако ХХ век стал эпохой очень активного изучения исламского искусства, временем описания и вовлечения в научный оборот многих значительных памятников исламского искусства, поэтому постепенно это мнение утратило свою популярность. Как философы, так и специалисты-искусствоведы начали задаваться тем вопросом, который я поставил в самом начале: что есть в исламском искусстве такого, что позволяет нам назвать его именно исламским, а не каким-то другим?
В этом смысле наиболее репрезентативна, как мне представляется, знаменитая статья Л. Масиньона, выдающегося французского востоковеда прошлого века, которая получила отклик и в нашем исламоведении[1]. Я приведу несколько цитат из этой работы и прокомментирую их.
Масиньон говорит:
Мы рассмотрим отдельные виды искусства, обращая внимание не на детали техники каждого из них, а на то особенное, чем его наделил мусульманин и что привлекает наш взгляд, когда мы рассматриваем убранство мечети с пустой нишей, к которой обращена молитва, когда мы рассматриваем рисунок ковра, столь отличного от западного, когда мы слушаем мелодию какой-то песни или когда мы размышляем над строением какого-нибудь стихотворения.
Вот в чем исследовательский интерес: не то особенное, что отличает разные произведения искусства одно от другого, а то, чем все их «наделил мусульманин» и что делает их произведениями именно исламского искусства.
Далее он говорит:
Имеются специфические черты, которые столь многие из нас смутно ощутили при посещении мусульманских стран, но не смогли рационально и связно объяснить (курсив мой. — А. С.).
Очень интересное признание, тем более интересное, что сделано оно маститым исламоведом. Кстати говоря, эту статью Масиньон написал в начале своей научной карьеры, когда был еще молодым человеком, но в конце своей научной карьеры он выпустил в свет другую статью (она не была переведена на русский язык), где фактически повторил те же тезисы.
Значит, есть что-то специфическое в исламском искусстве. И очень важно, что профессиональный исламовед говорит, что есть что-то, но это «что-то» очень трудно схватить. Что это такое? Каждый из нас может оказаться в такой же ситуации или поставить себя в такую же ситуацию — пойти в музей, пролистать альбомы или поехать в одну из исламских стран. Кстати, в Санкт-Петербурге есть замечательная мечеть, построенная в иранском стиле. Можно посмотреть на ее орнаменты, особенно на дверях, — не на тех, через которые входят молящиеся, а на закрытых. Они выполнены из металла, но фактически воспроизводят знаменитые каирские двери классического периода. В Каире очень любили делать деревянные двери с точно таким же орнаментом, это классический исламский орнамент. Посмотрите внимательно, что там есть особенного, делающего этот орнамент именно исламским, а не каким-то другим?
Следующий тезис Масиньона:
Поскольку арабское искусство все же существует, постараемся выяснить, откуда оно возникло. Мы увидим, что его возникновение обусловлено отнюдь не каким-то иностранным влиянием.
Масиньону вторит другой автор — Сейид Хусейн Наср:
Сейчас хорошо известно, что сасанидские и византийские технические приемы и образцы воспроизводились в мусульманской архитектуре, а римские — в планировке городов, и что сасанидская музыка была усвоена музыкантами аббасидского двора. Подобное выяснение взаимосвязей и взаимовлияний разных культур и эпох представляет несомненный интерес для истории искусства, однако оно ни в коей мере не открывает нам происхождение исламского искусства[2].
С.Х.Наср — один из ведущих исламских философов современности. Сейчас он живет в США, эмигрировал из Ирана после исламской революции, а до нее возглавлял Академию философии в Иране. Наср написал книгу «Исламское искусство и духовность», которая получила известность. В ней обсуждается и вопрос о том, что в исламском искусстве делает его именно исламским, и тема иностранных влияний и заимствований:
Исламское искусство, как и любое другое священное искусство — не просто использованный материал; это то, что сотворено из этого материала коллективным религиозным чувством. Никто не поставит знак равенства между византийской церковью где-нибудь в Греции и древнегреческим храмом, даже если при постройке церкви были использованы каменные блоки, прежде составлявшие храм: эти камни превратились в элементы постройки, принадлежащей религиозному универсуму, весьма далекому от древнегреческого. Точно так же мечеть Омейядов в Дамаске наполнена той духовной атмосферой, которая является безусловно исламской совершенно независимо от какой бы то ни было истории происхождения данного здания.
Действительно, материал церкви мог использоваться для возведения мечети. Более того, зачастую церкви не разрушали, чтобы строить на их месте мечети, а просто приспосабливали под мечеть. Один из самых известных тому примеров — Ая София в Стамбуле: к прекрасному византийскому храму пристроили минареты, и получилась не менее красивая мечеть. Так что архитектура осталась та же самая, византийская. Но что там изменилось? С точки зрения Насра, имеется некая особая исламская духовность, которая делает произведения исламского искусства именно исламскими.
Я не придерживаюсь этого мнения — но не потому, что отрицаю исламскую духовность, а потому, что думаю, что есть другой способ понять, что же есть в исламском искусстве такого, чего нет в неисламском.
Вот еще одно мнение одного из современных ученых — израильского искусствоведа Евы Байер, которая занимается исламским орнаментом. Она написала на сегодняшний день, пожалуй, одну из наиболее полных работ по исламскому орнаменту. Основываясь на изучении истории исламского орнамента, Байер утверждает, что все его мотивы действительно пришли в ислам из других культур, и в этом смысле в исламском искусстве нет ничего своего:
Лежащие в основании исламского орнамента мотивы заимствованы либо из иранской и древних ближневосточных культур, либо из поздней античности, откуда они были перенесены в исламский мир при посредстве византийских и коптских памятников. Относительно несложно проследить истоки отдельных мотивов, будь то растительные, животные или геометрические, а сами эти мотивы, несмотря на постоянные стилистические изменения, узнаваемы на протяжении длительного периода[3].
Таким образом, если мы берем материал, то не находим там ничего своего: все мотивы чужие. Но обратим внимание на слова, которые следуют непосредственно за этой констатацией:
Вместе с тем уже на ранних стадиях заметен новый подход к орнаменту, постепенно изменивший его характер и придавший ему отличительные черты (курсив мой. — А. С.).
Опять мы имеем констатацию ученого, специально занимавшегося исламским орнаментом: есть отличительные черты. Однако в чем именно состоят эти «отличительные черты», автор не говорит. Е. Байер утверждает, что они есть, но какие именно — об этом фактически ничего не сказано.
Вернемся теперь к Л. Масиньону. Он ищет основы исламского искусства в исламском мировоззрении; он, как и мы с вами, погружает исламское искусство в исламскую культуру:
Мусульманское искусство строится на базе определенной теории вселенной, основанной на том представлении о мире, которое упорно отстаивали все ортодоксальные мусульманские философы, не подвергшиеся греческому влиянию… Согласно этой теории, в мире нет форм в себе, образов в себе, один только бог имеет постоянное бытие.
Под «ортодоксальными мусульманскими философами» (странное выражение: философа трудно представить ортодоксальным) Масиньон подразумевает мутазилитов и ашаритов и совершенно правильно говорит о них как о «не подвергшихся греческому влиянию», подчеркивая их самобытность, автохтонность. Обратим внимание на последнюю фразу: Масиньон считает, что исламское искусство таково, что в нем нет форм в себе и образов самих по себе. Здесь он говорит о мутазилитских философских построениях. Правильно ли он интерпретирует их содержание — вопрос другой, но важен вывод, который он делает: отсутствие форм и образов в себе. Именно это Масиньон считает отличительной чертой также и исламского искусства:
В искусстве мы видим, что это отрицание постоянства образа и формы является основой тех специфических черт, которые столь многие из нас смутно ощутили при посещении мусульманских стран.
Ощущали ли вы нечто подобное? Вспомните какой-нибудь исламский орнамент — есть ли там образы в себе? Что такое образ в себе или форма в себе? Это такая форма или образ, которые вы можете вычленить и созерцать, так сказать, погружаться в него, проникать в него и схватывать его идею. Как в известном совете, как сделать прекрасную статую, помните?
— Отсечь все лишнее.
— Да, надо просто отсечь все лишнее. А что там является лишним? Все, что затемняет идею, воплощенную в этом образе. Идею, конечно, не в обиходном, а в платоновском смысле. Созерцая, например, роденовского «Мыслителя», к какой идее мы приобщаемся? Мы воспаряем над материальной оболочкой, постепенно постигаем саму чистую идею мыслителя, погруженности в мысль и т. д. Вот это и есть образ в себе или форма в себе, в которые мы можем погрузиться и воспарить к миру идей, отвлекаясь от нашего мира.
Так вот, в исламском искусстве ничего такого нет, говорит Масиньон, — там нет таких образов, которые передают идею. Вот развитие этой мысли:
Нет форм и нет фигур. Там, где греки приходили в восторг при виде, например, восьмигранника, в котором для них воплощалась, помимо числа «восемь», также и структура, сама по себе наделенная красотой, а не простое восьмикратное повторение единицы, там, где они были прежде всего геометрами, восхищавшимися многогранником и сферой, мусульманин считал, что нет ничего, кроме совокупности чисел, что нет ничего, кроме единиц, сгруппированных на одно мгновение богом по пять, шесть, семь, восемь элементов, что нет геометрических фигур, а есть лишь соединение атомов в каждый данный момент. Линия для него — не что иное, как многократно повторенная точка.
Нет никакой формы, никакой фигуры: есть просто набор, лишенный внутренней связности. Вот о чем говорит Масиньон, в этом его идея: исламское мировоззрение является атомизированным. Это главная мысль его статьи. Ведь разрушение формы, разрушение образа происходит при атомизации, когда нет единого — того, что приводит все это многообразие к какому-то единству. Форма, образ, идея — это то, что приводит множественность к единству. Мы именно поэтому созерцаем материальное как что-то единое и воспаряем к миру идей, где созерцаем чистую идею. А в исламском искусстве этого нет, там все атомизировано, есть просто некоторый набор, не сведенный в единый образ. И поэтому образ не представлен нам художником для того, чтобы мы его созерцали, — вот что говорит Масиньон.
В мусульманской архитектуре мы наблюдаем геометрические формы, но они открыты: перекрещивающиеся многоугольники, дуги разного радиуса. Именно это демонстрирует арабеска…
В чем же заключается идея арабески? Говорят, что она в бесконечном поиске единства…
Здесь Масиньон подходит непосредственно к орнаменту. Искусствоведами высказано мнение о том, что один из принципов построения исламского орнамента — это то, что они называют «боязнь пустоты». Если вы посмотрите, как строится исламский орнамент, то обнаружите, что в нем никогда не бывает пустого места, фона — орнамент заполняет все. В этом смысле в нем нет законченности, потому что для того, чтобы получить нечто законченное, нужно, чтобы был фон, если речь идет об изображении на плоскости. Должна быть граница картины, внутри которой вы можете поместить законченную фигуру. Исламский же орнамент не имеет границы, которая бы его сдерживала, оконечивала, он всегда стремится «выскочить» за ее пределы.
Об этом и говорит Масиньон:
Исходя из этих основополагающих принципов мусульманской теологии в описании вселенной, мы наблюдаем, что арабеска в архитектуре — это по своей сущности разновидность бесконечного отрицания замкнутых геометрических форм, мешающего нам созерцать (как то имеет место в греческой геометрии) красоту круга самого по себе, красоту многоугольника самого по себе… (курсив мой. — А. С.).
И вот заключительный аккорд:
Надо, чтобы наше воображение не задерживалось на замкнутых формах, а дробило изображения и выходило за их пределы по примеру арабского письма.
Такова точка зрения Масиньона на идею исламского искусства. Давайте теперь посмотрим на это изображение:
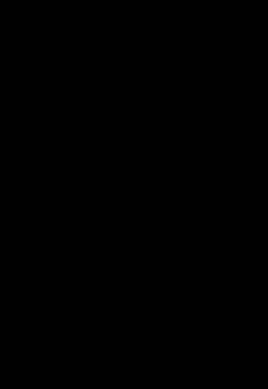
Рис. 1. Последняя страница Корана (центральная часть). Марокко, 1568
Это очень типичный исламский орнамент. Посмотрите: где здесь законченная форма? Давайте последуем взором вдоль любой линии. Никакая линия не образует законченную форму. Это во-первых. А во-вторых, любая линия, как правильно говорит Масиньон, стремится выскочить за пределы изображения. Посмотрите еще раз внимательно. Этот орнамент создан в Марокко, на западе исламского мира, но он очень типичен, то же самое можно увидеть и в Каире, и в Иране — в самом центре и на востоке исламского мира.
А вот пример иранского орнамента:
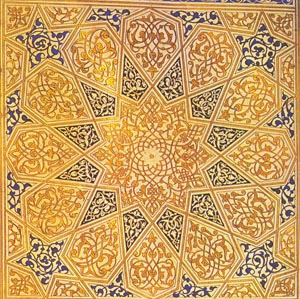
Рис. 2. Фронтиспис 23-й части Корана. Автор — Абдалла Мухаммад ал-Хамадани, 1313
Здесь то же самое: где здесь замкнутые формы? Каждая из линий продолжается бесконечно и куда-то уходит, куда-то убегает. Если вы попытаетесь охватить это изображение одним взглядом, то есть сразу, целиком, что вы схватите? Пожалуй, одну пестроту. Вы не поймаете здесь готовую форму. Масиньон в этом смысле прав, как мне кажется.
А вот пример оформления Корана из Валенсии XII века:
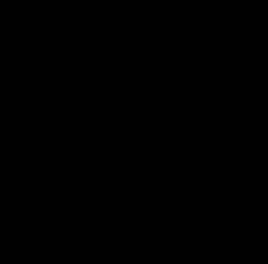
Рис. 3. Последняя страница Корана (центральная часть). Валенсия, 1182/83 г.
Здесь все то же самое. По краям — стилизованное арабское письмо (здесь записана шахада — формула исповедания веры), а остальное — орнамент, в котором все течет, переплетается, куда-то уходит. Нет здесь никакой формы. Мы можем вслед за Масиньоном возопить: покажите мне многоугольник сам по себе, дайте мне чистую форму, которой бы я любовался, созерцая ее красоту, ее геометрическое совершенство! Ведь из чего, собственно, возникла геометрия как теоретическая наука? Конечно, из такого созерцания. Масиньон в этом абсолютно прав. А здесь этого нет: здесь как будто специально все формы раздроблены. Посмотрите: линии идут одна под другой, переплетаясь, и взгляд теряется.
— Но есть квадрат.
— Верно, хотя даже этот квадрат содержит плетение, как будто размыкающее его. Но квадрат — не часть изображения, это — рамка листа. Это даже не граница изображения: если говорить о его границе, то это окружность — но опять-таки не правильная, а образованная переплетением линий.
Правильные круги и квадраты действительно встречаются в исламских изображениях, но они, как правило, не являются самим изображением ― это всегда его внешняя, материальная граница, просто физическая рамка. И, как правило, орнамент выстроен так, что он пытается прорвать эту границу, чтобы выскочить за нее.
Для сравнения взглянем на гравюру Дюрера:
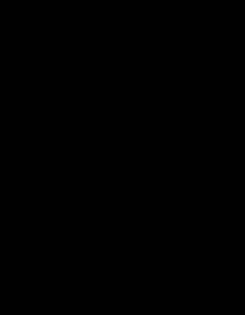
Рис. 4. Плетеный орнамент. А. Дюрер (ок. 1500)
Здесь тоже все переплетено одно с другим, причем переплетено намеренно и так, что не распутаешь. Но посмотрите:
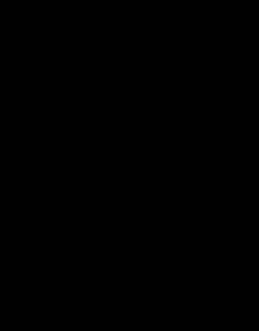
Рис. 5. Визуализация форм на Рис. 4
здесь правильные геометрические фигуры, и взгляд сразу видит их, мгновенно схватывая. Различимы и детали:
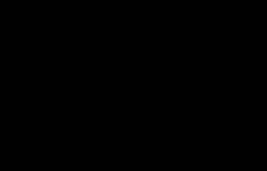
Рис. 6. Фрагмент Рис. 4
совершенно явные крест, круг и др. Переплетение очень сложное, узор витиеватый, но сделан так, что глаз сразу выхватывает формы: плетение не скрывает, а подчеркивает красоту формы самой по себе.
Почему я говорю об этом? Арабский орнамент — это тоже плетение; но дело не в самой по себе технике исполнения орнамента. Ведь может быть плетение, как у Дюрера, но такое, которое не скрывает форму и не разрушает ее, а лишь подчеркивает и усложняет, так что форма сама по себе сквозь это усложнение все равно видна. Плетение орнамента в данном случае — всего лишь технический прием, цель которого — создать определенный эстетический эффект, но он вовсе не затеняет то, о чем говорит Масиньон: он не затеняет форму саму по себе.
Рассмотрим кельтское изображение:
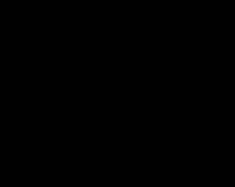
Рис. 7. Иллюстрация рукописи VIII века из библиотеки Санкт-Галленского собора
Кельтские орнаменты очень любопытные и сложные, увлекательные — кельты тоже любили все заплетать. Но если присмотреться, то легко проследить эти узоры, «расплести» все обратно. Плетение и здесь — не более чем усложнение формы, и форма этим усложнением не отрицается. Плетеный орнамент не отрицает форму и не разрушает ее.
Поэтому приведенные примеры европейского орнамента не являются контрпримерами: хотя в них используется, как и в исламском орнаменте, плетение, но там есть и форма. Именно поэтому это искусство европейское, а не исламское.
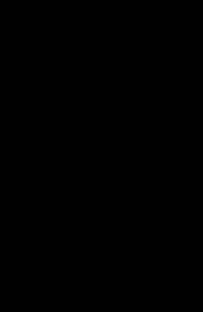
Рис. 8. Орнамент в мавританском стиле. Антверпен, середина XVI века
Этот орнамент, как видим, выполнен в мавританском стиле, и, конечно, подражание пыталось сохранить очарование арабского оригинала. Мне кажется, однако, что в таком орнаменте, который является сознательным подражанием, форма все равно легко «вылезает» наружу (мы видим здесь четыре квадрата, квадрат в центре), чего не случается в исламском орнаменте.
Вот еще один орнамент в мавританском стиле:

Рис. 9. Орнамент в мавританском стиле. Париж, 1530
И здесь — вполне правильные формы.
Обратите внимание на еще одну вещь. Посмотрите на центральную точку. В европейских подражаниях исламскому орнаменту, не говоря уже о собственно европейских орнаментах, центральная точка практически всегда закрыта, она прорисована. Если же мы вернемся к Рис. 1–3, то увидим, что центральная точка если и обозначена, то «просто так», она не является частью орнамента, и сам орнамент ее не захватывает. Орнамент не исходит из центра, из центральной точки. Посмотрите на Рис. 1: здесь много центров, но каждый из них, хотя и закрыт фигурой, не является точкой, из которой выходит изображение.
Это, кстати говоря, не случайно. Тот же Наср говорит о том, что в исламской архитектуре, в планировке города пространство площади не создается предметом, который стоит в центре, в отличие от того, что имеет место на Западе. Возьмите площадь перед Зимним дворцом. Известно, что в центре стоит и что «держит» весь ансамбль; остальное обрамляет, выстраивается вокруг того, что находится в центре. Так же в церкви центром является алтарь, вокруг которого все происходит. В исламской мечети нет центра. Единственная известная центрированность — это хождение вокруг Каабы, но это исключительный случай. Исламские архитектурные пространства не созданы вокруг предмета, который бы занимал центр, — а центр в них всегда создан окружением, так же, как здесь (Рис. 1–3, 13): пересекающиеся линии обозначают центр, но не занимают его и не исходят из него. Точно так же и в исламской архитектуре центр площади оказывается пустым. Это очень интересно, и если вы посмотрите соответствующий иллюстративный материал, то увидите, что эта закономерность действительно подтверждается.
А вот для контраста орнамент, который создан не как сознательное подражание исламскому орнаменту (хотя какие-то мотивы, может быть, здесь и встречаются):
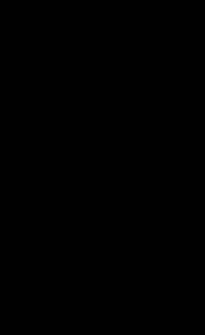
Рис. 10. Орнамент, используемый в полиграфии. Мюнхен, 1839
По-моему, правота Масиньона вполне очевидна. Здесь, конечно, законченные формы, формы сами по себе, хорошо видны, хорошо считываются, и не надо особенно долго стараться и вглядываться, чтобы их увидеть, в отличие вот от этого:
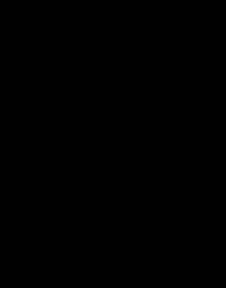
Рис. 11. Фрагмент страницы из Дивана Касима. Иран, 1458
Где здесь легко считываемые формы? Наоборот, ваш взгляд будет прослеживать каждую отдельную линию, но не схватит целостную форму. Хотя это уже XV век, Иран, усложненное искусство, но, по-моему, здесь хорошо прослеживаются все те закономерности, о которых говорил Масиньон.
Так в чем же заключается ответ на наш вопрос о том, что делает исламское искусство исламским?
Масиньоновское объяснение сводится к тому, что исламское сознание не способно к восприятию целостных форм, и поэтому оно их не воспроизводит и в искусстве. Само по себе это утверждение является негативным. Может быть, исламское искусство этим и отличается (и я думаю, это так) — в нем нет законченных образов или форм. Но что оно делает? Если оно просто чего-то не делает — тогда это не искусство. Оно должно что-то делать, как-то передавать свое послание.
Я предложу теперь свой ответ на этот вопрос.
Начну с общеизвестного, установленного искусствоведами факта: у любого исламского орнамента, который мы видим как нарисованный или прорисованный (я имею в виду геометрический орнамент), всегда есть точная основа. Судя по всему, эти орнаменты строились таким образом. Сперва делался очень точный геометрический чертеж с помощью циркуля и линейки, сложная сетка вроде этой:
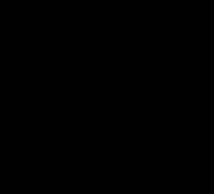
Рис. 12. Михраб в селе Искодар (Средняя Азия). Геометрическое построение верхнего квадратного панно по С. Хмельницкому
Эта, правда, довольно простая, но есть и гораздо более сложные варианты. Но тем не менее суть мы можем уловить. Видите, есть центр, который, кстати говоря, не прорисован: линии, пересекающиеся в центре — это реконструкция; это, совершенно очевидно, центр симметрии. Дальше строится очень сложный геометрический чертеж, который является основой для дальнейшего построения орнамента. Этот чертеж лежит за орнаментом — он скрыт от взгляда, не прорисован, но всегда стоит за любым реально нарисованным орнаментом.
Правда, мы не имеем текстуальных подтверждений того, что это действительно делалось так. До нас не дошли трактаты, в которых описывалась бы технология построения геометрической основы и затем ее прорисовки. Но, судя по всему, дело обстоит именно так. Такие реконструкции были созданы для многих исламских орнаментов.
Итак, оказывается, что исламский орнамент таков, что за его явным — за прорисованным, явленным нашему взору и прямому восприятию — планом стоит скрытый план — та геометрическая основа, которая послужила источником его создания. Она никогда не прорисовывается явно, она стоит за прорисованным планом орнамента. И та задача, которую орнамент предлагает восприятию, состоит в том, чтобы эту геометрическую основу восстановить. То, что реконструировано на Рис. 12 в качестве геометрической основы, и есть, по-видимому, то, что зритель, созерцающий орнамент (если он принадлежит данной культуре, если он привык к этому), видит за явным, прорисованным.
И если Масиньон, глядя на исламский орнамент, замечает только отсутствие готовых форм (и он прав в том смысле, что в явленном нет таких готовых форм), то зритель, который воспитан в исламской культуре, который погружен в эту культуру, за явно прорисованным орнаментом видит как раз совершенную и полную геометрическую основу, которая послужила источником этого орнамента. И чем орнамент более сложный, то есть чем меньше в нем готовых форм (именно того, о чем так сокрушается Масиньон: нет готовых форм), чем более этот орнамент сложный, чем он более раздробленный, тем больше усилий требуется для того, чтобы найти эту совершенную геометрическую основу, которая стоит за явно прорисованным, и тем большее эстетическое удовольствие и наслаждение получает зритель, делая это: тем больший эстетический смысл вложен в такой орнамент. Все получается с точностью до наоборот: Масиньон, подходя с позиции западного зрителя, с его эстетическими ожиданиями, сформированными западным искусством, ищет готовые формы, но чем меньше он их находит, тем больший эстетический заряд несет это произведение для зрителя, который воспитан в исламских традициях восприятия искусства.
Суммируем. Восприятие исламского орнамента оказывается процессом, а еще точнее — процессуальным переходом от явленного плана к скрытому и наоборот. Такой процессуальный переход, выраженный в общем плане как захир-батин‑переход, составляет главный архитектонический принцип исламской культуры и, будучи воплощен в исламском искусстве, делает его органической частью этой культуры.
Таков один из возможных вариантов понимания эстетического восприятия как перехода от явленного к скрытому. В этом переходе, восстановлении скрытого и заключается эстетический эффект, который дает исламский орнамент. Но есть и другой вариант такого перехода между одним планом и другим: речь идет о том, что этот переход осуществляется между двумя частями, между двумя фрагментами явленного, прорисованного произведения.
Я предлагаю вам обратить внимание на следующее свидетельство Ибн Джубайра[4]. Это знаменитый путешественник, объездивший почти весь исламский мир. Описывая свои впечатления от посещения ал‑Байт ал‑мукаррам, то есть Каабы, он сообщает, что стены помещения и пол дворика
покрыты мрамором прерывистых цветов… который прилажен в удивительном порядке, чудесно подобран, редкостного мастерства, прекрасной инкрустации и цветопреривистости…
«Цветопрерывистость» — точный термин, именно так сказано в арабском оригинале. Ибн Джубайр делает недвусмысленный акцент на прерывистости цвета, которая упомянута дважды: цвет все время другой, он все время меняется. Ибн Джубайр продолжает:
…замечательно составленный и распределенный. Когда видишь все эти разнообразные изгибы, пересечения, круги, шахматоподобные фигуры и прочее, красота их приковывает взгляд, как будто они пускают смотрящего бродить по разноцветным разостланным цветкам.
А вот иллюстрация, которая взята совершенно из другой области, но которая очень хорошо соответствует этим словам:
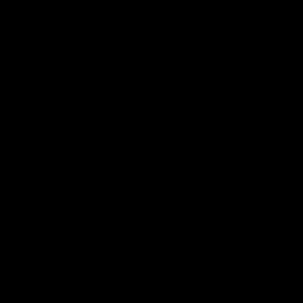
Рис. 13. Последняя страница Корана, 1729 (Марокко)
Это иллюстрация Корана, она выполнена в классическом стиле. Вот вам цветопрерывистость: когда вы следуете взглядом за линией, то мало того, что линия сама по себе не образует никакую законченную фигуру, так она еще как будто изламывается, потому что меняет свой цвет. Этот излом цвета — переход из одного цвета в другой — подчеркивает, что линия не продолжается, она прерывается. И когда вы воспринимаете ее, пытаетесь постичь, созерцать ее, вы должны схватывать ее не сразу, одномоментно (как мы, вообще говоря, привыкли схватывать предъявленное нам сразу), а отделить друг от друга два или больше планов, посмотреть, как они сочетаются, как сополагаются один с другим. Здесь уже речь идет о том, что скрытым и явленным (или тем, что сначала, и тем, что потом) являются два (или больше, чем два) фрагмента прорисованного произведения.
И вот заключительная цитата. Ал-Мукаддаси[5], знаменитый географ раннего периода, описывает великолепие мечети Омейядов в Дамаске. Мы знаем, что мечеть Омейядов построена по римским образцам: строгий, квадратный двор с колоннадами и т. д. Это прямой пример заимствования иноземных строительных и архитектурных приемов, влияния иноземного искусства. Но смотрите, на что обращает внимание ал-Мукаддаси:
Одно из самого удивительного здесь — как подобран мрамор прерывающихся цветов, каждая полоска к своей напарнице…
т.е. полоска одного цвета и полоска другого цвета — полосы разного цвета, которые словно играют одна с другой; и дальше ключевая фраза:
…если бы мудрец приходил сюда на протяжении целого года, он бы каждый день находил новый узор и новый узел.
Таким образом, эта расцвеченность и разноцветность, которая для масиньоновского восприятия ломает форму и мешает созерцать форму саму по себе, для исламского восприятия, наоборот, — самое главное, потому что создает эффект дву‑плановости этого произведения искусства. На этой двуплановости, на переходе из одного плана в другой и построен, по-видимому, эффект эстетического восприятия исламского орнамента.
[1] Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов // Арабская средневековая культура и литература : сб. статей зарубежных ученых. М. : Наука, главная редакция Восточной литературы, 1978. С. 46–59. Откликом на нее стала статья: Сагадеев А. В. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского средневековья (по поводу одной типологической концепции) // Эстетика и жизнь. М. : Искусство, 1974. Вып. 3. С. 453–488. Разбор аргументов сторон см. в: Смирнов А. В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры : Семиотика и изобразительное искусство. М. : ИФРАН, 2005. C. 110–122.
[2] Nasr S. H. The Relation between Islamic Art and Islamic Spirituality (Introduction) // Nasr S. H. Islamic Art and Spirituality. Albany: SUNY Press, © 1987. P. 3–14.
[3] Bayer E. Islamic Ornament. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.
[4] Ибн Джубайр (1145, Валенсия — 1217, Александрия) — известный магрибинский писатель и путешественник. Описанные в его «Странствии» (Рихла) события произошли в 1183–1185 гг., когда он посетил Египет, Джидду, Мекку, Медину, Ирак и Сирию.
[5] Ал‑Мукаддаси, Шамс ад‑Дин (X в.) — выдающийся географ своего времени, предложивший в своем основном труде Ахсан ат‑такасим «Наилучшее деление» концепцию географической науки, основанную на новом принципе классификации территорий.