| Статья
написана в соавторстве с Н.Ю.Чалисовой
и опубликована в книге: Сравнительная
философия. М., Изд. фирма "Вост. лит-ра"
РАН, 2000, с.245-344
(с) Н.Чалисова, А.Смирнов 2000, 2001 |
|
| Статья
написана в соавторстве с Н.Ю.Чалисовой
и опубликована в книге: Сравнительная
философия. М., Изд. фирма "Вост. лит-ра"
РАН, 2000, с.245-344
(с) Н.Чалисова, А.Смирнов 2000, 2001 |
|
Поэтика — органичная часть того комплекса знаний, который в средневековой мусульманской мысли именовался "науками о языке". В целом филология как дисциплина включала[1] грамматику (нахв), риторику (‘илм ал-байан, ‘илм ал-ма‘ани) и поэтику (‘илм ал-бади‘)[2]; с теми или иными вариациями, частичными добавлениями или частичными изъятиями, эти науки входили и в дисциплину, именовавшую себя собственно "поэтология", или "критика поэзии" (накд аш-ши‘р). Исламская поэтология поэтому базируется (во всяком случае, в части, касающейся рассмотрения "приемов поэзии", связанных с организацией "смысла" — ма‘нан) непосредственным образом на положениях, которые не являются собственно поэтологическими в тесном смысле этого слова. В нижеследующем изложении нас будут интересовать скорее общефилологические тезисы в их поэтологическом преломлении; эти фундаментальные положения, как мы увидим, вплетены в суждения критиков поэзии.
Эта непосредственная связь дает о себе знать уже в определении поэзии. Один из выдающихся персоязычных представителей интересующей нас науки, Шамс-и Кайс пишет: «“Поэзия” в изначальном языковом [значении] — это знание, а также уразумение смыслов путем правильного предположения, размышления и приведения прямых доказательств, а терминологически это речь задуманная [как поэзия], упорядоченная, передающая значения (ма‘нави), мерная, повторяющаяся, равновеликая, конечные харфы которой подобны друг другу»[3].
Определение дано согласно традиции арабо-мусульманских наук, которые вводят понятие через его "смысл в языке", который затем "приспосабливается", делается "пригодным" для использования в какой-то конкретной науке. Заметим, что речь не идет об "уточнении", поскольку в "языковом смысле" не видится, собственно, никакой неточности или размытости. Арабский "термин" — мусталах — не определяет, не проводит границу (terminus), а приспосабливает: таков и смысл самого слова (корень с-л-х, от которого образовано понятие, переводимое словом "термин", передает именно смысл "пригодности"), и суть процедуры выработки терминологии. Как правило, арабская наука устанавливает содержание понятий так, что "общеязыковое" их звучание не диссонирует с "приспособленным" к использованию в конкретной науке. Суть понятия поэтому раскрывается не только в специальном терминологическом разъяснении его смысла, но равно и в общеязыковом толковании, составляющем основу для первого.
Общеязыковое звучание понятия "поэзия" (ши‘р) адресует нас как к базовому к понятию "знание". «Ши‘р» — это такой тип знания, который можно было бы назвать ведением; «поэт» — ведун, человек, "чующий" "смыслы". Понимание ведения — непосредственного проникновения — как сути или, во всяком случае, истока поэтического творчества обще для многих культур. В отношении того, что именно ведает поэт, в данном случае вряд ли можно высказаться с той же определенностью. Ни общеязыковое, ни собственно-научное разъяснения слова "поэзия" не сообщают нам о ведении вещей; в том и другом случае речь идет о знании "смыслов" (ма‘анин). Что такое "смысл" (ма‘нан), ведением и особым искусством выражения которого отличается поэт? Наши дальнейшие рассуждения и будут по сути попыткой ответа на этот вопрос.
Понимание поэзии как ведения смыслов, о котором зашла речь, дано в русле того, что можно — с определенными оговорками — назвать собственно-исламской традицией поэтологии, которая, как было отмечено, непосредственно связана с комплексом филологических наук, разрабатывавшихся арабскими и другими исламскими учеными. Вопрос о том, насколько арабо-мусульманская филология в целом обязана наследию античности и насколько она является плодом самостоятельного творчества исламских ученых, достаточно сложен и составляет отдельный предмет исследования[4]. В том, что касается интересующего нас предмета — поэтологии, — можно, кажется, с достаточной долей уверенности утверждать, что античное наследие не было воспринято как безусловная база для построения собственных теорий. Вряд ли будет ошибкой сказать, что классическая исламская культура менее всего страдала ксенофобией; благодаря широкому переводческому движению классические тексты античности были хорошо известны арабским интеллектуалам (иногда существовало более одного варианта их перевода), и отторжение тех или иных элементов античной мысли всякий раз имело совершенно определенное основание[5]. "Поэтика" Аристотеля была одним из текстов Первого Учителя, на протяжении всего классического периода развития исламской науки входивших в поле зрения ученых и философов. Более того, существовала традиция комментирования этого произведения; столпы арабоязычного перипатетизма, ал-Фараби, Ибн Сина и Ибн Рушд, нашли необходимым высказаться по поводу этого текста[6].
В данном контексте для нас интерес тот факт, что сосуществование двух традиций осмысления сути поэзии, античной (текст "Поэтики" и тесно привязанные к нему комментарии) и собственно арабо-мусульманской (ал-Джурджани, Ибн Рашик, ас-Саккаки, Шамс-и Кайс, если ограничиться только некоторыми из наиболее известных имен), лучше всего может быть охарактеризовано как параллельное[7]. Дело, кажется, обстоит так, как если бы авторы, принадлежащие двум традициям, не замечали сказанного своими коллегами и не считали необходимым отреагировать на это. Такое не-замечание высказываемого другой традицией по поводу начала (вопрос о том, чем является поэзия) оказывается тем более красноречивым, что в отдельных более частных вопросах можно обнаружить весьма существенные взаимные связи и заимствования, когда арабо-мусульманская поэтология использует положения аристотелизма[8] или комментаторы перипатетической традиции пользуются некоторыми терминами, выработанными арабо-мусульманской наукой, вместо принятых транслитераций и переводов греческих понятий[9]. Дело совершенно не в том, что одна или другая традиция не хочет воспринять сказанное своими партнерами; дело, очевидно, в том, что она этого не может сделать (речь, напомним, пока что идет только о понимании сути поэзии). Как замечает один из авторов этой статьи, говоря о путях развития персидской поэтики, лишь к ХV в. произошла «как бы встреча двух типов определений» поэзии, «примеры чему можно найти в сочинениях Хусайна Ва‘иза Кашифи и Джами, рассматривающих обе точки зрения. При этом ‘Абдаррахман Джами “заглядывает” в далекое прошлое, замечая, что “поэзия в понимании древних мудрецов — это прежде всего речь, основанная на воображении и фантазии”. Далее гератский старец отводит “подобающее место” филологам арабской школы: “Более поздние ученые берут во внимание лишь метр и рифму. И вообще, большинство принимает во внимание лишь метр и рифму”. Итог у Джами таков: “Итак, поэзия — это метрическая рифмованная речь, наличие воображения или отсутствие его, истинность или ложность понятий в ней не столь важны”»[10]. Заметим, что определение, к которому приходит Джами, скорее эклектично, нежели синтетично; признание "неважности" воображения (один из существенных элементов поэзии, согласно перипатетической традиции) и отсутствие внимания к гносеологическому анализу поэтической речи сближают Джами скорее с исламской, нежели античной традицией поэтологии. По поводу разбираемого нами определения поэзии Шамс-и Кайса можно сказать, что в нем «не затронуты два главных вопроса, волновавшие ученых-философов: роль воображения в поэтическом творчестве и наличие “прекрасной лжи”»[11]; добавим, что если эти вопросы и затронуты в определении Джами, то совсем не так, чтобы можно было говорить о слиянии (пусть даже на столь поздней стадии) двух традиций.
В чем основание такого избегающего сближения параллелизма и не имеет ли это отношения к разбираемым нами вопросам?
Не будет неожиданным наблюдение, что перипатетическая традиция толкования "Поэтики" в арабской культуре стремится связать, с одной стороны, следуя самому Аристотелю, поэтические и поэтологические проблемы с этическими (проблематика поэзии как побуждения к действию, похвальному или порицаемому, связанному с добродетелью или пороком) при непосредственной опоре на базис гносеологических представлений (поэзия как "подражание" — мухакат и "воображение" — тахйил), а с другой, показать, что комментируемый текст имеет прямое отношение к культуре, к которой принадлежат сами комментаторы, и сложившимся в ней приемам поэтического творчества. Обе цели достигаются одним и тем же приемом — утверждением, что поэтика в том виде, какой придал ей Стагирит, изучает общие для разных языков и культур закономерности, тогда как частности, исключительно касающиеся поэзии, созданной на том или ином языке, попадают в поле зрения частных поэтологических дисциплин, у разных народов не совпадающих. Поскольку общее, несомненно, имеет приоритет над частным, аристотелевская поэтика тем самым мыслилась как вырабатывающая начала для подчиненных ей частных поэтологических наук. Установление такой субординации было бы лишь одним из направлений выполнения общей программы соподчинения наук, намеченной в арабском перипатетизме и исходившей из того, что науки более общие должны устанавливать принципы, служащие недоказываемыми началами наук более частных.
Естественно, что исполнение этой программы (в той ее части, которая касается поэтики) требовало сохранения античного понимания сути поэзии. Неуступчивость арабоязычных продолжателей аристотелевской традиции в вопросе о том, что есть поэзия, совершенно неслучайна и основывается не просто на желании во что бы то ни стало сохранить верность положениям Первого Учителя, но прямо связана с наиболее существенными сторонами учения данной школы.
Но если последовательность перипатетиков проистекает из нежелания поступиться своими принципами, то последовательность арабо-мусульманской традиции теоретического осмысления поэзии объясняется, очевидно, нежеланием эти принципы принять. Результирующее взаимное несоприкосновение выглядит порой чрезвычайно контрастно. Ибн Рушд в своем комментарии на "Поэтику" считает совершенно очевидным, что одно из центральных понятий, используемых в арабо-мусульманской риторике и поэтике, "уподобление" (ташбих), есть лишь иное выражение принципа "фантазийного подражания вещам", на котором и зиждется (в его понимании) поэзия. Если бы это было так, то арабо-мусульманское поэтологическое учение действительно в значительной своей части (во всяком случае, в том, что касается содержания поэзии, а не учения о метрике или рифме, которые, безусловно, непосредственно связаны с особенностями каждого конкретного языка) могло бы быть представлено как частное воплощение общих, установленных Аристотелем, начал. Утверждая, что воображение или его отсутствие не составляют существенного признака поэзии, Джами (хотя, вполне вероятно, и ненамеренно) разрушает концепцию перипатетической школы поэтологии в самом ее основании, просто не признавая сути такого сведения "уподобления" к "имитации вещей". (Чтобы не создавалось впечатление, что перипатетическая и арабо-мусульманская поэтологическая традиции противопоставлены во всем, отметим, что второй, согласно Аристотелю, существенный признак поэзии, метризованность, безусловно признавался обеими школами.)
Вероятно, столь серьезное взаимное противление двух школ в пункте «соотнесение с вещами—соотнесение со “смыслом”» — тем более, что оно не всегда было результатом сознательной целенаправленной полемики, но иногда возникало и прямо в пределах усилий, направленных на сближение двух традиций, — должно иметь не менее серьезные основания. Поэтому вопрос, который мы должны задать сейчас, звучит следующим образом: является ли для арабо-мусульманской традиции адресация к "смыслу" столь же принципиальной, как для перипатетической — адресация к вещам?
Прежде чем отвечать на него, нам необходимо попытаться прояснить само используемое здесь понятие "смысл".
Этим словом мы передаем арабское понятие ма‘нан, используя наиболее заурядное из словарных значений термина, которое в то же время оказывается, пожалуй, и наименее интерпретационным. Попытки толковательных переводов, призванные проявить суть этого термина в различных вариантах его употребления, напротив, как показывает практика, совершенно запутывают дело, так что сам термин вконец исчезает среди десятков замещающих его понятий[12]. И если в отдельных контекстах употребления понятия ма‘нан некоторым арабскими авторами можно найти параллели тем или иным категориям, выработанным еще в античности (напр., "природа" или "идея"[13]), то их все же совершенно не удается распространить не только на все, но даже на сколько-нибудь значимую долю примеров употребления термина. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что термин ма‘нан относится к числу наименее раскрываемых в сочинениях самих арабо-мусульманских теоретиков. Для них он служит, кажется, одним из базовых понятий, через которые раскрывается содержание прочих. С этой точки зрения термин ма‘нан («смысл») может, очевидно, стоять в одном ряду с такими понятиями, как "вещь" (шай’) или "нечто" (’амр).
Если это так, то вместо поиска соответствия — всякий раз оказывающегося так или иначе неполным — реалиям мысли, выработанным западной традицией, стоит, видимо, попытаться ввести это понятие так, чтобы сохранить в нашем понимании отмеченную его фундаментальность. Это, с нашей точки зрения, может быть достигнуто следующим образом. Во-первых, путем рассмотрения типичных ситуаций, в которых употребляется этот термин; во-вторых, благодаря анализу того его понимания, что было развито в классической арабо-мусульманской филологической теории. Первое даст нам представление о реальности бытования термина, второе — о том, как этот термин понимался в науке, рассматривающей его в фундаментальном контексте функционирования языка.
Вначале приведем несколько примеров такого употребления ма‘нан, когда оно без труда может быть понято в его "обычном" (словарном) значении — "смысл", "значение". Не составляет труда отыскать такие примеры практически в любом классическом сочинении, так что их выбор может быть вполне случаен. Ниже мы будем говорить о контекстах употребления термина "смысл" в произведениях ведущих представителей философских школ исламского средневековья: арабоязычного перипатетизма (Ибн Сина), суфизма (Ибн ‘Араби), исмаилизма (Хамид ад-Дин ал-Кирмани), калама.
"Мир иллюзорен и не обладает истинным бытием: таков смысл воображения"[14]. "Он (Бог. — А.С.) - Изначальный по смыслу и Конечный по форме"[15]. "Всякого дошедшего до нас имени, коим Он поименовал Себя, смысл и дух находим мы в мире"[16]. В этих фразах истолкование слова «смысл» в его привычном значении, как оно понимается в русском языке, не вызывает особых затруднений: в первом случае оно может быть интерпретировано как "значение слова", в двух других — как "суть". Подстановка этих слов вместо слова "смысл" в приведенных фразах не только не мешает их прочтению, но даже облегчает его.
Но далеко не всегда понимание может быть достигнуто столь просто. Признаки некоторого затруднения возникают при истолковании следующей фразы: "Абсолютным прославление может быть только в выговоренности (лафз), в смысле же его обязательно связывает состояние"[17]. Речь идет об одном из центральных положений суфийского учения — о прославлении Бога сущим, о том, что, являя в бытии божественные имена, или атрибуты, сущее тем самым являет славу Бога. Божественная самость для Ибн ‘Араби — это абсолютная полнота, абсолютная возможность всего, что может обрести бытие, поэтому божественные атрибуты бесконечны. Каждое отдельное сущее воплощает только некоторые из них, и лишь мироздание в целом адекватно этой бесконечности. Поэтому понятно, что только на словах можно прославлять Бога абсолютно, тогда как онтологическое прославление (т.е. воплощение божественных атрибутов: именно об этом речь идет во второй половине фразы) никогда не бывает безграничным для отдельного существа: оно "связано" "состоянием" сущего, т.е. тем, каково это сущее в данный момент, какие именно из бесконечного многообразия божественных атрибутов оно воплощает сейчас.
Итак, фраза совершенно понятна в контексте философии Ибн ‘Араби; высказанная в ней мысль повторяется в его произведениях неоднократно, что не оставляет сомнений в правильности приведенного ее истолкования. Но именно эта ясность делает, кажется, не вполне оправданным использование понятия "смысл" в данном случае. Его употребление затрудняет понимание фразы: в ней словесное прославление (называние божественных атрибутов) противопоставлено онтологическому прославлению (воплощению их в сущем), тогда как выражено это как противопоставление "выговоренности" (лафз) "смыслу" (ма‘нан). Впрочем, в данном случае остается, пожалуй, одна возможность такого истолкования фразы, которая сохранила бы понимание слова «смысл» в его привычном значении: абсолютное прославление возможно только в словах, тогда как означаемое этих слов (их смысл) не воплощено в сущем абсолютно.
Вот еще один пример создающего трудность для понимания употребления понятия "смысл". Ал-Кирмани говорит о "видениях и подобиях, которые обладают явленными чувству смыслами"[18], так что "смысл" оказывается чем-то, что постигается не только разумом, но и чувствами. Встречаются случаи, составляющие подлинную герменевтическую загадку, когда ни одно из возможных значений термина ма‘нан как будто не подходит для перевода. Вот подобный пример из текста ал-Кирмани: "...мудрый и умелый геометр выверяет, чтобы от множества движений разных тел произошло одно движение одного тела, каковое тело сможет сдвинуть некоторую тяжесть, которую множественные тела поодиночке подвинуть неспособны; однако движения их, соединившись, двигают смыслы того все их приемлющего тела, благодаря чему оно и сдвигает ту неимоверную тяжесть"[19]. Что такое, далее, те "смыслы существования" (ма‘ани ал-вуджуд), познание которых составляет, согласно нашему автору, задачу философов[20]? Наконец, сам Бог может быть назван "Смысловым Духом" (ар-рух ал-ма‘навийй)[21], и можно говорить о том, что Он является для нас в виде бесконечного многообразия "смыслов"[22].
Эти примеры, выбранные почти наугад (их можно было бы умножить многократно, и в данном случае они служат лишь иллюстрацией), показывают нам, что категория "смысл" позволяет соединить понятие "высказывание" с понятием "реальность", соединить прямо и непосредственно: высказываемый смысл и есть сущий смысл, вернее, и в высказывании, и в реальности явлен один и тот же смысл. Понятие "смысл" здесь избегает разделения онтологического и гносеологического, выражает такой взгляд, который как будто не считает необходимым строго разводить эти два аспекта.
С одной стороны, смысл есть, с точки зрения наших мыслителей, действительное качество или свойство вещей. В языковом плане это выражается в том, что в отношении смысла оказывается возможным употребление инструментального предлога «би-» (выражающего значение, аналогичное значение творительного падежа в русском языке): мы можем говорить, что нечто имеется или возникает "посредством", "благодаря" смыслу. Вот некоторые примеры. Разъясняя вопросы натурфилософии, ал-Кирмани говорит, что гипс "с точки зрения полученного им смысла, благодаря которому (би-хи) он оказался порошкообразным, отличается" от земли[23]; что высший вид некоторого рода сущего имеет сходство с низшим видом вышестоящего рода, причем эти виды "сходны с вышестоящим родом благодаря своим смыслам"[24]; что животная душа выше растительной, поскольку «стоит выше оной во всех смыслах, что делают растущего растущим»[25]; что «хоть и говорят о ней (душе.— А.С.), что она душа или же дух, но тот смысл, благодаря которому она есть то, что она есть, — это жизнь»[26].
С другой стороны, "смысл" — это содержание нашего знания. Классическое понимание цели логического познания Ибн Сина выражает как "запечатление смысла таким, каков он на самом деле"[27]. Но "смысл" равно служит предметом и чувственного познания; еще в каламе зафиксировано положение, согласно которому органы наших чувств постигают именно те "смыслы", которые наличествуют в вещах. Поэтому понимать смысл значит обладать понимаемым (запечатлеть в себе понимаемое). Этот нюанс объясняет логику многих высказываний, которые при первом прочтении вызывают недоумение, а при переводе — желание как-то обойти и сгладить возникающие "шероховатости". Например: «Как известно, слух не может принять и понять смысл другого звука, если уже занят каким-то звуком; или же гемма не может принять другое изображение, пока не стерто первое»[28]. В этом рассуждении понимание смысла явно отождествляется с "принятием звука" (т.е. "запечатлением" звука) и уподобляется нанесению надписи на камень; поэтому понимает смысл чувство слуха как таковое — ибо именно оно принимает воздействие понимаемого. Понимание с этой точки зрения не является произвольной процедурой до-мысливания или при-мысливания значения.
Существует ли возможность истолкования понятия "смысл", которое преодолевало бы ощущение "неестественности" его употребления, вызываемое приведенными выше примерами? Попытаемся представить, как такое истолкование было бы возможно.
Смысл, как подсказывает нам наш язык — это то, что с-мыслью, то, что сопровождает мысль и делает вещи осмысленными. Но то, что бывает с мыслью, самой мыслью не является. Поэтому смысл — это не сама мысль, или, во всяком случае, не только сама мысль. Говоря, что мы мыслим, мы подразумеваем, что мы мыслим что-то. Это "что-то", то, что мы мыслим, называется "вещью" или "предметом". Мысль поэтому оказывается противопоставленной своему предмету, вещи, которая в силу такой противопоставленности не есть мысль. Но смысл — это именно то, что придает вещи осмысленность, т.е. способность стать предметом мысли.
Таким образом, смысл равно относится и к мысли, и к ее предмету — вещи. Смысл — это то, что принадлежит равно и сфере "мысли", и сфере "вещи". Мы можем говорить о "смысле вещи" и "смысле высказывания". Совпадение мысли с вещами возможно как совпадение этих двух смыслов. Если смысл высказанный и смысл, находимый в вещи, суть один и тот же смысл, мысль о вещи адекватна этой вещи. Именно в смысле мы находим основание, позволяющее нам говорить о тождестве идеального и реального.
Но то, что составляет основание тождества, логически предшествует отождествляемому при его посредстве. Иными словами, мы имеем возможность говорить о смысле еще до того, как мы произнесем слова "мысль" и "вещь". Как представляется, такая возможность и продемонстрирована приведенными выше примерами.
Обратимся теперь к рассмотрению того, как понимался термин ма‘нан «смысл» в науках о языке, точнее, в базовой дисциплине этого комплекса, именуемой "грамматика" (нахв). В отличие от средневекового Запада, филологическое знание в арабо-мусульманском мире не было непосредственно включено в состав философских наук, во всяком случае, в своем полном объеме. Переходя к рассмотрению положений об "указании на смысл" (далала ‘ала ал-ма‘на), развитых в классической мусульманской филологии, мы затрагиваем область, о которой не шла речь при анализе понимания термина «смысл» философскими школами арабского средневековья. Конечно, здесь отнюдь не будет исчерпаны теоретические нюансы рассуждений о "смысле" в той их полноте, в какой они были разработаны классической наукой. Мы ограничимся лишь разбором принципиальных положений, выработанных в этой области.
Начиная с одного из основателей классической мусульманской филологии Сибавайха, едва ли не любой грамматический трактат начинается с рассмотрения того, что есть слово (калима). Но если Сибавайхи, открывая главу "О том, каковы слова (калим) в арабском языке", лишь перечисляет подвиды слов и констатирует, что "слова — это имя, глагол и частица"[29], не раскрывая содержание самого термина, то в дальнейшем понятие "слово" традиционно объяснялось как единство двух элементов: "выговоренности" и "смысла", обеспечиваемое связью между ними. Эта связь и именуется "указанием". Рассмотренные с точки зрения своей роли в установлении данной связи, "выговоренность" и "смысл" оказываются соответственно "указывающим" (далл) и "тем, на что указывается" (мадлул).
Указание выговоренности на смысл — не единственный вид выявления смысла. Вот что пишет один из столпов арабской филологии ал-Джахиз: «Смыслы, что гнездятся в груди человека, запечатлены в его уме, разлиты в душе, вплетены в его думы, произведены его мыслью — эти смыслы укрыты и спрятаны, далеки и отчужденны, таятся, отделенные завесой. Они имеются в том смысле, что их нет: неведома нам душа другого, неизвестна нужда брата и соседа и смысл его сотоварища, ему в делах его пособляющего, удовлетворить нужды его, без посредничества других недоступные, помогающего. Смыслы эти оживают, когда он упоминает их, сообщает о них, использует их. Вот это-то и приближает их к пониманию (фахм) и выявляет для разума, превращая скрытое в явное, отсутствующее в зримое, далекое в близкое. Именно так кратко выражается запутанное и развязывается заплетенное, неопределенное (мухмал) делается связанным (мукаййад), а связанное — абсолютным, неизвестное — познанным, отчужденное — послушным, непризнанное помечается, а помеченное узнается. Сколь ясным будет указание (далала) и правильным намек (ишара), сколь хорошо сокращение и точен подход, — столь и выявлен будет смысл. Чем яснее и красноречивее указание, чем светлее и точнее намек, тем лучше и полезней. Ясное указание на скрытый смысл — это разъяснение (байан), которое, как тебе известно, Всевышний (славен Он и велик!) одобряет и ставит в пример. Об этом говорит Коран, этим прославлены арабы, в овладении этим — честь иностранцев...
Далее, знай (да хранит тебя Бог!), что смыслы не таковы, как выговоренности, ибо смыслы раскидываются без предела и простираются, не зная границ, тогда как имена смыслов ограничены и сочтены, известны и определены.
Всего же видов указаний на смыслы, как посредством выговоренности, так и иначе, пять, не более и не менее: во-первых, посредством выговоренности (лафз), во-вторых, жеста (ишара)[30], далее, пальцев (‘акд)[31], далее, письмен (хатт), и наконец, такого состояния (хал), которое именуется “состояние вещей” (насба). Состояние вещей — это такое указующее состояние, которое [может] замещать прочие виды указания, не умаляя и не устраняя их. Ведь каждое из пяти имеет свою форму, отличную от других, свое убранство, с прочими не схожее. Эти указания открывают тебе воплощенности смыслов в целокупности, разъясняя, далее, их истинности (хака’ик), их роды и величие, каковы они в частности и в общем, что из них приносит радость и что — горе, и какие из них обманчивы и ложны, пусты и ненадежны»[32].
Изложенная со свойственным этому автору красноречием, теория пятеричного указания на смысл была устойчивым, если не сказать стандартным, элементом арабо-мусульманской филологии; Ибн Йа‘иш, например, комментируя «ал-Муфассал» аз-Замахшари, констатирует, что "вещей, что указывают [на смысл], пять: письмо, [счет на] пальцах, жест, состояние вещей, выговоренность"[33].
Существенным моментом такого
понимания указания на смысл является тот
факт, что отношение "указание"
оказывается не внешним отношением между
словом и вещью, но, связывая «выговоренность»
и «смысл», оно составляет отношение внутри
слова, параллельное отношению вещи к смыслу.
В отличие от лежащей в основе западной
традиции платоновско-аристотелевской
гносеологии, выстраивающей линейное
отношение слово![]() идея-представление
идея-представление![]() вещь, в данном случае слово как
бы и не соотносится с вещью. Вместо этого
теория вводит "всеобщий эквивалент" —
смысл, на который равно
указывают и выговоренность и вещь,
благодаря этой эквивалентности смысла
способные замещать одно другое. Логическое
предшествование понятия "смысл"
понятиям "мыслимое" и "реальное",
о котором мы говорили выше, вполне
подтверждается и на рассматриваемом
материале.
вещь, в данном случае слово как
бы и не соотносится с вещью. Вместо этого
теория вводит "всеобщий эквивалент" —
смысл, на который равно
указывают и выговоренность и вещь,
благодаря этой эквивалентности смысла
способные замещать одно другое. Логическое
предшествование понятия "смысл"
понятиям "мыслимое" и "реальное",
о котором мы говорили выше, вполне
подтверждается и на рассматриваемом
материале.
Отметим два принципиальных положения теории указания, касающиеся двух элементов слова — выговоренности и смысла.
Это, во-первых, непроизвольность выговоренности, закрепленной "за" (би-’иза’) любым данным смыслом.
Слово лафз буквально означает "выплюнутость", передавая идею отторгнутости, некоторой завершенности: выговоренное отделяется от говорящего, который уже теперь не властен изменить звукосочетание, им же порожденное. Вероятно, переводя лафз как "выговоренность", мы не превысим допустимую долю интерпретационности, вносимую в перевод. Заметим, что хотя арабо-мусульманские науки о языке излагаются так, как если бы имелось в виду только устное бытование языка (так, речь идет о "голосе", "слушателе" и "выговоренностях"), термин лафз «выговоренность» фактически стал родовым для обозначения всякой формы словесного носителя смысла, так что выражение «алфаз китабиййа» ("письменные выговоренности") не воспринимается как оксюморон.
Углубляя характеристику термина лафз, можно сказать, что «выговоренность» не является материальным знаком идеи, случайно за ней закрепляемым. Положение о ненормальности произвольного именования, при котором теряется обоснованное постоянство смысла, передаваемого "выговоренностью", было достаточно настойчиво высказано теоретиками при анализе имен собственных, где выговоренность и оказывается такой "меткой", или "знаком" (‘алам). Этот случай специально оговаривается теорией как отступление от нормативного указания выговоренности на смысл. Чтобы это неочевидное утверждение не осталась голословным, приведем высказывание такого столпа средневековой арабской филологической науки, как Ибн Йа‘иш: «Автор книги[34] говорит: “Это (имя собственное. — А.С.) то, что связывается с вещью как таковой (би-‘айни-хи), не затрагивая ничего, что с ней схоже. Такое является либо именем, как Зайд или Джа‘фар, либо куньей[35], как Абу ‘Умар или ’Умм Кульсум, либо лакабом[36], как Баттат Вакфа”. Комментатор[37] говорит: Знай, что имя собственное (‘алам букв. "знак") — это имя частное (хасс), такое, что более частного не бывает. Оно придается именуемому для того, чтобы очистить его от номинального рода и тем самым отделить от многочисленных именуемых тем же именем. Оно не охватывает подобных ему (именуемому. — А.С.) по истинности (хакика) и форме (сура), ибо это — именование некоторой вещи именем, которым она в основе (’а сл) именоваться не должна. Дело в том, что оно (имя-метка. — А.С.) не установлено против общей истинности (хакика шамила), не [установлено] также и благодаря какому-то смыслу в имени. Поэтому наши коллеги и говорили, что [имена-]знаки не передают смысла. Разве не видишь ты, что они одинаково накладываются и на некоторую вещь, и на отличное от нее? “Зайд”, например, на черного накладывается так же, как на белого, и на коротышку так же, как на долговязого»[38]. Приведенная аргументация явно исходит из ощущения естественности такого указания, когда выговоренность имеет свою собственную, для нее определенную смысловую нагрузку (свой "смысл", свою истинностную переформулировку — хакика), что исключает, во-первых, произвольное обозначение как принцип именования, а во-вторых, указание на единичное.
Второе принципиальное положение теории указания состоит в том, что если выговоренность единична, то смысл, на который она указывает, оказывается непременно множественным, составным.
Эта множественность, или, как выразился в приведенной выше цитате ал-Джахиз, "разъясненность" является существенным и неустранимым моментом, мыслимым в понятии "смысл". Она проистекает от того, что смысл строится как определенная вычлененность из некоторой более широкой области. Смыслом выговоренности "лев", например, оказывается "особый зверь" (саб‘ махсус), для выговоренности "молитва" смысл — "особое поклонение" (‘ибада махсуса), и т.п.[39] Вычленение из более широкой сферы, конституирующее смысл, производится благодаря указанию особого признака, выделяющего данную область. Нетрудно заметить, что эта процедура похожа на аристотелевскую родо-видовую схему. Более того, ниже, разбирая виды указания выговоренности на смысл, мы увидим, что некоторыми авторами смысл объявляется "истинным" (хакика) для выговоренности тогда и только тогда, когда он выстроен по примеру классического родо-видового определения формальной логики. Например, "разумное животное" — это истинный смысл выговоренности "человек", тогда как "смеющееся животное" уже не будет для нее истинным смыслом, поскольку "способность смеяться" — собственный, но не видоотличительный признак "человека". Это именно та "истинность" смысла, которая раскрывается, как пишет ал-Джахиз, для нас благодаря указанию. Именно поэтому, в частности, "смысл" не может быть сопоставлен с "идеей" как чем-то принципиально простым. Для античной и основанной на ней средневековой теории языка на Западе принципиально понимание тождества простого слова и столь же простой вещи, восходящее к платоновско-аристотелевским представлениям. Если идея и может быть с чем-то сопоставлена, так это с видовым отличием, то есть лишь одной из составных частей "смысла". Слову "человек" соответствовала бы идея "человечность" (или, что то же самое, "разумность"), но никак не "смысл" "разумное животное", где разумность, с точки зрения арабских теоретиков, составляет лишь "часть" (джуз’) смысла[40].
Множественность, многосоставность смысла является существенным элементом арабо-мусульманской теории указания, который утверждается независимо от хорошо известных платоновских положений о простоте идеи (или вопреки им). Скажем, если в одном месте Ибн Сина настаивает на том, что смыслы являются простыми, явно следуя императиву именно этого платоновского положения[41], то в других местах вполне традиционно говорит о "сложности" (таркиб, букв. "сложенности") смысла, состоящего из отдельных частей (аджза’). А когда у аз-Замахшари мы встречаем определение слова как "выговоренности, указывающей по установлению на некоторый одиночный смысл (ма‘нан муфрад)", то выясняется, что под "одиночностью" автор подразумевает приблизительно то же, что ал-Джахиз под смысловой "целокупностью" (джумла), поскольку речь у аз-Замахшари идет о противопоставлении "одиночного" смысла такому, к которому присоединен ’алиф-и-лам — определенный артикль (аналогичный the в английской языке); как разъясняет Ибн Йа‘иш, «то, что таким образом приобрело определенность (му‘арраф) благодаря ’алифу и ламу, указывает на два смысла: определенность и определенное; в произнесении это — одна выговоренность, но два слова, ибо составлено из ’алифа и лама, указывающих на определенность, а они — слово, ибо суть частица (харф) смысла, а определенное — другое слово»[42], так что, как оказывается, речь в данном случае идет об одиночности слова, а не смысла.
Сказанное до сих пор касается двух элементов, входящих, согласно арабо-мусульманской филологической теории, в состав слова. Перейдем теперь к более подробному рассмотрению связи между ними. Эта связь — отношение "указания" (далала).
"Указание" обычно понимается как такая связанность "выговоренности" и "смысла", благодаря которой восприятие одного безусловно влечет знание другого. Такое узнавание смысла по выговоренности и называется "пониманием" (фахм). Термин "понимаемое" (мафхум) отсылает нас, таким образом, к тому "смыслу", на который указывает "выговоренность". Благодаря "указанию", связывающему "выговоренность" и "смысл" в единую структуру — слово, "понимание" наступает в принципе беспрепятственно.
Как уже говорилось, отношение «указание» связывает со смыслом не только выговоренность, но и вещь. Указание, беспрепятственно открывающее нам смысл за выговоренностью, также выявляет для нас и смысл в вещах. Это открывание смысла есть равно "понимание", и в таком случае и вещь, а точнее, раскрываемый в ней смысл, оказывается "понимаемым". Герменевтическая терминология, таким образом, имеет в арабо-мусульманской мысли едва ли не универсальную сферу приложения. Смысл, раскрываемый благодаря выговоренности, и смысл, "понимаемый" в вещи, — это один и тот же смысл. Говоря о смыслах, как они представлены для нас выговоренностями, мы как бы можем говорить о вещах. Это "как бы" существенно; слово не оказывается аналогом вещи, оно заключает в себе фиксируемый в вещи смысл, тогда как самой вещи оно не касается.
Вот как определяет "указание" ат-Тафтазани, комментируя положения, высказанные ал-Джурджани: «Указание — это когда вещь такова, что из знания о ней непременно следует знание о чем-то другом; первое — это “указывающее” (далл), второе — “то, на что указывают” (мадлул). Далее, если указывающее — это выговоренность, то указание — выговоренностное, а если иное, то невыговоренностное, каковы указание письмен, пальцев, состояния вещей и жестов»[43].
Впрочем, беспрепятственность понимания смысла по выговоренности не равнозначна его естественной обусловленности. Наши авторы считают необходимым опровергнуть существовавшее мнение о том, будто выговоренность указывает на смысл сущностно: «{Утверждение о том, что выговоренность самостно (ли-зати-хи) указывает [на смысл], несостоятельно в своем внешнем [значении]}. Иначе говоря, некоторые считали, что для того, чтобы выговоренности указывали на свои смыслы, не требуется установление (вад‘), и что между выговоренностью и смыслом существует естественная соотнесенность, в результате которой каждая выговоренность указывает на свой смысл самостно. Автор [этой книги] и все постигшие истину считают, что если это высказывание толковать в его явном [значении], оно неверно. Ведь если бы выговоренность указывала на свой смысл самостно, так, как она указывает на говорящего, то у всех народов был бы один и тот же язык и все понимали бы смысл любой выговоренности, ибо то, на что указывают (мадлул), было бы неотделимо от указывающего (далил). В таком случае невозможно было бы заставить выговоренность посредством сопровождающего обстоятельства (карина) указывать на переносный, а не истинный смысл, поскольку самостное не устраняется иным (т.е. не-самостным. — А.С.), и тогда невозможно было бы перемещать (накл) его с одного смысла на другой, когда при произнесении понимается только второй смысл»[44].
Таким образом, отношение "указание", хотя и не есть нечто произвольно устанавливаемое, тем не менее не является и естественно-обусловленным "природным" (или, в собственных терминах теории, "самостным" — затийй) свойством выговоренности[45]. Этим, очевидно, отношение указания внутри слова и отличается от того, как указывают на смысл вещи: второе указание естественно. Далее, сам ат-Тафтазани, по свидетельству его комментатора ал-Баннани, углубляет положение о сложности отношения "указание". «...В “Длинном [комментарии]” он вместо “непременно следует” (йалзам) употребляет “получается” (йахсул) и говорит: “Указание — это когда вещь такова, что из знания о ней получается знание о другом, пусть даже и со временем, ибо столпы арабского языка принимают во внимание указание в целом (би-л-джумла), в отличие от людей Весов[46], для которых указание — это целокупное разъясненное указание (далала куллиййа муфассара), когда вещь такова, что из знания о ней непременно следует знание о другом. Сочинения по арабскому языку дают неподходящее определение указания. Это определение само себя разрушает, поскольку практически нет такого указывающего, знание о котором необходимо влекло бы знание о том, на что указывают. Правильным было бы сказать: ‘Это когда вещь такова, что из знания о ней непременно следует знание о другом, если известна [их] связь (‘алака)’. В целом же [скажем]: первое — указывающее, второе — то, на что указывают. Одно может указывать на другое и в то же время быть тем, на что первое указывает, с двух разных точек зрения. Таковы огонь и дым: каждый из них указывает на другого и служит тому тем, на что тот указывает[47]. Что касается связи, то если она по установлению, то и указание — установленное; если же естественная обусловленность заключается в том, что указывающее существует, только если есть то, на что оно указывает[48], то эта связь — естественная (таби‘иййа); во всех прочих случаях — разумная (‘аклиййа). При этом в каждом [случае] имеется выговоренностное [указание], если указывающее — выговоренность, и невыговоренностное в других случаях”»[49].
Таким образом, оказывается, что само "указание", обеспечивающее понимание, нуждается в свою очередь в некотором априорном знании. Такое априорное знание закрепленности смысла за выговоренностью именуется "установлением" (вад‘). "Установление" указаний происходит в момент возникновения языка, точнее, в момент его конституирования "основателем", или "дарителем языка" (вади‘ ал-луга); этот процесс явно мыслится по аналогии с "установлением Закона", которое осуществляет "законодатель" (вади‘ аш-шари‘а). Отметим, что положение об искусственном возникновении языка прямо связано с фундаментальным тезисом о неприродной обусловленности указания выговоренности на смысл.
"Установление" известно всем носителям данного языка и, очевидно, совершенно одинаково для всех. Теория не рассматривает вопрос о том, как оно становится известным, ограничиваясь утверждением, что поскольку известно "установление", "понимание" смысла, соответствующего данной выговоренности, происходит беспрепятственно; более того, оно не может не происходить, так что мы, вообще говоря, понимаем без нашего на то согласия.
"Установленное" указание составляет базис для других типов указания: «Указание выговоренностное либо включает, либо не включает установление. Именно первое рассматривается здесь, а именно, такое положение, когда по выговоренности при ее произнесении тот, кому известно установление, понимает смысл. Такое указание {бывает либо на всю полноту [смысла], для которой установлена} выговоренность: так “человек” указывает на “говорящее животное”; {либо на часть оного}: так “человек” указывает на “говорящее” или на “животное”; {либо на нечто выходящее за пределы оного}: так “человек” указывает на “смеющийся”. {Первое}, то есть указание полностью на то, для чего установлена [выговоренность], {именуется установительным}, ибо установление — это установление выговоренности для полного смысла, {а каждое из двух других}, то есть указание на часть и на выходящее [за пределы установленного смысла], именуется {разумным}, — ведь на часть [смысла] и на нечто выходящее [за его пределы] выговоренность указывает постольку, поскольку разум выносит суждение, что наличие целого или того, чему нечто сопутствует (малзум), влечет наличие части или сопутствующего (лазим). Логики же все три [вида указания] называют “установительными”, основываясь на том, что установление входит в каждое из них, а “разумным” называют только то [указание], которое противостоит (тукабил) [указаниям] установительному и естественному, такому как указание дыма на огонь. {Первое} из трех [видов] указания {определяется через совпадение}, ибо выговоренности и смысл совпадают (татабук), {второе — через включение (тадаммун)}, поскольку здесь часть включена в смысл, для которого установлена [выговоренность], {а третье — через сопутствие (илтизам)}, поскольку выходящее сопутствует (лазим) тому [смыслу], для которого установлена [выговоренность]»[50].
Мы говорили о том, что принципиальной особенностью категории смысл в понимании классической филологической теорией является его множественность. Именно благодаря этой множественности отношение указание оказывается столь разнообразным, включая не только фиксированное в "словарном составе" языка нормативное соответствие, но и случаи урезанного (указание на часть смысла) или расширенного (указание на сопутствующее установленному смыслу) указания. Заметим, что "вербальный солипсизм" классической филологической теории вполне проявляет себя и на данном этапе: понимание того, что чему сопутствует и, соответственно, на что указывает данная выговоренность, не требует, по-видимому, обращения к вещам, поскольку для определения сопутствия достаточно принимать во внимание только смысл.
Итак, вслед за особенностями понимания выговоренности и смысла, отмеченными выше, мы можем отметить и особенность понимания связывающего их «указания». Эта особенность заключается в том, что смысл оказывается ничем иным, как переформулировкой выговоренности. Указывать на смысл значит быть переформулированным в этот смысл. В случаях указания по установлению такая переформулировка называется «истинной» (хакика). Одно из пары «выговоренность-смысл» всегда может быть подставлено вместо другого; и более того, именно тогда, когда одно вполне заменимо другим, мы имеем указание по установлению, или "правильный", "истинный" смысл выговоренности. Истинная переформулировка выговоренности достигается как "полный смысл" (ма‘нан тамм), в который может быть переведена данная выговоренность.
Для удобства обозрения сведем классификацию видов указания, о которых говорят наши авторы, в единую таблицу:
Табл.1
|
указание (далала)
посредством |
||||
|
выговоренности (лафз) |
письма (хатт) |
пальцев (‘акд) |
состояния вещей (насба) |
жеста (ишара) |
|
указание выговоренности (далалат ал-лафз) |
|
|
включает установление (вад‘) |
не включает установление |
|
указание выговоренности , основанное на установлении |
||||
|
установительное (вад‘иййа) |
разумное (‘аклиййа) |
|
||
|
на смысл целиком |
на часть смысла |
на внешнее смыслу |
||
|
в них между «указывающим» (далил) и «тем, на что указывают» (мадлул) |
||||
|
совпадение (мутабака) |
включение (тадаммун) |
сопутствие (илтизам) |
||
Именно последний вид указания, указание благодаря сопутствию, составляет основу иносказательного выражения смысла (маджаз), развитием которого оказываются поэтические приемы. Поэтому, переходя непосредственно к рассмотрению понимания сути иносказательного выражения смысла в классической теории, скажем несколько слов и о "сопутствии" (лузум), на котором оно основано.
«И в иносказании (маджаз), и в метонимии (кинайа) имеется переход (интикал) от того, чему нечто сопутствует (малзум), к сопутствующему (лазим)»[51]; «...иносказание строится на переходе (интикал) от того, чему нечто сопутствует, к сопутствующему»[52]. От ал-Джурджани до ат-Тафтазани, через классический период развития риторики, проходит неизменным тезис о переходе от малзум к лазим благодаря илтизам (или лузум). Для того, чтобы увидеть сущность иносказательного выражения (и понимания) смысла, необходимо прежде рассмотреть процедуру этого перехода.
Начнем с того, что попытаемся несколько расширить представление об этих терминах. В переводах, приведенных выше, они были переданы как "то, чему нечто сопутствует", "сопутствующее" и "сопутствие". Попробуем разобраться, что означает "быть сопутствующим" и в чем суть "сопутствия".
Конечно, можно было бы обойтись и без этого, ограничившись "очень простым" наблюдением, рассматривающим вещи с позиции здравого смысла. Если взять одну из наиболее очевидных метафор (и во всяком случае встречающуюся равно в западной и исламской поэзии и разбираемую в обеих поэтологических традициях), обозначение "смельчака" как "льва", можно было бы сказать: "лев" — это смысл, которому действительно сопутствует другой смысл, "смелость", и воспринимая один, мы легко осознаем и другой. Такое объяснение "от здравого смысла" стремится свести сопутствие к ассоциации. В ряде случаев оно действительно имеет шансы на успех. Но теория, о которой мы ведем речь, совершенно без колебаний наряду с сопутствием "смелости" "льву" называет примеры, в которых, скажем, "возникновение" (худус) — точно так же и ровно в том же смысле — сопутствует "миру"[53]. Вряд ли смысл "мир" и смысл "возникновение" действительно осознаются как именно ассоциативные, тем более что в сочинениях тех же авторов доказательство сотворенности мира занимает немало страниц (кто стал бы доказывать, что лев смел?). Речь идет все же не просто о том, что представление об одном влечет представление о другом, а о том, что это "влечение" всегда и обязательно имеет свои основания, которые могут быть раскрыты. О том, каковы они, и идет у нас речь.
Корень л-з-м в арабском языке передает идею неразлучности, неотделимости одного от другого[54]. Лазим — то, что неотделимо от чего-то, малзум — то, от чего что-то неотделимо[55], и лузум — неразделимость, или связь между этими двумя. Термин лазим был использован в классической арабской мысли для передачи аристотелевского понятия "собственное вещи" (признак, неотделимый от вещи и характерный только для нее, хотя и не входящий в ее чтойность, как, например, "способность смеяться" для "человека"). В этом смысле он широко употреблялся арабскими теоретиками, и с этой точки зрения лазим можно переводить как "присущее"; малзум, соответственно, оказывается тем, «чему нечто присуще», а лузум — "присущностью". Далее, в теоретических построениях и доказательствах оборот йалзам мин-ху маркирует логически неизбежное следование (наше "отсюда вытекает, что..."). В этом смысле лазим можно переводить как "вытекающее", малзум — то, "из чего нечто вытекает", а лузум — "следование" ("вытекание").
О том, какова именно логика следования, обозначаемая теорией как лузум (или однокоренное и синонимичное илтизам), и должна пойти сейчас речь. Мы попытаемся ответить на этот вопрос, оставаясь в пределах весьма заурядного иносказательного обозначения "смельчака" как "льва". Разобрав его, мы перейдем к другим, более своеобразным, типам иносказаний и метафор, выделяемых классической арабо-мусульманской филологической теорией.
Классическое определение иносказания звучит так: «{Иносказание} в основе (’асл)[56] — это имя действия от джаза ал-макана йаджузу-ху “перейти за пределы некоторого места”: [так говорят], когда выходят за его границы.. Это было перенесено (нукила) на “переходящее слово” (калима джа’иза), то есть слово, перешедшее за свое изначальное (’аслийй) место... Так [сказано] в Асрар ал-балага [ал-Джурджани]»[57].
Что является "местом" для слова — местом, в которое оно может точно "попадать", оказываясь истинным (хакика), но которое оно может и перейти, став в таком случае иносказанием (маджаз)?
Мы говорили, что для отношения указания, как оно понимается в арабской филологической теории, характерен тот факт, что оно строится внутри слова, а не между словом и чем-то внешним ему. Например, выговоренность "лев" указывает не на льва как животное, а на свой смысл "данный зверь". Таково, как уже говорилось выше, нормативное указание, или указание по установлению, в котором выговоренность и смысл "совпадают" (татабук). Об этом совпадении мы говорили как о возможности "истинной переформулировки" выговоренности в смысл. Далее, арабо-мусульманская филологическая теория достаточно ясно и устойчиво фиксирует тот факт, что смысл выстраивается как некоторая "вычлененность" из более широкого смыслового поля. Это вычленение происходит как "обособление" (тахсис). Например, "лев" — это саб‘ мухассас «особый зверь»; эта особенность и может быть эксплицитно указана как «смелость».
Заметим, что мы рассматриваем отношение "указание на смысл", не выходя за пределы собственно слова. Слово оказывается целостной и самодостаточной структурой: слово может быть определено как «нечто обладающее смыслом», причем, чтобы обладать смыслом, слово не нуждается во внешних коррелятах — вещах, с которыми оно было бы сопоставляемо в качестве знака оных. Понимание (фахм) — это, собственно, исполнение (полное осуществление) сущности слова, когда смысл вполне выявляется благодаря выговоренности. Слово не может быть, если оно не понято. Слово не существует как знак вещи; слово существует как: понятость (и понятность) смысла благодаря выговоренности.
Сделаем небольшое отступление и (суммируя изложенное прежде) скажем: как выговоренность указывает на смысл, точно так же на смысл указывает и вещь. Отношение к смыслу оказывается изоморфным для вещи и для слова. Кроме всего прочего, это означает, что вещь в своем отношении к смыслу (то есть: в своей осмысленности) может описываться в той же терминологии, что и слово. Именно поэтому "вещь" столь часто в арабской мысли оказывается "понимаемым" (мафхум). Понимание вещи и есть придание ей осмысленности: вещь как явленное (захир) обретает благодаря этому свое внутреннее (батин). При этом внутреннее вещи, то есть ее смысл, есть ровно тот самый смысл, на который указывает выговоренность (правильного, то есть «истинного») слова. Понимание вещи и понимание смысла выговоренности оказываются существенно изоморфными процедурами.
Теперь рассмотрим истинное высказывание, в котором употреблено сравнение (ташбих): "Я встретил смельчака — мужа, отважного как лев". Мы можем сопоставить два слова, которые оба истинны (в смысле филологической теории), т.е. оба суть выговоренность, установленная-против своего смысла. Эти два слова — «лев»(выговоренность)/«отважный зверь»(смысл) и «смельчак»(выговоренность)/«отважный муж»(смысл).
Предположим теперь, что вместо истинного высказывания мы имеем дело с иносказательным. Оно будет звучать так: «Я встретил льва». Каким образом теперь будет наступать понимание?
Прежде всего покажем, чем такое указание на смысл (и соответственно понимание) не является.
Для нас будет достаточно
естественным стремиться объяснить
указание на смысл так, как то
предполагается схематикой теории
обозначения: некоторый знак указывается на
свое означаемое;
сдвиг значения — это сдвиг стрелки
указания с одного означаемого на другое;
таким образом, метафорическое указание
предполагает триаду знак-означаемое-означаемое![]() . Такой
триадой в нашем случае будет "лев"-"отважный
зверь"-"смельчак".
. Такой
триадой в нашем случае будет "лев"-"отважный
зверь"-"смельчак".
Понятно, что в иносказании («я
встретил льва») означаемое![]() («смельчак»)
опущено. Оно, если рассматривать
иносказание с точки зрения знаковой теории,
как раз и восстанавливается за счет того,
что арабо-мусульманская филологическая
теория называет «указанием по сопутствию»:
это — указание на смысл «отважный муж».
Слово, ставшее иносказательным, указывает
тем самым на свой метафорический (переносный)
смысл.
(«смельчак»)
опущено. Оно, если рассматривать
иносказание с точки зрения знаковой теории,
как раз и восстанавливается за счет того,
что арабо-мусульманская филологическая
теория называет «указанием по сопутствию»:
это — указание на смысл «отважный муж».
Слово, ставшее иносказательным, указывает
тем самым на свой метафорический (переносный)
смысл.
Построив такое объяснение переносного указания (еще раз повторим, вполне соответствующее аристотелевской модели: здесь "указание по сопутствию" и оказывается, собственно, метафорическим указанием в его полном объеме), сравним его с определением иносказания в классической арабо-мусульманской теории. Нам нетрудно будет заметить ряд расхождений.
Если рассматривать наше гипотетическое объяснение сути иносказания, которое мы только что выстроили, с точки зрения классической арабо-мусульманской теории, трактуя использованные термины так, как их понимает эта теория, то окажется, что мы построили отношение "указание" не между словом и его коннотатом, а между выговоренностью иносказательного слова ("лев") и смыслом ("отважный муж") истинного слова (того слова, место которого и должно занять иносказательное слово). Такое построение, однако, нарушает саму суть понимания отношения "указание на смысл" в классической арабо-мусульманской теории, — и как следствие, суть понимания иносказания.
Начнем с первого. Отношение «указание на смысл» понимается как внутреннее отношение слова. Выговоренность указывает на свой смысл внутри слова, а никак не "вовне" его. Теория различает три типа указания: установительное, указание благодаря включению и указание благодаря сопутствию. Только в третьем случае смысл, на который указывает выговоренность, называется "внешним" (харидж). В каком, однако, смысле "внешним"? Из пояснений[58] становится ясно, что сопутствующий смысл (как в нашем случае смысл "отважный человек" сопутствует выговоренности "лев") является внешним для смысла по установлению: он "выходит" за его "пределы". Между тем выходить за пределы установленного смысла не значит выходить за пределы слова — в том случае, конечно, если слово включает в себя не только смысл по установлению, но и некоторую иную (не обязательно более широкую, может быть, и более узкую[59] — в данном случае важно лишь, что иную, нежели "установленная") область смысла. Но именно это и является, согласно теории, условием для иносказательного понимания: слово (целиком слово, а не только выговоренность или отношение "указание") должно перейти за пределы своего места и занять чужое, ему не принадлежащее. Не принадлежащее по установлению, по тому закреплению смысла за выговоренностью, которое устанавливается дарителем языка.
Мы видели (см. Табл. 1), что любое слово как структура, образованная связью указания между элементами «выговоренность» и «смысл», всегда предполагает наличие не-прямого, не-истинного (в отмеченном выше смысле понятия "истинность") указания на смысл. Иначе говоря, слово как таковое всегда несет в себе метафорические смыслы. Это положение достаточно устойчиво фиксировалось как в самой филологической теории, так и за ее пределами[60]. Суть иносказания поэтому не собственно в таком указании на некий не-истинный смысл, а в том, что благодаря наличию такого указания слово целиком перенесено на "истинное место" другого слова.
Именно этого переноса слова
и не произошло в выстроенной нами триаде знак-означаемое-означаемое![]() . Слова остались каждое на своем
месте, а значит, назвать первое слово
иносказательным с точки зрения арабо-мусульманской
филологической теории нельзя. Нам
необходимо найти иное объяснение
иносказания.
. Слова остались каждое на своем
месте, а значит, назвать первое слово
иносказательным с точки зрения арабо-мусульманской
филологической теории нельзя. Нам
необходимо найти иное объяснение
иносказания.
Вместо того, чтобы сдвигать отношение указания, мы должны, в соответствии с определением, даваемым арабо-мусульманской теорией, "сдвинуть" целиком слово, таким образом, чтобы иносказательное слово "находилось" там, где находилось бы истинное слово, если бы оно было употреблено. В этом плане иносказание принципиально эквивалентно истинной речи (речи, основывающейся на указании на истинный смысл выговоренностей). Произнося "лев", мы понимаем "смельчак"; это понимание является результатом достаточно длинного пути, который выстраивается как цепочка указаний. Иносказательное понимание с этой точки зрения являет собой как бы противоположность истинностному пониманию: мы идем к явленному (захир), каковым является выговоренность "смельчак" — от явленного же (выговоренность "лев"), которое, однако, явлено так, что перестает быть явленным (согласно теории, карина «сопровождающее обстоятельство» блокирует нормативное понимание выговоренности «лев»). Ситуация иносказательного понимания в этом плане являет собой обратный переход: от скрытого (в результате воздержания от нормативного понимания выговоренность "лев" перестает быть явленной выговоренностью, превращаясь в скрытое — скрывая свое звучание) к явленному (выговоренность "смельчак").
Слово, употребленное не в прямом значении (в нашем случае "лев"/"отважный зверь"), оказывается как бы наложенным на истинное слово ("смельчак"/"отважный человек"). Внутри этой структуры может быть построена цепочка "указаний". Более того, связанность элементов этой структуры отношением указания является основанием для их единства — для их объединения в пределах одного иносказательного слова. Иначе говоря, мы не имеем права объединить все четыре элемента в единых рамках, если не покажем, что они предполагают друг друга как обязательные. Поэтому цепочка "указаний" внутри нашего слова не только может, но и должна быть выстроена.
"Лев" (выговоренность) указывает на "отважный зверь" (смысл) по установлению; "отважный зверь" указывает на "отважный муж" (указание смысла на смысл) по сопутствию; "отважный муж" (смысл) отсылает нас к "смельчак" (выговоренность) как перевернутое отношение указания по установлению (в каковом указании выговоренность "смельчак" указывала бы на свой смысл "отважный муж"). Отметим два обстоятельства, которые, характерны для ситуации иносказания. Во-первых, последний переход является обратным в отношении любых "обычных" переходов: вместо перехода от выговоренности к смыслу или от смысла к смыслу, т.е. от явленного к скрытому или от одного скрытого к другому скрытому, мы переходим от скрытого к явленному. И во-вторых, указание по сопутствию оказывается не самим метафорическим указанием в его целостности, как то предполагалось нашей первой реконструкцией, а лишь одним из его звеньев; для того, чтобы указание в ситуации иносказания состоялось, не менее важны и другие звенья. Далее, само сопутствующее указание может быть рассмотрено как сложное отношение, распадающееся на ряд указаний. Здесь, впрочем, мы делаем достаточно рискованный шаг к рекурсии и потому должны вполне отдавать себе отчет в опасности порочного круга: объяснение указания по сопутствию как сложного отношения предполагает использование одного из видов иносказательного указания, а именно, указания посредством включения.
Таким образом, мы получаем четырех-элементную, а не трех-элементную (как в нашей первоначальной гипотетической реконструкции) структуру, объясняющую процесс построения и понимания иносказания. Иносказательное слово оказывается единством сложной и многоступенчатой цепочки переходов от выговоренности к смыслу, от смысла к смыслу, от смысла к выговоренности. Внутри иносказательного слова мы имеем единство двух истинных указаний. Перенос (накл), который составляет суть иносказательного высказывания, это перенос одного истинного указания на "место" другого истинного указания. Если в описываемой Аристотелем метафоре понимание наступает, когда от употребленного в переносном значении слова мы сумели перейти к подразумеваемой вещи (или ее идее), то в данном случае принципиально, что завершением понимания является выявление не только смысла, на который переносно указывает выговоренность (что и могло бы соответствовать тому месту, что занимает идея в описываемой Аристотелем метафоре), но и самой выговоренности, этому смыслу соответствующей как истинная. Понимание наступает только после перехода к состоянию истинного указания, или указания на смысл по установлению, для которого необходимы оба элемента, выговоренность и смысл. Когда понята аристотелевская метафора, мы остаемся с метафорическим словом и устанавливаем для него новый, метафорический смысл (собственно, благодаря этому метафорическому смыслу оно и является метафорическим словом). Согласно арабо-мусульманской теории, мы понимаем метафору, когда вполне переводим ее в термины нормативного указания по установлению, в котором уже не фигурируют отправные участники метафорического высказывания.
Прежде чем двигаться дальше, отметим принципиальный момент, характерный для иносказания: оно передает качество, не называя его. Качество, которое подразумевает говорящий, включено в смысл (как иносказательного, так и истинного слова), но — именно поэтому — не передано в выговоренности. Выговоренность и смысл не совпадают номинально; имя, которым зафиксирована выговоренность, всегда иное, нежели имена, которыми передается ее смысл. Поскольку иносказание построено на переходе от части смысла иносказательного слова к (совпадающей с ней номинально) части смысла истинного слова, понятно, что именно это, передаваемое в таком иносказании, имя не будет зафиксировано как выговоренность (ибо оно включено в смысл).
Из этого также вытекает, что
иносказание не дает нам (в отличие от
метафоры в ее аристотелевском понимании)
никакого нового знания. Если бы мы понимали
иносказание «я встретил льва» по-аристотелевски,
мы бы сказали, что иносказательное слово «лев»
становится здесь родом, включающим не
только «отважных зверей», но и «отважных
мужей». Именно такое родовое расширение
понятия, благодаря которому иносказание
становится понятным, мы и обозначили в
нашей гипотетической «реконструкции по
Аристотелю» как сдвиг значения с означаемого
на означаемое![]() . Поскольку
происходит подобное расширение, Аристотель
и говорит, что иносказание дает нам прирост
знания: для нас «лев» после того, как мы
узнали иносказательное выражение «я
встретил льва» и поняли его — уже не тот «лев»,
что был известен нам до этого. Но для арабо-мусульманской
теории иносказания смысл, передаваемый
иносказательно, — это именно тот смысл, что
передавался бы истинной формой
высказывания, в которую иносказание всегда
переводимо (точнее, согласно требованиям
теории, должно быть переводимо). В
иносказании, однако, заключено то, чего нет
в истинной форме высказывания, а именно —
возможность перехода к истинному
высказыванию, а значит, называния того, что
не названо. То, что не названо в иносказании
и что составляет цель иносказания,
благодаря своей понятности
— несмотря на невыговоренность — для
слушателя обретает большую "утвержденность"
(субут,
исбат)
— основное качество истинности в ее
понимании арабо-мусульманской культурой.
Парадокс иносказания в том, что оно,
оказывается, обладает большей
доказательностью, нежели истинная форма
выражения смысла: «{Златоусты единодушны в
том, что иносказание (маджаз)
и метонимия (кинайа) более красноречивы (аблаг),
нежели истинное и прямое (тасрих)
[называния], поскольку в них совершается
переход (интикал)
от того, чему нечто сопутствует, к
сопутствующему, а это — все равно что
назвать вещь через ясное ее доказательство[61]
(баййина)}, ведь
наличие того, чему нечто сопутствует,
обусловливает существование
сопутствующего ввиду невозможности
оторвать то, чему нечто сопутствует, от его
сопутствующего... Утверждение о том, что
иносказание и метонимия более красноречивы,
не означает, что в них есть что-то
обусловливающее в действительности какое-то
дополнение смысла (зийада фи ал-ма‘на),
которого бы не было в истинном и прямом [называниях].
Нет, имеется в виду, что они передают
дополнительное подтверждение
утвержденности (зийадат та’кид
ли-л-исбат).
Заимствование (исти‘ара)
дает понять, что атрибут в уподобляемом
достигает грани совершенства, как в том,
чему уподобляют, и он никак не ущербен, как
то было бы понято и из уподобления. Смысл же
сам по себе не меняется, когда его выражают
более красноречиво. Именно это имеет в виду
шейх ‘Абд ал-Кахир [ал-Джурджани], когда
говорит, что выражение “я
видел льва”
отличается от выражения “я
видел мужа, который равен со львом по отваге”
не тем, что в первом передано
дополнительное равенство его со львом по
отваге, не переданное во втором; нет,
превосходство [первого] заключается в том,
что первое передало такое подтверждение
утверждения этого равенства, которое не
передано вторым»[62].
. Поскольку
происходит подобное расширение, Аристотель
и говорит, что иносказание дает нам прирост
знания: для нас «лев» после того, как мы
узнали иносказательное выражение «я
встретил льва» и поняли его — уже не тот «лев»,
что был известен нам до этого. Но для арабо-мусульманской
теории иносказания смысл, передаваемый
иносказательно, — это именно тот смысл, что
передавался бы истинной формой
высказывания, в которую иносказание всегда
переводимо (точнее, согласно требованиям
теории, должно быть переводимо). В
иносказании, однако, заключено то, чего нет
в истинной форме высказывания, а именно —
возможность перехода к истинному
высказыванию, а значит, называния того, что
не названо. То, что не названо в иносказании
и что составляет цель иносказания,
благодаря своей понятности
— несмотря на невыговоренность — для
слушателя обретает большую "утвержденность"
(субут,
исбат)
— основное качество истинности в ее
понимании арабо-мусульманской культурой.
Парадокс иносказания в том, что оно,
оказывается, обладает большей
доказательностью, нежели истинная форма
выражения смысла: «{Златоусты единодушны в
том, что иносказание (маджаз)
и метонимия (кинайа) более красноречивы (аблаг),
нежели истинное и прямое (тасрих)
[называния], поскольку в них совершается
переход (интикал)
от того, чему нечто сопутствует, к
сопутствующему, а это — все равно что
назвать вещь через ясное ее доказательство[61]
(баййина)}, ведь
наличие того, чему нечто сопутствует,
обусловливает существование
сопутствующего ввиду невозможности
оторвать то, чему нечто сопутствует, от его
сопутствующего... Утверждение о том, что
иносказание и метонимия более красноречивы,
не означает, что в них есть что-то
обусловливающее в действительности какое-то
дополнение смысла (зийада фи ал-ма‘на),
которого бы не было в истинном и прямом [называниях].
Нет, имеется в виду, что они передают
дополнительное подтверждение
утвержденности (зийадат та’кид
ли-л-исбат).
Заимствование (исти‘ара)
дает понять, что атрибут в уподобляемом
достигает грани совершенства, как в том,
чему уподобляют, и он никак не ущербен, как
то было бы понято и из уподобления. Смысл же
сам по себе не меняется, когда его выражают
более красноречиво. Именно это имеет в виду
шейх ‘Абд ал-Кахир [ал-Джурджани], когда
говорит, что выражение “я
видел льва”
отличается от выражения “я
видел мужа, который равен со львом по отваге”
не тем, что в первом передано
дополнительное равенство его со львом по
отваге, не переданное во втором; нет,
превосходство [первого] заключается в том,
что первое передало такое подтверждение
утверждения этого равенства, которое не
передано вторым»[62].
Отметим теперь существенный результат нашего исследования, который заключается в следующем. Мы рассматривали одно и то же иносказание «я встретил льва»; это совпадение не случайно, поскольку данный хрестоматийный пример приводится в арабо-мусульманских филологических штудиях, будучи, по всей видимости, заимствован именно из переводов аристотелевских текстов. Речь идет, таким образом, не просто о совпадении независимо проложенных путей, когда мы могли бы сказать, что две поэтологические традиции, античная и арабо-мусульманская, пришли к содержательно идентичным результатам, используя очевидное сравнение смелого человека и смелого зверя, но о прямом заимствовании, что как будто лишает нас права искать какие-то существенные особенности выстраивания иносказания в арабо-мусульманской традиции, — ведь если бы такие существенные особенности имелись, они бы, согласно распространенному взгляду, блокировали использование содержательно-идентичных иносказаний. Теперь, после нашего исследования, мы можем сказать по этому поводу следующее. Иносказания «я встретил льва» в двух случаях действительно идентичны номинально; но означает ли сам факт номинального совпадения также и содержательную идентичность? Мы видели, что в двух случаях использованы различные процедуры обращения с одним и тем же высказыванием, и хотя номинально совпадающее высказывание понимается в обоих случаях иносказательно, более того, сам номинальный результат понимания также совпадает (и в том и в другом случае подо «львом» подразумевается «смельчак»), от одной и той же исходной точки к одной и той же цели в двух случаях ведут разные пути. Однако не составляют ли также и сами эти пути содержание иносказания? И если это так, то можем ли мы говорить, что «я встретил льва» — это содержательно идентичное иносказание в двух случаях? Не окажется ли, что процедура обращения со словами каким-то существенным образом формирует и то, что мы бы назвали содержанием этих двух высказываний, — а значит, номинальное совпадение только маскирует содержательное расхождение? На эти вопросы следует дать скорее всего положительный ответ. Но вместе с тем может быть и так, что такая замаскированность нам только на руку, — ведь если мы смогли разглядеть за этим номинальным совпадением действительное содержательное расхождение, от этого влияние процедуры обращения со словами на их содержание стало только нагляднее и выиграло в своей доказательной силе.
Рассмотренный тип иносказательного высказывания описывается в теории как "заимствование, основанное на уподоблении" (исти‘ара йанбани ‘ала ат-ташбих). Реконструированная нами схема иносказательного понимания включает все необходимые элементы уподобления (ташбих), как они описываются в классической арабо-мусульманской филологии: "лев" и "смельчак" — "то, чему уподобляют" (мушаббах би-хи) и "уподобленное" (мушаббах) соответственно, "отважный" — "наличествующий в них обоих смысл" (ма‘нан ка’им би-хима), или «лик уподобления» (ваджх ат-ташбих)[63]. Далее, можно утверждать, что все типы метафоры, выделяемые классической арабской теорией, описываются таким же образом. Именно поэтому они включают некоторые типы метафорического сказывания, исключаемые родо-видовым мышлением, и не включают некоторые другие, которые предполагаются тем как обязательные: "общий смысл" (ма‘нан муштарак) не является родом для видов[64].
Отметим теперь другой аспект интересующей нас здесь проблемы, которую мы поставили как вопрос: является ли для арабо-мусульманской традиции адресация к смыслу столь же фундаментальной, как для западной — адресация к вещам? Рассматривая иносказание «я встретил льва», ал-Джурджани затрагивает интереснейший вопрос о ее переводе на другие языки. В каком случае будет иметь место «перевод» (тарджама), а в каком «новое высказывание» (исти’наф калам) на другом языке, — так ставит вопрос этот мэтр арабской риторики[65], подразумевая под переводом эквивалентную передачу высказывания на другом языке, в отличие от неэквивалентной «новой речи». Постановка этой проблемы заинтересует нас с точки зрения того, в чем арабский ученый видит основание эквивалентности двух высказываний (и соответственно в чем заключается его нарушение, делающее высказывание неэквивалентным). В том случае, если в переводе употреблено слово, имеющее смысл «крайне отважный», но при этом не упомянуто имя, которое в языке перевода назначено для «льва», то это будет не перевод, а «новое высказывание», говорит ал-Джурджани, подчеркивая самостоятельный характер этого высказывания (а не его эквивалентность переводимому) тем, что изъясняющийся на другом языке высказывает его в таком случае «от себя» (мин ‘инда нафси-хи). Что же исчезнет в таком псевдопереводе по сравнению с тем, что ал-Джурджани считает подлинным переводом?
Заметим прежде всего, что отсылка к тому, что мы могли бы интерпретировать с «западной» точки зрения, то есть с точки зрения теории значения, как отсылку к вещам, сохраняется в том высказывании, которое арабская теория считает псевдопереводом. С точки зрения, высказанной Г.Фреге, как раз «я встретил крайне отважного человека» было бы именно переводом, поскольку сохраняет «значение» высказывания (отсылка к означаемому «смелый человек»), теряя его «смысл» (различные языковые средства выражения одного и того же значения)[66]. Почему же для ал-Джурджани дело обстоит ровно противоположным образом? Отвечая на этот вопрос, нам предстоит сравнить два понимания эквивалентности высказываний, высказанные в арабской и западной традициях. Непременным условием корректности такого сравнения должно быть следующее. Мы должны постоянно помнить об опасности перевести положения одной традиции на язык другой и интерпретировать их, исходя не из аутентичного их понимания, но из того понимания, которое диктуется такой их транслированностью в иную традицию. Примером подобной трансляции, в которой совершается незаметная подмена терминов, стало бы в данном случае следующее объяснение. Ал-Джурджани, как и Фреге, различает два аспекта высказывания: то, к какой вещи оно нас отсылает, и то, как эта отсылка выражена. Поскольку в данном случае у ал-Джурджани речь идет о риторическом высказывании, то для него именно второй аспект представляет особую ценность, а потому он и говорит, что прямая отсылка к вещи не будет переводом, поскольку при такой передаче потеряется именно то, что здесь интересует арабского теоретика, — способ выражения. Так что по существу между арабской и западной традицией вовсе нет в этом вопросе никакого расхождения, но напротив, наблюдается как раз полное согласие; речь идет просто о разных аспектах выражения одной и той же мысли, к тому же сформулированных в разных системах терминологии. Но коль скоро саму мысль мы уже ухватили, нам не составит труда преодолеть и терминологический разрыв. Так, в том, что ал-Джурджани называет «новой речью», мы легко узнаем привычный нам «интерпретирующий перевод», а в том, что он называет «переводом», столь же легко увидим «буквальный перевод», или «подстрочник»: и то и другое на самом деле, скажем мы, является переводом, но разной степени точности; так мы выясним, что ал-Джурджани имеет в виду ровно то же самое, что и мы, только выражает свою мысль иначе. Мы так могли бы подытожить рассуждения: несмотря на номинальное расхождение, два случая описания проблемы перевода содержательно, т.е. по существу своему, идентичны. Отметим этот вывод, поскольку он понадобится нам дальше.
Приведенное рассуждение, даже если оно в действительности не реализовано в сравнительных штудиях, тем не менее является, выражаясь языком синэргетики, виртуальным: оно вполне могло бы быть реализовано при определенных условиях (так, оно стало реальным в нашем тексте) и с этой точки зрения ничем не отличается от массы объяснений, которые строятся в сравнительных исследованиях подобным же образом. Мы можем, наверное, с полным основанием сказать, воспользовавшись терминологией арабского филолога, что не произвели «новую речь от себя», а лишь «перевели» столь распространенный способ работы с инокультурным «материалом» в термины обсуждаемой нами ситуации. Посмотрим теперь, что оказалось безнадежно потерянным при такой как будто весьма убедительной универсалистской трактовке, и почему именно состоялась эта потеря.
Разбирая иносказание «я встретил льва», ал-Джурджани говорит, как мы видели выше, что по сравнению с истинной формой высказывания («я встретил смельчака») в иносказании нет никакого «дополнительного смысла»; этот тезис можно считать общепринятым, поскольку его повторяют без оговорок о каких-то разногласиях в традиции и ат-Тафтазани, и ас-Суйути. Этот тезис как будто весьма удачно совпадает с тем, как понимает различие между «значением» и «смыслом» Фреге, поскольку, если интерпретировать ал-Джурджани в терминах фрегианской теории, окажется, что он сообщает нам, что в иносказании не создается новых значений. При таком как будто бы имеющем место согласии между двумя теоретиками как мы можем интерпретировать тот факт, что они приходят к прямо противоположным выводам? Прибегнем ли мы к гипотезе жанровой разнородности материала, рассматриваемого ими (как сделали выше) или сможем увидеть что-то еще?
Зададим такой вопрос: оказывается ли наша фрегианская интерпретация рассуждения ал-Джурджани вполне последовательной? Если для тезиса об отсутствии «дополнительного смысла» в иносказании (формулировка ал-Джурджани) мы смогли обнаружить параллель во фрегинаском ее толковании, сказав, что в иносказании не создается новых значений, то что в рассуждении ал-Джурджани станет параллелью для второго, не менее важного фрегианского тезиса, — тезиса о том, что различие между двумя случаями является чисто «смысловым» (во фрегианском значении термина «смысл»), то есть чисто языковым? Ведь первый тезис у самого Фреге немыслим без второго, и наша фрегианская интерпретация рассуждения ал-Джурджани не может быть признана имеющей право на существование, если останется однобокой и не будет дополнена второй параллелью.
На роль такой параллели у ал-Джурджани может претендовать только его рассуждение о том, что в иносказании (точнее, в том его виде, который именуется исти‘ара «заимствование» и который мы здесь и разбираем) передается «дополнительная подтвержденность» смысла. Эта дополнительная подтвержденность, как мы уже говорили и как еще будем говорить, состоит в возможности отослать к этому смыслу не посредством истинного указания, но такого, при котором будет выполнена следующая процедура. Во-первых, будет осознано, что мы имеем дело с заимствованным словом, а не с употребленным в его истинном значении (это достигается, как говорилось, благодаря «сопровождающим обстоятельствам»); во-вторых, для этого заимствованного слова будет выстроено указание его выговоренности на его смысл по установлению (что всегда возможно для любого слова); в-третьих, от этого истинного смысла заимствованного слова будет совершен переход к истинному смыслу того слова, вместо которого употреблено заимствованное (этот переход совершается благодаря «указанию по сопутствию»); в четвертых, для этого смысла мы укажем соответствующую ему выговоренность (что также всегда возможно, если найденным нами на третьем шаге смысл действительно правильный, то есть тот, что подразумевался автором иносказания, поскольку истинному смыслу всегда соответствует какая-то выговоренность). Эту последовательность шагов можно выразить и так: мы должны построить две параллельные структуры указания выговоренности на смысл, каждая из которых является «истинной» (выговоренность указывает на свой смысл по установлению), причем от смысла первой структуры возможен переход к смыслу второй структуры благодаря некой общности этих смыслов[67]. Вопрос, который нас теперь интересует, звучит так: составляет ли описанная процедура обращения со словами, включая ясно описанные шаги, не зависящие от конкретного содержания высказываний и в этом смысле формальные, — составляет ли эта процедура аналог тому, что Фреге называет «языковой разницей» в выражении эквивалентных значений? Можем ли мы, таким образом, счесть выполнение или невыполнение описанной процедуры параллелью для того, что было бы «смысловым различием» при нашем гипотетическом фрегианском толковании рассуждения ал-Джурджани?
А почему бы и нет, спросит нас читатель, что помешает нам именно так интерпретировать ал-Джурджани? Разве то, что он описывает, не имеет дело с собственно языковыми реалиями (выговоренность, смысл, указание, связывающее их в слово)? Почему же нельзя счесть то, что он сказал, обсуждением «смыслового различия» во фрегианском значении термина?
Безусловно, можно. Отметим этот момент: до сих мы как будто не встречали признаков, заставляющих нас усомниться в оправданности нашей гипотетической интерпретации ал-Джурджани «через Фреге». Трансляция понятий одной культуры в понятийно-мыслительное поле другой как будто доказала свою правомерность, а тем самым и подтвердила универсальность мыслительно-теоретического аппарата этой «другой» (т.е. западной) культуры, который, как нас убеждает распространенное мнение, хотя и культурно-обусловлен в плане своего генезиса, тем не менее совершенно универсален в плане приложения, поскольку задуман и способен правильно интерпретировать вовсе не только явления родственной ему культуры, но также и любые инокультурные феномены. Тем самым как будто была подтверждена возможность использовать некий культурно-нейтральный аппарат, анализируя «материал» чужой культуры, «ухватывая» упрятанные в нем мысли, освобождая их от культурно-специфической шелухи и представляя на наше обозрение готовое ядрышко идеи, не зависящее от словесных оберток.
Надеемся, читатель признает как факт нашу максимальную лояльность этой точке зрения: мы сделали все, чтобы до конца провести ее, использовали любую возможность, чтобы проинтерпретировать арабо-мусульманский «материал» в терминах «чистой теории», на роль которой претендовали у нас фрегевские построения. До сих пор наша гипотетическая интерпретация была успешной. Но как и в случае с интерпретацией терминов далил, мадлул, далала в их «межкультурном» звучании, осуществленной ван Эссом (см. примеч.45, 47), успеху нашего истолкования положен предел. И положен он самой арабо-мусульманской теорией, будучи воплощенным в положении, которое является одним из основополагающих в обсуждении самой категории «заимствование» (исти‘ара) и которое поэтому никак не может (по крайней мере, не должно) быть намеренно проигнорировано или случайно не замечено.
Речь идет о различении понятий «выговоренностное заимствование» (исти‘ара лафзиййа) и «смысловое заимствование» (исти‘ара ма‘навиййа), с которого ал-Джурджани начинает рассмотрение категории «заимствование». Определив «заимствование в целом» как такую ситуацию, когда «языковое установление для выговоренности изначального [смысла] (лафз ал-’асл) общеизвестно, и свидетельства указывают на то, что именно для него оно изначально и было установлено, а затем поэт или кто-то еще используют его не для этого изначального [указания на смысл], перемещая его каким-то необязательным (гайр лазим) образом на другое место, где она становится как бы вещью, взятой взаймы (‘ариййа)»[68], ал-Джурджани далее делит его на «такое, в котором перенос сообщает нечто новое (ли-накли-хи фа’ида)» и такое, в котором ничего нового слушатель не узнает[69]. Первое и оказывается «смысловым», а второе — «выговоренностным» заимствованием, причем очень скоро ал-Джурджани сообщает, что только первое, в отличие от второго, «по истине» является заимствованием, и далее ведет речь исключительно о нем[70]. Вопрос заключается в том, сможем ли мы, оставаясь в рамках принятых в нашей гипотетической интерпретации допущений и условностей, понять «по-фрегиански» это различие, которое ал-Джурджани проводит между «смысловым» и «выговоренностным» заимствованиями.
На этот вопрос придется ответить
отрицательно. Ал-Джурджани приводит
следующий пример «выговоренностного
заимствования»: если вместо шафа,
означающего «губу» у человека, будет
употреблено джахфала,
означающее то же самое, но у лошади, или
наоборот, слушатель не будет сообщено
ничего нового, поскольку выговоренности шафа
и джахфала
указывают на один и тот же смысл, а именно,
на тот же самый член тела, но у разных видов
живых существ, и потому джахфала,
употребленное для указания на «губу»
человека, будет иносказанием (маджаз),
но не даст никакого иного «смысла» по
сравнению с шафа,
вместо которого было употреблено[71].
Излагая это высказывание ал-Джурджани во
фрегианской терминологии, мы бы сказали,
что имеем в данном случае одно и то же
значение («губа») и разные смыслы
высказывания, поскольку джахфала
и шафа отсылают нас к одному и тому же
предмету, но ведут к нему разными путями,
подобно тому как «утренняя звезда» и «вечерняя
звезда» означают одно и то же, имея разный
смысл. И вот теперь главное: с точки зрения
нашей фрегианской интерпретации
иносказательная подстановка шафа![]() джахфала
ничем не отличается от подстановки «лев»
джахфала
ничем не отличается от подстановки «лев»![]() «храбрый
человек», с разбора которой мы начали
разговор о проблеме сохранения
эквивалентности высказываний при переводе,
поскольку и там и тут сохранено значение
при изменении смысла. И между тем ал-Джурджани
называет первую подстановку эквивалентной
(она не меняет смысл), тогда как вторая
оказывается с его точки зрения создающей «новую
речь». Если бы мысль ал-Джурджани по сути (содержательно)
совпадала с фрегевской, различаясь с ней
только терминологически (номинально), мы
должны были бы видеть в обоих случаях
одинаковую оценку[72].
Заметим и другое: в первом из разбиравшихся
случаев (подстановка «храбрый человек»
вместо «лев» при переводе на другой язык) мы
получили, как говорит ал-Джурджани, новый
смысл, и этот «новый смысл» ал-Джурджани мы
проинтерпретировали именно как «изменение
смысла» по-Фреге (с сохранением значения).
Но теперь, обсуждая подстановку шафа
«храбрый
человек», с разбора которой мы начали
разговор о проблеме сохранения
эквивалентности высказываний при переводе,
поскольку и там и тут сохранено значение
при изменении смысла. И между тем ал-Джурджани
называет первую подстановку эквивалентной
(она не меняет смысл), тогда как вторая
оказывается с его точки зрения создающей «новую
речь». Если бы мысль ал-Джурджани по сути (содержательно)
совпадала с фрегевской, различаясь с ней
только терминологически (номинально), мы
должны были бы видеть в обоих случаях
одинаковую оценку[72].
Заметим и другое: в первом из разбиравшихся
случаев (подстановка «храбрый человек»
вместо «лев» при переводе на другой язык) мы
получили, как говорит ал-Джурджани, новый
смысл, и этот «новый смысл» ал-Джурджани мы
проинтерпретировали именно как «изменение
смысла» по-Фреге (с сохранением значения).
Но теперь, обсуждая подстановку шафа![]() джахфала,
для которой ал-Джурджани констатирует
отсутствие нового смысла, мы вновь в нашей
фрегианской интерпретации вынуждены
говорить об «изменении смысла». Такое
принципиальное несоответствие
интерпретируемой системы терминологии
интерпретирующей не может не насторожить:
что-то должно быть не так, коль скоро одна и
та же ситуация порождает противоположные
интерпретации.
джахфала,
для которой ал-Джурджани констатирует
отсутствие нового смысла, мы вновь в нашей
фрегианской интерпретации вынуждены
говорить об «изменении смысла». Такое
принципиальное несоответствие
интерпретируемой системы терминологии
интерпретирующей не может не насторожить:
что-то должно быть не так, коль скоро одна и
та же ситуация порождает противоположные
интерпретации.
Положение, в которой мы оказались, допускает двоякое решение. Мы можем продолжать утверждать, что наша интерпретация была, несмотря ни на что, правильной, а значит, это ал-Джурджани допускает в своих рассуждениях непоследовательность в употреблении терминологии и противоречие в выводах. К этому нас могло бы побудить отнюдь не только тщеславие и желание во что бы то ни стало отстоять однажды придуманную интерпретацию. Мотивы такого упорного нежелания уступить свидетельству текста на самом деле лежат гораздо глубже и вовсе не субъективны. Ведь вместе с отказом от этой позиции мы должны, — если, конечно, хотим быть последовательны, то есть продумывать все следствия предпринимаемых шагов и проверять на оправданность те допущения, из которых мы сознательно или неосознанно исходим, формулируя свои доводы, — мы должны подвергнуть сомнению и само право нашего разума судить о содержательной эквивалентности сравниваемых разнокультурных теоретических выкладок. Ведь именно на априорное представление о такой возможности опиралась та уверенность, с какой мы «схватили» мысль ал-Джурджани и принялись вертеть ее так и эдак, приспосабливая к своему пониманию. Именно это представление и завело нас в тупик, когда то, что должно было бы быть с нашей точки зрения одинаковым, оказалось диаметрально противоположным. Что представление об общечеловеческом единстве разума как сущностном единстве мышления, позволяющем увидеть за любыми словами суть мысли (если, конечно, она там имеется и если мы достаточно прозорливы), слишком распространено, и не только среди философов, лишний раз говорить не приходится. Не просто нежелание, но также и невозможность отказаться от этого представления и вызывает то упорство, с каким тут и там соглашаются признать «непоследовательность» изучаемой мысли, лишь бы не остаться без этого, кажется, основополагающего тезиса, — ведь без него объективность нашего мышления как будто была бы поставлена под сомнение. И в самом деле, что значат нюансы раздумий арабского теоретика, жившего в XI веке, в сравнении с этим фундаментальным обоснованием рациональности!
Второе решение, которое может быть принято в сложившейся ситуации, заключается в том, чтобы всерьез отнестись к свидетельству инокультурного текста, не уступившего нашей интерпретации. Эта серьезность будет означать, что нам придется действительно усомниться в правильности нашей интерпретации содержания разбиравшейся теории, и не просто в ее правильности, но и нашем априорном праве на такую интерпретацию. Но как при этом избежать разрушительного сомнения в самом основании рациональности, грозящего лишить нас последнего основания осмысленности высказываемых положений, последнего основания для возможности разговора с инокультурным текстом? Как мы можем надеяться понять этот текст, если отказываемся от такого права?
Выход видится в том, чтобы ввести в поле нашего зрения то, что не было нами замечено, точнее, что не могло быть замечено при выстраивании нашей фрегианской интерпретации рассуждений ал-Джурджани. Между теми двумя случаями, которые ал-Джурджани оценивает противоположным образом и которые мы в нашей интерпретации были вынуждены оценить одинаково, и в самом деле имеется существенная разница. Однако она не могла быть увидена постольку, поскольку мы, признавая номинальное отличие предмета нашей интерпретации от интерпретирующей теории, считали в то же время априорно возможным проникновение в содержание интерпретируемой теории без всяких предварительных условий[73]. Именно игнорирование этих предварительных условий и привело в конечном счете к тому, что противоположное предстало для нас идентичным; именно оно исказило для нас содержание интерпретируемой теории, представив его «с точностью до наоборот», как раз тогда, когда мы были уверены, что от номинального различия перешли на уровень содержательного совпадения, отодвинули, если использовать известный образ, завесу слов, чтобы увидеть за ними чистую мысль. Оказалось, что содержательный уровень не является еще как таковой уровнем «чистой мысли», безразличной к культурно-обусловленной специфике.
Что же должно быть увидено, чтобы ситуация была исправлена?
Выше (стр.3) мы говорили о том, что отличительной чертой «заимствования», как оно понимается в арабо-мусульманской филологической теории, является осуществление вполне определенной процедуры понимания смысла иносказания. Что это именно процедура, свидетельствует тот факт, что последовательность выполняемых шагов и их суть совершенно не зависят от конкретного содержания тех смыслов и выговоренностей, которые конфигурируются в ходе их выполнения[74]. Но не наоборот: смысл, получаемый в результате понимания иносказания вообще и заимствования в частности, как раз принципиально зависит от того, какой процедуре следует слушатель или читатель, воспринимающий текст. В «выговоренностном» и «смысловом» заимствованиях понимание, как оно описывается ал-Джурджани, наступает в результате осуществления совершенно разных процедур. Процедура, характерная для смыслового заимствования, описана выше и будет схематически отображена ниже в ходе нашего анализа одной характерной метафоры; к этой схеме (схема 6) мы и отсылаем заинтересованного читателя. Здесь же приведем схематическое изображения для той процедуры, что характерна для понимания «выговоренностного заимствования».
Схема 1
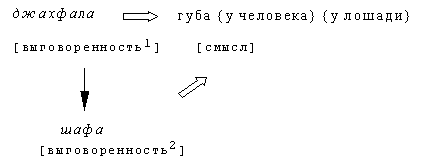
Для этой процедуры понимания принципиально, что обе выговоренности, как выговоренность1, так и выговоренность2, указывают на один и тот же смысл. Отличие этой процедуры от той, что управляет пониманием смыслового заимствования, таким образом совершенно очевидно: мы не имеем здесь двух смыслов, между которыми возможен был бы переход, как не имеем и перехода от второго смысла к выговоренности. Вместо этого у нас имеется простая подстановка выговоренностей джахфала®шафа, возможная постольку, поскольку их смысл совпадает.
Прежде чем двигаться дальше, продолжим нашу рефлексию интерпретаций и представим, как выглядело бы понимание выговоренностного иносказания с точки зрения теории значения, которая может быть охарактеризована не только как фрегианская, но и, шире, как «западная», во всяком случае, отражающая в интересующем нас аспекте аристотелевские интенции понимания этой проблемы ничуть не меньше, чем фрегианские.
Схема 2
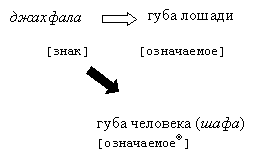
Для нас совершенно не составило труда проинтерпретировать выговоренностное заимствование ал-Джурджани в терминах описываемого Аристотелем переноса значения с вида на вид за счет родового расширения слова: джахфала может означать то же, что и шафа, благодаря тому, что мы под джахфала понимаем теперь «губу вообще», а не частную «губу лошади». Благодаря такому переносу, кстати говоря, возможно сокращение числа слов в языке и устранение ненужного с точки зрения родо-видового мышления изобилия видовых обозначений.
Посмотрев на схемы 2 и 3, мы увидим, что интерпретация обоих типов заимствования (выговоренностное и смысловое), выделяемых и принципиально различаемых арабо-исламской теорией, осуществляется с точки зрения «западного» подхода согласно одной и той же процедуре и выглядит идентично. Если схемы 2 и 3 процедурно идентичны, то схемы 1 и 4 процедурно различны. Так на этом, процедурном уровне совершенно отчетливо отражается то различие, которое оказалось безнадежно спрятанным при нашем «априорно-содержательном» подходе к интерпретации инокультурной теории. Этим же продемонстрировано и процедурное основание того факта, что мы в нашей фрегианской интерпретации сочли тождественным то, что для аутентичной точки зрения различно: процедура обращения со смыслами, воплощенная в схемах 2 и 3, отождествляет то, что различено на схемах 1 и 4 благодаря различию применяемых в них процедур.
На этом наш вопрос в том виде, в каком мы его поставили, можно считать исчерпанным. Но мы попытаемся чуть углубить понимание соотношения между процедурами, характерными для «западного» и «арабо-мусульманского» подходов к пониманию иносказаний. Зададимся теперь таким вопросом: почему, собственно, ал-Джурджани не применяет для понимания «выговоренностного заимствования» ту процедуру, что отражена на схеме 2, а отдает предпочтение той, что воплощена на схеме 1? Попытаемся, иначе говоря, найти основание различия процедур, отраженных на двух типах схем; хотя это не входит в непосредственные задачи этой статьи, тем не менее позволяет расширить ее горизонт.
Ближайшим образом основание различия между процедурами, отраженными на схемах 1 и 2, можно охарактеризовать как неиспользование в первом случае и использование во втором родо-видового механизма осмысления соотношения между понятиями. Для ал-Джурджани «губа» не может стать таким родом, каким она становится в отраженной на схеме 2 интерпретации. Для него, как это видно из его объяснений и всего хода рассуждения[75], тождество «губы-лошади» и «губы-человека» состоит в том, что они равным образом вычленяются из тела живого существа, составляя анатомически один и тот же орган. Поэтому джахфала и шафа именно эквивалентны по смыслу, а не составляют разные виды одного рода. Возможность родового расширения значения «губа-лошади» до «губа вообще» оказывается таким образом заблокированной.
Что верно для объяснения контраста схем 1 и 2, то верно и для объяснения процедурного различия схем 3 и 4. В самом деле, могло бы показаться, что различие между ними несущественное, поскольку пара «отважный зверь-отважный муж» фигурирует на обеих схемах, и если в первом случае она составляет нечто единое, некий новый род «отважное существо», до которого мы расширяем значение слова «лев», понимая иносказание, то почему бы ему не быть возможным во втором случае? Иначе говоря, отличается ли схема 4 от схемы 3 произвольно (потому что так захотелось практикам и теоретикам, поэтам и поэтологам арабо-мусульманской культуры, которые таким вот образом нарушили родо-видовую схематику и изобрели некий экзотический обходной путь) или закономерно (потому что применяемая ими схематика на самом деле не дополнительна в отношении родо-видовой, а альтернативна ей)? Важное для ответа на этот вопрос свидетельство находим у ас-Суйути, который, разбирая наше хрестоматийное «я встретил льва», говорит, что «[выговоренность] “лев” (’асад) установлено для [указания на смысл] “зверь” (саб‘), а не [на смысл] “храбрец” (шуджа‘), равно как и не для [указания на] смысл более общий, нежели эти два, каким был бы [смысл] “смелое живое существо” (хайаван джари’)»[76]. Отображая на схеме 4 смысл выговоренности «лев» как «отважный зверь», мы должны помнить, что для собственно арабского способа понимания «отважный зверь» и «отважный муж» не образуют общего рода, а «отважное» является сопутствующим смыслом, которых хотя и наличествует в обоих, тем не менее не позволяет сформировать единый род в смысле Аристотеля. Контраст процедур понимания смысла иносказания в обоих случаях (пары схем 1/2 и 3/4) оказывается зиждящимся одном и том же основании: неприменении в арабо-мусульманском теоретическом мышлении (по меньшей мере, в разбираемой нами здесь области) процедуры родо-видовой организации смысловых единиц, использование которой блокируется другой, столь же фундаментальной для мышления этой культуры, как родо-видовая процедура — для мышления западной. Этой констатации будет совершенно достаточно для целей данной статьи; разбор сути процедур формирования смысла в арабо-мусульманской культуре мы оставляем до другого случая.
Итак, мы выяснили процедурное различие между двумя видами заимствования, которые ал-Джурджани называет «выговоренностное» и «смысловое». Именно это процедурное различие и оказалось совершенно невидным с нашей фрегианской точки зрения[77]. Но если от процедуры зависит смысл самого иносказания, то совершенно естественно, что и теория, адекватно описывающая такие типы иносказания, будет содержательно различать их, — в нашем случае, давать им диаметрально противоположную оценку. Однако условием адекватности выступает не что иное, как учет процедур формирования смысла. Это условие может выполняться априорно и бессознательно; так, оно будет верным для любого теоретика, анализирующего феномены родной ему культуры, поскольку они «скроены» именно согласно тем процедурам обращения со смыслом, что характерны и для его собственного мышления, так что инструмент анализа не вступает в конфликт с анализируемым материалом. Но в случае анализа инокультурного материала оно может выполняться только осознанно. Эти процедуры, иначе говоря, должны быть выведены на свет и представлены нашему сознанию, которое сможет тогда при анализе содержания инокультурной теории учесть зависимость этого содержания от таких процедур. Именно эту зависимость мы не разглядели в нашей гипотетической интерпретации, начав с ходу проникновение в содержательность и не заметив, что мы не анализируем предстоящий нам «материал», но полностью формируем его. Ведь мы вовсе не избежали процедурного уровня, сразу начав с содержательного. Как раз наоборот: игнорируя его, мы при анализе содержания инокультурных смыслов не смогли избежать применения тех процедур формирования смысла, что характерны для нашей культуры мышления. Что в результате это инокультурное содержание оказалось безнадежно испорченным и искаженным, мы, надеемся, с достаточной убедительностью и наглядностью показали.
Попробуем, опираясь на сказанное, обогатить наше представление о конкретных путях осуществления процедуры смысловых переходов в иносказаниях, описываемых арабо-мусульманской теорией.
В качестве предварительного соображения отметим следующее. Мы видели, что понимание отношения "указание" как перевода выговоренности в ее истинный смысл предполагает невозможность понять иносказание так, как оно было бы понято в соответствии с античной традицией — как смещение функции обозначения с одного означаемого на другое. Иносказание понимается как возможность перехода к нормативной ситуации истинного сказывания; иносказание, таким образом, выявляет для слушателя истинный смысл, подобно тому, как его выявляет обычное истинное (в смысле арабо-мусульманской филологии — построенное на указании на смысл по установлению) высказывание, — но делает это иначе. Это "иначе" заключается в возможности постановки ино-сказанного слова (подчеркнем, «слова» опять-таки в понимании этого термина арабо-персидской филологической наукой, т.е. структуры выговоренность-смысл) на место истинного. Понятно, что иносказание может совершиться тогда, когда такая постановка на "чужое место" оставляет возможность перехода к нормативному истинному указанию на смысл. Очевидно, далее, что достаточно длительное развитие словесности хотя бы приблизительно исчерпает те случаи, когда такое иносказание в принципе возможно. Именно с этой точки зрения небезынтересно взглянуть на то, как зрелая филологическая наука систематизирует возможности иносказания.
Ат-Тафтазани приводит следующую классификацию иносказательных высказываний[78]:
1. общим смыслом (ма‘нан муштарак) оказывается действенная причина (‘илла фа‘илиййа); например, "рука" служит иносказанием для "благодати" или "мощи", ибо и то и другое "действуют" посредством руки;
2. общим смыслом оказывается материальная причина (‘илла маддиййа), например, равийа (это слово, поясняет ат-Тафтазани, изначально служило названием для верблюда, которого нагружали путевыми припасами) — для "припасов";
3. вещь названа по своей части, например, "глаз" вместо "наблюдательный человек", так как глаз — самая главная "часть" такого человека, но, отмечают теоретики, его неправильно будет назвать "рука" или еще как-нибудь;
4. вещь названа именем целого, например, "пальцы" (асаби‘) вместо "верхние фаланги" (анамил) в аяте «пальцами затыкали себе уши» (Коран, 2:19);
5. вещь названа по своей причине (сабаб), например, "мы пожали дождь", т.е. растение, причина появления которого — "дождь";
6. вещь названа по своему следствию (мусаббаб), например, "небеса пролились растениями" вместо "пролились дождем";
7. вещь названа по своему прошлому состоянию, как, например, в аяте "отдавайте сиротам имущество их" (Коран, 4:2), где сиротами названы взрослые люди несмотря на то, что взрослые уже не суть сироты;
8. вещь названа по своему будущему состоянию, например, "я выжимаю вино", т.е. сок, который станет вином;
9. вещь названа по своему месту (махалл), например, в аяте "пусть взывают к его совету" (Коран, 96:17), т.е. к людям, для которых совет — из место;
10. вещь названа именем того, для чего она служит местом, например, "в милости Божьей" (Коран, 3:107), т.е. в раю, поскольку милость угнездена (халл) в раю;
11. вещь названа именем своего орудия, например, "язык правды" (Коран, 26:84) вместо "хорошее упоминание" (т.е. добрая память), ибо язык — орудие поминания.
Заметим, что почти все перечисленные случаи могут быть сгруппированы в пары, которые являются взаимодополнительными. Чтобы прояснить суть этой взаимодополнительности и вместе с тем расширить наше представление о принципах построения иносказания в арабо-мусульманской филологической теории, вернемся внось к сравнению двух истолкований нашего хрестоматийного «я встретил льва», которые условно называем аристотелевским и арабо-мусульманским, изобразив их для наглядности в виде схем.
Схема 3. «Аристотелевское» толкование
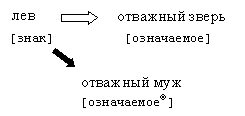
Нормативное обозначение
![]() дополняется
иносказательным обозначением
дополняется
иносказательным обозначением ![]() благодаря расширению рода «лев»,
который теперь обозначает не только «отважных
неразумных», но и «отважных разумных».
Отметим однонаправленность отношений
обозначения, которые строятся здесь «слева
направо», от словесного знака к его
значениям, а также отсутствие стрелки
перехода между двумя значениями,
нормативным и иносказательным.
благодаря расширению рода «лев»,
который теперь обозначает не только «отважных
неразумных», но и «отважных разумных».
Отметим однонаправленность отношений
обозначения, которые строятся здесь «слева
направо», от словесного знака к его
значениям, а также отсутствие стрелки
перехода между двумя значениями,
нормативным и иносказательным.
Схема 4. «Арабо-мусульманское» толкование
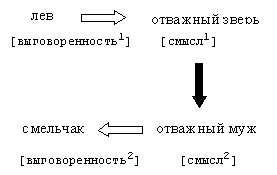
Мы говорили, что арабо-мусульманская
теория трактует иносказание как перенос
слова, а не значения. Именно этого переноса слова (как структуры «выговоренность/смысл»)
и не произошло на схеме 3. Слова остались
каждое на своем
месте, а значит, «лев» не может, если
рассматривать схему 3 «глазами» арабо-мусульманской
теории, входить в иносказание: он на своем
месте, и его указание не может быть сдвинуто
в сторону не включенного в него смысла. В
отличие от этого, схема 4 иллюстрирует
понимание перехода в иносказании,
описываемом в арабо-мусульманской теории,
как совершающегося между смыслами двух
слов. Если иносказание, отраженное на схеме 3,
мы выражали как знак-означаемое-означаемое![]() , то иносказание, отраженное на
схеме 4, должно быть выражено как выговоренность1-смысл1
, то иносказание, отраженное на
схеме 4, должно быть выражено как выговоренность1-смысл1![]() смысл2-выговоренность2 (или, для краткости, в1-с1
смысл2-выговоренность2 (или, для краткости, в1-с1![]() с2-в2).
с2-в2).
Именно переход с1![]() с2
является во втором случае «произвольным
сдвигом», позволяющим выстроить
иносказание; но чтобы он стал возможен, а
значит, чтобы иносказание состоялось,
необходимо, чтобы отношение указания
внутри двух слов, то есть внутри двух
структур «выговоренность
с2
является во втором случае «произвольным
сдвигом», позволяющим выстроить
иносказание; но чтобы он стал возможен, а
значит, чтобы иносказание состоялось,
необходимо, чтобы отношение указания
внутри двух слов, то есть внутри двух
структур «выговоренность![]() смысл»,
участвующих в нем, было правильным
(или, в собственных терминах арабо-мусульманской
филологии, «истинным»). Иносказание в его
понимании арабо-мусульманской теорией,
если можно так выразиться, является гораздо
менее вольным, нежели с аристотелевской
точки зрения, и зависит в гораздо большей
степени от нормативности употребления слов.
Если иносказание в аристотелевском
понимании сводится только к сдвигу значения, то есть к
некоему произвольному акту родового
расширения значения слова, то в арабо-мусульманской
теории оно понимается как произвольный
переход от смысла к смыслу после того, как
две словесные структуры выстроены
правильно. На правильность выстраивания
таких структур и обращает, как мы увидим
ниже, особое внимание поэтологическая
критика: ее требование состоит, вообще
говоря, в том, что подразумевать подо «львом»
«смельчака» можно только в том случае, если
от первого ко второму можно перейти
посредством правильных истинных указаний
выговоренности на смысл. Истинное указание
остается тем фундаментом, к проверке
которого сводится критика иносказания.
смысл»,
участвующих в нем, было правильным
(или, в собственных терминах арабо-мусульманской
филологии, «истинным»). Иносказание в его
понимании арабо-мусульманской теорией,
если можно так выразиться, является гораздо
менее вольным, нежели с аристотелевской
точки зрения, и зависит в гораздо большей
степени от нормативности употребления слов.
Если иносказание в аристотелевском
понимании сводится только к сдвигу значения, то есть к
некоему произвольному акту родового
расширения значения слова, то в арабо-мусульманской
теории оно понимается как произвольный
переход от смысла к смыслу после того, как
две словесные структуры выстроены
правильно. На правильность выстраивания
таких структур и обращает, как мы увидим
ниже, особое внимание поэтологическая
критика: ее требование состоит, вообще
говоря, в том, что подразумевать подо «львом»
«смельчака» можно только в том случае, если
от первого ко второму можно перейти
посредством правильных истинных указаний
выговоренности на смысл. Истинное указание
остается тем фундаментом, к проверке
которого сводится критика иносказания.
Принципиальную особенность процедуры построения иносказания, как она представлена на схеме 4, в сравнении с ее представлением на схеме 3, составляют два обстоятельства.
Во-первых, здесь для построения иносказания оказываются значимыми четыре, а не три, элемента. Интересно, что эта особенность не связана, по всей видимости, с тем конкретным видом иносказания, который мы в данный момент разбираем. Могло бы показаться, что известный, отмечаемый Аристотелем способ построения метафоры, в котором неназванной вещи дается имя той, что относится к своему (неназванному в метафоре) роду так же, как неназванная относится к своему (названному в метафоре роду), например, «щит Диониса». В самом деле, эта метафора:
Схема 5 (1)
щит Диониса
чаша Ареса
как будто требует для своей интерпретации построения структуры того типа, что отражена на схеме 4, а не на схеме 3. Однако на самом деле отношения между отраженными здесь четырьмя элементами существенно иные, нежели те, что зафиксированы на схеме 4. Правильной будет следующая интерпретация:
Схема 5 (2)
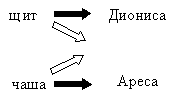
«Щит» нормативно указывает (знак ![]() )
на «Ареса», а иносказательно — на «Диониса»
(знак
)
на «Ареса», а иносказательно — на «Диониса»
(знак ![]() ), так же как «чаша»
нормативно указывает на «Диониса», а
иносказательно — на «Ареса»: на схеме 5(2)
мы имеем метафору, образованную
совмещением двух иносказаний, как они
отражены на схеме 3, то есть двух
трехэлементных структур. Различие
отношений, выраженных на схемах 4 и 5(2),
выглядит теперь достаточно наглядно.
), так же как «чаша»
нормативно указывает на «Диониса», а
иносказательно — на «Ареса»: на схеме 5(2)
мы имеем метафору, образованную
совмещением двух иносказаний, как они
отражены на схеме 3, то есть двух
трехэлементных структур. Различие
отношений, выраженных на схемах 4 и 5(2),
выглядит теперь достаточно наглядно.
Во-вторых, особенность схемы 4 в
сравнении со схемой 3 заключается в том,
что она позволяет пройти цепочку в1-с1![]() с2-в2
не только в прямом, но и в обратном
направлении: для этого достаточно
развернуть стрелки
с2-в2
не только в прямом, но и в обратном
направлении: для этого достаточно
развернуть стрелки ![]() и
и ![]() ,что,
согласно всем нормативным положениям арабо-мусульманской
филологии, возможно практически всегда.
Именно в этом и состоит основание взаимной
дополнительности тех пар способов
иносказаний, которые могут быть увидены в
приведенной выше классификации ат-Тафтазани.
Переход от «дождя» к «растению», например,
совершается точно так же, как от «растения»
к «дождю», лишь движение совершается в
обратном направлении. Эта возможность,
кстати говоря, не предоставляется
схематикой отношений, отраженной на схеме 5(2),
что лишний раз подчеркивает ее отличие от
схемы 4.
,что,
согласно всем нормативным положениям арабо-мусульманской
филологии, возможно практически всегда.
Именно в этом и состоит основание взаимной
дополнительности тех пар способов
иносказаний, которые могут быть увидены в
приведенной выше классификации ат-Тафтазани.
Переход от «дождя» к «растению», например,
совершается точно так же, как от «растения»
к «дождю», лишь движение совершается в
обратном направлении. Эта возможность,
кстати говоря, не предоставляется
схематикой отношений, отраженной на схеме 5(2),
что лишний раз подчеркивает ее отличие от
схемы 4.
Мы говорили об иносказании «я встретил льва», которое по своей букве совпадает с тем, что известно западной культуре по меньшей мере со времен античности. Разберем теперь иносказание, которое вряд ли столь же известно: «голова запылала сединой». Как арабо-мусульманская теория видит понимание этого иносказания?
Предпошлем нашему разбору небольшое введение. Трактовка этого иносказания, которая отражена ниже на схеме 6, была предложена в нашем миниатюрном авторском коллективе той из нас, кто непосредственно занимается поэзией и поэтикой. Принципиальным моментом при этом было следующее. Иносказание «голова запылала сединой» встречается среди примеров на заимствование, которые Ибн ал-Му‘тазз приводит в I главе своей Китаб ал-бади‘, и является цитатой из Корана (19:3). Сам Ибн ал-Му‘тазз только констатирует, что это иносказание представляет собой заимствование, но не разбирает его. Когда нами уже была проделана значительная часть работы по подготовке этой статьи, данный пример, анализа которого в собственно арабо-мусульманской традиции мы к тому времени еще не встречали, оказался как нельзя лучше подходящим на роль своеобразного пробного камня для проверки эффективности тех принципов объяснения, которые мы выработали для анализа интересующих нас положений поэтологической теории. Если бы наше толкование совпало или по меньшей мере не вошло в принципиальное противоречие с тем, что дала этому примеру в дальнейшем сама традиция, это послужило бы своего рода экспериментальным подтверждением правильности этих принципов, которые прошли бы таким образом независимую проверку. Мы оставляем читателю судить, насколько удачной оказалась такая проверка: он может сравнить предложенное нами толкование этого иносказания с традиционным, которое мы обнаружили уже после того, как сформулировали свое.
Поиск традиционного разбора интересующего нас иносказания мы начали с наиболее простого и очевидного предварительного шага — с просмотра имеющихся переводов Корана. Оказалось, что «голова запылала сединой» фигурирует в переводе И.Крачковского, тогда как Г.Саблуков переводит это место «голова моя блестит сединой», а М.-Н.Османов — «заблистала [уже] голова сединой». Но самое удивительное обнаружилось, когда мы выяснили, что то же самое кораническое выражение, но уже в тексте Ибн ал-Му‘тазза, И.Крачковский переводит иначе — «и засияла голова сединой»[79]. Поскольку его перевод Корана является на самом деле черновиком-подстрочником, тогда как перевод Ибн ал-Му‘тазза — подготовленным к публикации переводом, мы должны, выбирая между двумя вариантами, склониться ко второму. В таком случае выясняется удивительная согласованность между тремя мэтрами нашей коранистики, которые все переводят ишта‘ала «запылала» как «заблестела» или «засияла». Можно не ограничиваться примерами из отечественной науки: Абдалла Юсеф Али переводит это место And the hair of my head doth glisten with grey. Опасность интерпретации коранических слов через их современные словарные значения хорошо известна; коль скоро маститые переводчики столь единодушно отвергают «запылала» в пользу «заблестела», не является ли наша оценка метафоры «голова запылала сединой» как необычно звучащей для нашего уха надуманной, не представляет ли она собой лишь аберрацию понимания, тогда как ишта‘ала ар-ра’с шайбан должно пониматься в своем прямом значении как «голова заблестела сединой», — а это выражение как будто бы и для нашего слуха не представляет из себя ничего необычного? Наши сомнения только усилятся, если мы обратимся к словарям. Арабско-русский словарь Х.Баранова хотя и дает для ишта‘ала единственное значение «воспламеняться, загораться», тем не менее среди идиом упоминает и интересующее нас выражение, переводя его просто как «поседеть». Современный арабский толковый ал-Васит высказывается более определенно, давая для ишта‘ала только значения «гореть, пламенеть» и цитируя интересующий нас аят как пример отдельного, особого значения «поседеть». Складывается впечатление, что «поседеть» считается нормативным значением, а оснований вести речь об иносказании остается все меньше и меньше; не совершили ли мы грубую ошибку, принявшись толковать как иносказание то, что имеет пусть редкое и особое, но все же прямое значение? Сомнения достигают своего пика, когда, открыв средневековый словарь Ибн Манзура, мы находим, что первым в статье на корень ш-‘-л приводится слово шу‘ла (в современном значении «факел», однокоренное для нашего ишта‘ала «запылать») со значением «седая прядь в хвосте или гриве лошади, расположенная сбоку». Как будто все становится на свои места: теперь совершенно понятно, что седина в лошадиной гриве и в волосах человека — одна и та же седина, так что мы и в самом деле скорее всего имеем дело не с метафорой, а с прямым значением.
И тем не менее все эти свидетельства
оказываются ложными. Когда в той же статье у
Ибн Манзура находим разбор нашего
выражения, обнаруживаем, что там он не
допускает даже намека на возможную связь ишта‘ала со значением «седая прядь»,
толкуя его исключительно как «пламенеющий»
и «загорающийся» огонь. Он пишет: «Ишта‘ала аш-шайб фи
ар-ра’с “седина
загорелась на голове”
[означает] иттакада “воспламенилась”,
по их подобию. В Дражайшем Откровении
сказано: ишта‘ала ар-ра’с
шайбан “голова
запылала сединой”.
Здесь шайбан “сединой”
поставлено в насбе (один из трех падежей. — Авт.), поскольку разъясняет [предыдущие
слова]. А если хочешь, можешь считать его
масдаром, по примеру мастеров-грамматиков»[80].
Для нас в этом свидетельстве важны два
момента. Во-первых, интересующее нас
выражение бытовало не только в
коранической редакции (голова запылала
сединой), но также и в обыденном языке (седина
запылала на голове), что указывает на его
распространенность. Во-вторых, толкование
иносказания как уподобления огню и его
распространению было, похоже, общепринятым.
Ибн Манзур в подобных случаях опирается
обычно на мнение традиции; так и здесь он
упоминает «мастеров-грамматиков», не
говоря о каких-то расхождениях среди них.
Значит, традиция не воспользовалась как
будто очевидным схождением значений для
корня ш-‘-л как «седина
лошади» и корня ш-й-б
как «седина человека» и не попыталась
истолковать эту метафору через уподобление
одной седины другой или через их родовое
объединение, хотя путь этот был как будто
вполне возможен (мы бы тогда имели
подстановку того же типа, что обсуждавшаяся
ал-Джурджани для джахфала
«губа у лошади» ![]() шафа «губа у человека»).
Подтверждение этому встречаем и у ас-Суйути,
который дает исключительно лапидарный
разбор этого заимствования: «ишта‘ала
ар-ра’с шайбан “голова
запылала сединой”:
здесь то, от чего взято (муста‘ар
мин-ху) — огонь, то, для чего взято (муста‘ар ла-ху) — седина, а лик [уподобления]
— распространение, а также сходство света
огня с белизной седины»[81].
Этот анализ не оставляет сомнения в том, что
интересующее нас иносказание понималось
как параллель между распространением огня
в топливе и возникновении там белого цвета
и побелением темных волос головы (включая
бороду, как уточняет Ибн Манзур) в
результате распространения седины, хотя
для нас эта параллель еще остается не
вполне отчетливой. Интересно, кстати, что ас-Суйути
добавляет: «Это [выражение] более
красноречиво, чем ишта‘ала
шайб ар-ра’с “запылала
седина головы”,
поскольку сообщает нам, что седина
полностью покрыла всю голову»[82].
Мы отмечаем это не только как схождение с
разбиравшейся Ибн Манзуром редакцией этого
выражения, но также и потому, что данное
замечание ас-Суйути позволяет развеять еще
одно возможное сомнение в том, что «голова
запылала сединой» представляет собой нечто
не вполне привычное для нашего слуха. Ведь
мы могли бы поступить в духе цитировавшихся
переводов Корана и приблизить обсуждаемое
выражение к нашему привычному пониманию,
передав его как «голова заискрилась
сединой». В таком случае мы и сохранили бы
большую, нежели во всех предложенных
переводах, связь с идеей огня (искры
порождены огнем), и в то же время не нарушили
бы сложившихся у нас схем понимания: для нас
ведь и белый снег искрится, посылая нам
лучики света; так же и седые волоски будут в
нашей передаче искриться в черных волосах.
Заметим, что такой перевод иносказания и
такое его понимание опять-таки будут
основаны на построении некоего общего рода
— «искры» как нечто, отражающее или
посылающее свет и блестящее на темном фоне,
неважно, в огне ли (один вид «искр») или в
волосах (другой вид) или на снегу (третий).
Что не такова процедура
понимания иносказания в арабо-исламской
традиции, мы говорили выше. Высказывание ас-Суйути
дает нам содержательное подтверждение
этому: речь идет о полном поседении головы,
а не отдельных седых прядях, искрящихся на
общей темном фоне.
шафа «губа у человека»).
Подтверждение этому встречаем и у ас-Суйути,
который дает исключительно лапидарный
разбор этого заимствования: «ишта‘ала
ар-ра’с шайбан “голова
запылала сединой”:
здесь то, от чего взято (муста‘ар
мин-ху) — огонь, то, для чего взято (муста‘ар ла-ху) — седина, а лик [уподобления]
— распространение, а также сходство света
огня с белизной седины»[81].
Этот анализ не оставляет сомнения в том, что
интересующее нас иносказание понималось
как параллель между распространением огня
в топливе и возникновении там белого цвета
и побелением темных волос головы (включая
бороду, как уточняет Ибн Манзур) в
результате распространения седины, хотя
для нас эта параллель еще остается не
вполне отчетливой. Интересно, кстати, что ас-Суйути
добавляет: «Это [выражение] более
красноречиво, чем ишта‘ала
шайб ар-ра’с “запылала
седина головы”,
поскольку сообщает нам, что седина
полностью покрыла всю голову»[82].
Мы отмечаем это не только как схождение с
разбиравшейся Ибн Манзуром редакцией этого
выражения, но также и потому, что данное
замечание ас-Суйути позволяет развеять еще
одно возможное сомнение в том, что «голова
запылала сединой» представляет собой нечто
не вполне привычное для нашего слуха. Ведь
мы могли бы поступить в духе цитировавшихся
переводов Корана и приблизить обсуждаемое
выражение к нашему привычному пониманию,
передав его как «голова заискрилась
сединой». В таком случае мы и сохранили бы
большую, нежели во всех предложенных
переводах, связь с идеей огня (искры
порождены огнем), и в то же время не нарушили
бы сложившихся у нас схем понимания: для нас
ведь и белый снег искрится, посылая нам
лучики света; так же и седые волоски будут в
нашей передаче искриться в черных волосах.
Заметим, что такой перевод иносказания и
такое его понимание опять-таки будут
основаны на построении некоего общего рода
— «искры» как нечто, отражающее или
посылающее свет и блестящее на темном фоне,
неважно, в огне ли (один вид «искр») или в
волосах (другой вид) или на снегу (третий).
Что не такова процедура
понимания иносказания в арабо-исламской
традиции, мы говорили выше. Высказывание ас-Суйути
дает нам содержательное подтверждение
этому: речь идет о полном поседении головы,
а не отдельных седых прядях, искрящихся на
общей темном фоне.
Перейдем теперь к нашей гипотезе
толкования этого иносказания, априорной в
отношении обсуждавшихся свидетельств
традиции. Мы считали, что это иносказание
расценивается классической арабо-исламской
традицией как правильное, поскольку
позволяет выстроить правильную (в духе,
подсказываемом схемой 4) цепочку
переходов, в результате которой мы получим
высказывание, в котором выговоренности
будут указывать на свои смыслы истинно (т.е.
по установлению, или, как мы бы выразились, в
своем прямом значении), причем это будут те
самые смыслы, которые поэт хотел выразить
иносказательно. Кстати, эти два условия:
правильность выстраиваемых переходов «выговоренность![]() смысл»
и возможность получить в конце концов
выговоренность, которая бы указывала на
подразумеваемый в иносказании смысл
истинно, — и проверяются поэтологической
критикой[83].
Конкретные примеры из сочинения Шамс-и
Кайса «Свод правил персидской поэзии»,
свидетельствующие об этом, мы приведем ниже,
а здесь стоит отметить, что усиленное
внимание к анализу стихов именно в
указанных аспектах характерно не только
для рафинированной поэтологической науки,
но и для произведений, представляющих более
широкий пласт словесности; в том, насколько
эти акценты определяют архитектуру текста,
русскоязычный читатель легко может
убедиться, открыв, к примеру, «Книгу песен»
ал-Исфахани[84],
сюжет которой соткан вовсе не из событий, во
всяком случае, не из приключений, в которых
участвуют люди и вещи, а из выяснения
соотношений смыслов и выговоренностей,
открываемых внутри слов слагаемых стихов.
смысл»
и возможность получить в конце концов
выговоренность, которая бы указывала на
подразумеваемый в иносказании смысл
истинно, — и проверяются поэтологической
критикой[83].
Конкретные примеры из сочинения Шамс-и
Кайса «Свод правил персидской поэзии»,
свидетельствующие об этом, мы приведем ниже,
а здесь стоит отметить, что усиленное
внимание к анализу стихов именно в
указанных аспектах характерно не только
для рафинированной поэтологической науки,
но и для произведений, представляющих более
широкий пласт словесности; в том, насколько
эти акценты определяют архитектуру текста,
русскоязычный читатель легко может
убедиться, открыв, к примеру, «Книгу песен»
ал-Исфахани[84],
сюжет которой соткан вовсе не из событий, во
всяком случае, не из приключений, в которых
участвуют люди и вещи, а из выяснения
соотношений смыслов и выговоренностей,
открываемых внутри слов слагаемых стихов.
Вернемся к тезису о правильности иносказания «голова запылала сединой» и покажем, каким образом может быть проиллюстрировано выполнение в отношении него названных двух требований. Прибегнем вновь к схематическому изображению:
Схема 6
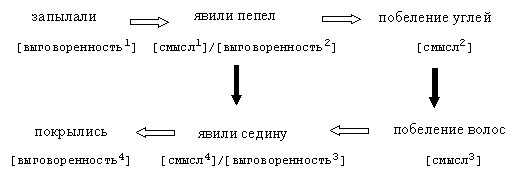
Как видно из иллюстрации,
разбираемая метафора может быть понята как
совмещение двух иносказаний, где второе (пепел![]() седина) как бы
встроено в первое (запылали
седина) как бы
встроено в первое (запылали![]() покрылись) и обосновывает переход «явили
пепел
покрылись) и обосновывает переход «явили
пепел![]() явили
седину». Искомый переход от «запылали» к «покрылись»
может быть совершен по меньшему кругу (в1-с1
явили
седину». Искомый переход от «запылали» к «покрылись»
может быть совершен по меньшему кругу (в1-с1![]() с4-в4),
а может быть пройден и по большему кругу (в1-с1-в2-с2
с4-в4),
а может быть пройден и по большему кругу (в1-с1-в2-с2![]() с3-в3-с4-в4):
эта возможность продлить путь перехода и
даже выбрать между двумя путями, ведущими к
одной и той же цели, составляет особый
источник эстетического наслаждения.
Заметим, что в конце этого достаточно
сложного пути происходит переход «смысл
с3-в3-с4-в4):
эта возможность продлить путь перехода и
даже выбрать между двумя путями, ведущими к
одной и той же цели, составляет особый
источник эстетического наслаждения.
Заметим, что в конце этого достаточно
сложного пути происходит переход «смысл![]() выговоренность»,
который является обратным по отношению к
нормальному процессу понимания слова,
наступающему всегда как переход «выговоренность
выговоренность»,
который является обратным по отношению к
нормальному процессу понимания слова,
наступающему всегда как переход «выговоренность![]() смысл».
смысл».
Эта «перевернутость», в которой явленное и скрытое меняются местами, составляет особо интригующий момент понимания любого иносказания и одновременно — момент его кульминации, когда проделанный путь наконец-то приводит к цели. «Явное», или «внешнее» (захир) и «скрытое», или «внутреннее» (батин) являются излюбленными категориями классического мышления: явное и скрытое составляют два аспекта, выделяемые, как правило, науками в своем предмете. Не является исключением и филология: мы видели выше, что ал-Джахиз называет выговоренность явленным, а смысл скрытым. Очень устойчивым и общим для разных видов классических наук было представление о том, что явное и скрытое должны, во-первых, оба непременно присутствовать в вещи, а во-вторых, находиться в балансе и гармонии. Их сбалансированность и гармоничность представлена для слова именно в той возможности однозначного перевода выговоренности в смысл, которая называется в классической философии «истиной» (хакика). С этой точки зрения процедура понимания иносказания — это приведение как будто «сбившегося» баланса между выговоренностью и смыслом (выговоренность, явленная в высказывании, не указывает на свой истинный смысл) к норме благодаря нахождению той выговоренности, которая бы и указывала на подразумеваемый смысл истинно и вместо которой была поставлена выговоренность, явно упомянутая в высказывании. Таким образом, слушатель или читатель, воспринимающий иносказание, как бы приводит к гармонии и нормативности то, чего гармония как будто была нарушена, — но была нарушена поэтом именно так, что предполагала возможность своего восстановления. Это восстановление и заключается в нахождении выговоренности, не явленной в высказывании, — однако это не просто восстановление утраченного, это обогащающее восстановление, восстановление, так сказать, с приростом. Слушатель, понявший иносказание, оказывается обладателем более сложной в-с структуры (структуры «выговоренность-смысл»), нежели та, что была бы сообщена ему в высказывании, выстроенном согласно нормативному (истинному, по установлению) указанию выговоренности на смысл. Более того, в этой в-с структуре он может наблюдать поистине удивительные вещи: то, что всегда бывает явным, то есть выговоренность, здесь оказывается скрытым (как скрыта в разбираемой метафоре выговоренность «покрылись»), то, что обычно бывает выявляемым (смысл, выявляемый по выговоренности), здесь, напротив, становится выявляющим (смысл «явили седину» выявляет выговоренность «покрылись»), то, что должно быть более явным (выговоренность), оказывается более скрытым, чем скрытое (выговоренность менее явна, чем смысл), — и вся эта структура позволяет пролагать путь от выговоренностей к их смыслам и в том и в другом направлении, переходя от «запылали» к «покрылись» и наоборот. Так слушатель оказывается в волшебном мире текущей реальности, которая завораживает своими возможностями поменять местами привычные соотношения — и вновь вернуться к исходному состоянию. Волшебство это связано не с тем, что «запылать сединой» оказывается неожиданным нарушением привычного и устоявшегося понимания слова «пылать», создающим красивый образ, а с тем, что это нарушение является вовсе не нарушением, но может быть приведено к нормативному соотношению выговоренностей со смыслами. Как-будто-нарушенность оказывается создающей эстетический эффект, а переход от явленности к скрытости, выявление скрытого и, напротив, скрывание явного (как конечная постановка «покрылись» вместо «запылали» скрывает изначально явленную выговоренность «запылали»), то есть игра переходов между явным и скрытым составляет содержание эстетического переживания. Возвращаясь к сухой теории, отметим, что расширения истинных («установленных») указаний выговоренностей на смыслы в нашей метафоре не происходит и, более того, не должно происходить: все дело в том, что метафора должна быть построена и понята так, чтобы истинное, установленное соотношение между выговоренностью и смыслом сохранилось, а вовсе не расширилось (расширение будет означать нарушение, а значит, и дефект иносказания). В этом и состоит неустранимый контраст с выраженным Аристотелем пониманием происходящего при восприятии иносказания родового расширения значения слова, которое благодаря этому начинает включать и дополнительные значения: в иносказании, выполненном и понятом согласно правилам арабо-мусульманской филологической теории, не происходит, как мы узнали выше от ал-Джурджани и комментирующего его ат-Тафтазани, приращения смысла, однако достигается большая «подтвержденность» указания на тот смысл, на который указала бы и истинная форма высказывания, восстанавливаемая в результате понимания иносказания. Теперь мы видим, в чем заключается эта большая подтвержденность: в более разветвленной прочерченности переходов, ведущих к этому смыслу, в более развитой игре скрытого и явного, этот смысл выявляющей, в том, наконец, что сам этот смысл может и стать выговоренностью, и остаться смыслом, будучи включен в разные ходы достижения понимания.
Поэтому мы можем сказать, что голова «пылает сединой» вовсе не для того же, для чего «серебрятся» виски в столь уже привычном для нас и ставшем даже тривиальным образе. Не расширение рода обозначаемого («серебро» как «белые волосы», а не только «белый металл») интересует арабо-мусульманскую поэтику, а возможность выявить то, что должно было бы быть явным при истинном (установительном) указании на смысл, но оказалось скрытым при иносказательном указании на него, — выговоренность «покрылись [сединой]». Другая цель, другая процедура ее достижения — и в результате другая эстетика.
Выше мы говорили, что номинальное совпадение случаев иносказания в двух традициях («я встретил льва»), очевидно, не следует спешить интерпретировать как совпадение содержательное. Возвращаясь к этому положению, мы можем теперь сказать нечто большее. Если бы номинальный анализ (т.е. понимание слов с точки зрения их словарных значений или значений, приобретаемых в речи) уже был бы и содержательным, то мы, рассмотрев различные виды иносказаний, реально фигурировавших в арабо-мусульманской поэтической практике или анализировавшихся в филологических теориях, сказали бы, что между западной и арабо-мусульманской традициями имеется и частичное совпадение, если не тождественность («я встретил льва»), и частичное расхождение («голова запылала сединой»). Так понятое отношение между двумя традициями могло бы быть, далее, интерпретировано как наличие и общего, объединяющего их, и частного, различающего. Нетрудно заметить, что именно так чаще всего и описывается соотношение между арабо-мусульманской и западной традициями, — и не только между ними двумя, конечно же, и не исключительно в области поэтики, так что мы в данном случае имеем дело с весьма распространенным топосом научного мышления вообще и специальных сравнительных штудий в частности. Что на роль общего претендовало бы в данном случае совпадающее («я встретил льва»), не вызывает сомнений. Поскольку философское, если не вообще научное, мышление привыкло отдавать пальму первенства общему и прежде частного обращать на него внимание, мы и в нашем случае не замедлили бы столкнуться с проявлением этой интенции и услышали бы интерпретацию, убеждающую нас в том, что мы имеем дело и с универсальным, и со специфичным, и что универсальное и здесь проявило свою власть и силу и засвидетельствовало общечеловеческое единство, пусть и в каких-то второстепенных аспектах[85]. Что это рассуждение вовсе не верно, выясняется благодаря той возможности различить номинальный и содержательный аспекты высказывания вообще и иносказания в частности, на которую мы указывали выше. Если содержательность высказывания определена не просто именами участвующих в нем слов, но и процедурой обращения с ними, в ходе выполнения которой и благодаря которой формируется целостный смысл высказывания, то «я встретил льва» для арабо-мусульманской традиции имеет совсем иное содержание, чем «я встретил льва» для западной традиции, а с другой стороны, иносказания «я встретил льва» и «голова запылала сединой» не являются выражением (соответственно) того же, что имеется в иной (западной), и того, что специфично для самой арабо-мусульманской традиции, но оба равным образом отражают моменты ее собственного мышления, — поскольку суть оказывается не в том, что и там и тут упомянут «лев», а в том, каким образом и при каких условиях предполагается возможным переход к «смельчаку» и, далее, что в таком переходе слушатель может выяснить и что почувствовать. Что заметить сходство смельчака и льва способен человек, принадлежащий обеим сравниваемым нами культурам, у нас не вызывает сомнения; вопрос в том, как он обойдется с полученными в этом наблюдении смыслами и чем для него станет это сходство: в результате в одном случае голова будет «пылать», а в другом «серебриться», хотя и то и другое станет результатом одного и того же, вполне универсального и тривиального наблюдения за печальным фактом неизбежного старения. Так обнаружение наличия процедуры смыслоформирования и понимание ее роли дает нам возможность различить номинальный и содержательный уровни высказывания и на этой основе иначе увидеть соотношение между сравниваемыми традициями.
Мы говорили о разных вариантах перевода коранического ишта‘ала ар-ра’с шайбан на русский и английский языки. Проведем теперь мысленный эксперимент и посмотрим на эти переводы глазами ал-Джурджани, оценив их с точки зрения тех критериев перевода, которые выдвигает развиваемая им теория. Останутся ли предложенные варианты перевода этого выражения как «голова блестит/заблистала/засияла/заискрилась/doth glisten сединой» переводами, или их следует счесть «новой речью», которые переводчики, как сказал ал-Джурджани, ведут «от себя»? Нам нетрудно увидеть, что во всех этих вариантах передачи (включая предложенный нами гипотетический «заискрилась») переводчики стремились передать не возможность осуществления процедуры понимания иносказания, но работали на уровне передачи его содержания. Они, дав «интерпретирующий перевод», совершенно отчетливо выполнили фрегевскую установку на трансляцию значения оригинала, сознательно пожертвовав тем, что Фреге назвал смыслом[86] (или, если угодно, по-пирсовски передали значение одних языковых знаков их переводом в систему других языковых знаков). Что при такой трансляции потерялась суть транслируемого, теперь, надеемся, вполне очевидно для читателя. Вряд ли ал-Джурджани оценил бы названные переводы как переводы; везде здесь мы имеем дело с «новой речью», хотя и дающей нам знать о произошедшем событии (Захария уже поседел), тем не менее неизбежно теряющей нечто принципиально важное для оригинала и заменяющее это чем-то другим, что в оригинале в принципе отсутствовало.
Вернемся к непосредственному предмету нашего разговора. Мы говорили, что сутью требования к пониманию иносказания, которое мы назвали процедурным, является построение двух параллельных цепочек выговоренность/смысл как цепочек истинного указания на смысл и нахождение «сцепления» между смыслами крайних членов этих цепочек. Оказывается, что это требование не только руководит процессом понимания иносказания, но также и структурирует изложение самой теории иносказания. Его влияние, иначе говоря, прослеживается не только в анализе собственно «материала», с которым имеет дело поэтология (конкретные случаи иносказания), но также и в упорядочивании самой поэтологической теории. В этом нетрудно убедиться, читая классические трактаты по риторике и поэтике, созданные в русле арабо-мусульманской традиции: везде здесь ситуация истинного указания на смысл (хакика) служит тем нормативным основанием, с которым сравнивается реально употребленная фигура речи. В зависимости от того, как именно возможен переход от иносказания к истинной форме высказывания, и выделяются типы иносказания.
В максимально абстрактной форме этот принцип выражается с помощью категориальной пары ’асл-фар‘ «основа-ветвь»: истинное указание на смысл, подразумеваемый при иносказании, считается «основным» (’асл) состоянием речи, а иносказание — «ветвью» (фар‘), полученной с помощью более или менее длинной цепочки переходов по структурам выговоренность/смысл. Классификация иносказаний и оказывается классификацией способов такого «выветвления» (тафри‘), причем она может быть более или менее подробной в зависимости от того, какое количество дополнительных критериев привлекается[87] и к каким именно членам выстраиваемых цепочек выговоренность/смысл они прикладываются. Тот же принцип лежит в основании определения того, что не является иносказанием: в том случае, если никакой из возможных способов анализа реального высказывания не позволяет проложить путь к той форме, которая является формой истинного указания на смысл, то это высказывание не может считаться «ветвью»: оно должно быть сочтено изначальным, истинным (хакика) высказыванием, но не иносказанием. Так, выражение «весна плетет узоры растений» не может быть, с точки зрения ал-Джурджани, расценено как заимствование, именно исходя из того, что для него нельзя указать истинную форму, от которой оно было бы производным[88].
Рассмотренные с этой точки зрения, трактаты по поэтологии и риторике обретают неожиданную стройность структуры и ясность содержания. Мы говорим «неожиданную» потому, что инокультурный взгляд (взгляд из контекста нашей или западной традиции) вовсе не обязательно увидит ее, как не обязательно заметит ясность и простоту «пылающих», а вовсе не «искрящихся» сединой волос. Скорее наоборот. В качестве подтверждения приведем высказывание уже цитировавшегося в этой работе автора, которое намеренно дадим достаточно пространным, чтобы дать читателю вновь почувствовать это «трение восприятия» инокультурного мышления, которое проявляет себя на страницах аналитической работы: «Наконец, можно отметить четвертую тенденцию, которая оказала влияние на ход развития литературной теории. Не расширив существенно понятий этой теории, она, пожалуй, способствовала их систематизации. Это — влияние философии, а если говорить более точно, то логической подготовки. Наиболее известный и, можно сказать, единственный (rather isolated) пример — это Китаб накд аш-ши‘р Кудамы бен Джа‘фара (ум.337/958), который стремится возвести строго структурирование здание литературной теории, основываясь на четырех элементах поэзии: словесной форме (лафз wording), значении (ма‘нан meaning), метре (вазн) и рифме (кафийа), дабы тем самым иметь возможность аргументированно судить о ценности той или иной поэмы. У Кудамы не было непосредственных последователей[89], хотя его книгу не обошли вниманием позднейшие авторы, как то видно по многочисленным цитатам из нее у ал-‘Аскари, Ибн Рашика и ал-Кафаджи, а также полемической работы ал-’Амиди, которая, к сожалению, не дошла до нас. И только значительно позднее, во времена окончательной кодификации литературной теории в схоластической ‘илм ал-балага, мы вновь обнаруживаем интерес к логически-связному изложению, однако внутренней потребности (urge) выстроить связную систему, в которой каждый феномен занимал бы положенное ему место, мы более не обнаруживаем»[90].
В этом рассуждении наше внимание может привлечь ряд моментов. Во-первых, это та настойчивость, с которой прокладывает себе дорогу априорная убежденность: если изложение не обнаруживает логичности в том смысле, который подразумевается аристотелевским образом логики (прежде всего это родо-видовой принцип классификации понятий и соответствующий порядок изложения материала, определения понятий, т.д.), значит, он не обнаруживает логики вообще, поскольку альтернативной логики быть не может. Что суждение, выраженное в последней фразе цитаты, абсолютно неверно, нетрудно убедиться, рассматривая сочинения главного теоретика «схоластической науки риторики», ал-Джурджани, в которых каждый описываемый феномен именно находит свое законное место, определенное ему классификацией, выстроенной так, как мы говорили выше, хотя это, конечно же, вовсе не совпадает с тем, что ожидало бы настроенное «по-аристотелевски» мышление. Во-вторых, это признание автором того факта, что по-аристотелевски мысливший Кудама остался «изолированной» фигурой в истории арабо-мусульманской литературной теории, причем эта изолированность (в смысле отсутствия идейных последователей) только оттеняется фактом обильного цитирования из него у позднейших авторов[91]. Дело обстоит так, как мы говорили в начале этой части статьи: как если бы собственно арабо-мусульманская поэтика всячески стремилась, но не могла включить в свои построения аристотелианские мыслительные ходы. Что Кудама остался одинокой фигурой, признает не один Хейндрикс; тем более удивительна та настойчивость, с какой именно Кудама, вкупе с упоминаемым тем же Хейндриксом Ибн Вахбом, рассматриваются в качестве если не единственных, то во всяком случае наиболее типичных представителей арабо-мусульманской риторики и поэтологии[92]. В-третьих, нетрудно заметить характерную несогласованность суждений и квалификаций, даваемых автором на протяжении половины страницы текста, так же как и зияющее отсутствие причинных объяснений. Если арабо-мусульманская риторика носит столь схоластический характер, почему она не последовала образцу аристотелевской «Поэтики» и кудамовской «Критики поэзии», — ведь воспроизводила же она аристотелевские положения там, где считала возможным и нужным, и в той же поэтике, и в собственно философии? Почему эта школа выбрала другой образец для подражания, к тому же, по мнению нашего ученого, столь алогично и хаотично организованный, что, вообще говоря, плохо сочетается со схоластическим духом? Мы не находим ответа на этот вопрос — и не случайно, поскольку ответов тут может быть два: либо признать неспособность арабо-мусульманских теоретиков к строго логичному (=аристотелевскому) типу мышления вообще, либо найти альтернативное и столь же строго логичное, как аристотелевское, основание их мышления.
Подобные аберрации, при которых западный исследователь видит не просто созданный им самим образ в зеркале изучаемой традиции, но и само зеркало также изготавливает сам из материала своих априорных и к тому же скрытых от его собственного наблюдения ожиданий, не могут быть просто следствием невнимания или субъективного пристрастия отдельного ученого. Это имеет отношение не только в рассматриваемому вопросу, но и к тому, о чем мы говорили выше, предположив, что ал-Джурджани вряд ли счел бы рассмотренные нами переводы коранического аята переводами. Спросим себя: в чем же основание того, что переводы признанных мастеров заслуживают такую оценку ал-Джурджани; почему они столь принципиально оказываются для него не переводами? Мы можем переформулировать наш вопрос, одновременно расширив его горизонт: служит ли 100%-ная профессиональная компетентность ученого гарантией правильности восприятия и передачи инокультурной традиции, если такая передача следует стратегии содержательной трансляции, не учитывающей процедурную обусловленность транслируемого содержания? Вопрос этот, конечно же, риторический; не только переводы заинтересовавшего нас коранического выражения, но также и восприятие сути поэтологической традиции и стержня ее развития, равно как и сам вопрос о логичности поэтологического текста и его рациональном устройстве, — все это служит примером удивительного «сбоя», к которому приводит попытка анализа и передачи собственно содержательного пласта без учета его процедурной обусловленности.
Мы постепенно заканчиваем наш анализ и движемся к заключению. Если понимание сути иносказания и, в частности, заимствования, которому и было уделено до сих пор наше внимание, непосредственно связано с существом понимания структуры слова, то и на более рафинированном уровне поэтологии, в области анализа собственно поэтических приемов, соотношение между выговоренностью и смыслом и способ его выстраивания постоянно остаются в поле зрения поэтолога. Анализ «смыслов» (ма‘анин)[93] стихов ведется с точки зрения принципиальной возможности перевода иносказательности в истинное указание на смысл, равно как и степени совершенства такого перевода, а также соответствия получаемого в итоге истинного смысла стиха критериям здравого смысла. В результате рационализация поэтологии достигает впечатляющей степени.
Вот лишь некоторые примеры такого рационального анализа, призванные проиллюстрировать, но никак не исчерпать эту тему.
Одним из существенных пороков поэтической речи, выделяемых выдающимся персидским поэтологом Шамс-и Кайсом, является противоречивость стиха. Стихотворные строки проверяются им на отсутствие несогласованностей столь скрупулезно, как если бы речь шла о научном трактате или юридическом документе; стихотворение никак не имеет права на то, чего не позволено прозе, и никакая "чушь" не может оказаться "прекрасной".
Противоречивость (танакуд, мунакада), как ее определяет поэтолог равно для любых видов речи, «состоит в том, что второе значение (ма‘нан) противоречит и не соответствует первому значению.
Hапример, поэт сказал:
Я дарю ей (ему) дирхем — не дает поцелуя, мучает.
Разорву [свое] платье [от горя], что не продает поцелуя за дирхем.
Противоречие возникает в этих стихах из-за того, что сначала [поэт] упомянул о дарении дирхема, а в конце повел речь о купле-продаже. Hо хотя ‘аджамские критики [поэзии] приводили этот бейт как свидетельство танакуз, его [противоречия] можно выправить, а именно: “Если дарю дирхем, не дает поцелуя, а если хочу купить за дирхем, не продает”.
И другой [поэт] сказал:
Разлуку с тобой я приравниваю к смерти, потому что
Хуже смерти разлука с тобой, знаешь ли ты?
То есть в первом полустишии он приравнял разлуку с ней к смерти, а во втором постановил, что [разлука] и того хуже»[94].
Роль и частотность использования критерия рациональности, восходящего непосредственно к возможности перевода иносказательного указания на смысл в истинное, при котором ничто не оказывается потерянным, наиболее ярко, кажется, проявляется при анализе порока поэзии, который «состоит в том, что [поэт] в некоторых описаниях, относящихся к восхвалению, поношению и прочему, преувеличивает настолько, что достигает границ немыслимого или проявляет неуважение к шариату.
Например, Анвари сказал:
Пусть смерть обмажет глиной, [закрыв навсегда], дверь жизни —
Тебе нечего бояться, не такова твоя сущность, чтобы клониться к смерти.
А если бы вечности не было в мире, тебе что за беда?
Вечность благодаря твоей сущности вечна, а не твоя сущность [вечна] благодаря [наличию в мире] вечности.
По этому вопросу между наделенными мудростью существует разногласие, вечен ли Всевышний по сущности (зат) или вечен по [атрибуту] вечности, а он сказал [о восхваляемом]: “Вечность вечна из-за твоей сущности, а не твоя сущность из-за вечности вечна”.
И Газайири сказал:
Он поступил благочестиво, что не распорядился обоими мирами,
[Ибо] Правосудный Творец — один, без равных и сотоварищей.
А не то он оба [мира] подарил бы в пору Раздачи Даров,
Не оставил бы рабу упования на Всевышнего Бога.
...
И Джамал Мухаммад ‘Абд ар-Раззак сказал:
Богохульство это, а то бы рука твоей щедрости
В начале [формулы] “нет бога...” стирала бы “нет”.
Поскольку устранение этого “нет” не имеет отношения к щедрости и скупости, сие есть весьма уродливое преувеличение и слабое восхваление, и слова исповедания веры недостойно прерывать на этом слове.
А раз он сказал “рука твоей щедрости”, то смысл был бы правильным в том случае, если бы он сумел описать устранение этого “нет” как подтверждение щедрости»[95].
В данном случае речь идет о стихах, так или иначе затрагивающих мотивы пристойности выражения отношения между человеком и Богом. Однако не стоит думать, что критика "чрезмерных преувеличений" зиждется исключительно на богословско-этических основаниях. Поэтолог разбирает эти примеры прежде прочих, проявляя уважение к предмету, которого они касаются, и подчеркивая его важность, но не ограничивая себя им. "Неправильное" преувеличение неприемлемо не просто потому, что задевает религиозную мораль; оно неприемлемо потому, что поэтическое иносказание, будучи переведено в истинный смысл речения, не проходит проверку разума на полную согласованность всех смысловых элементов, неважно, идет ли речь о Боге, о любимой поэта или любом восхваляемом лице.
Средневековый поэтолог продолжает (там, где мы прервали цитату):
«Такой вид самостоятельного использования [слов] (итлакат) не находит одобрения у знатоков. Например, Куссайира порицали за то, что он сказал об ‘Аззе: “Все, что веселит сердце и радует очи Аззы, веселит и мое сердце, радует и мои очи”. Говорили, мол, ей нравится, когда с ней совокупляется [мужчина], значит, и Куссайир должен допускать тот же смысл по отношению к себе.
И так же порицали Мутанабби, который сказал: “Если бы я мог, я бы всех людей сделал верблюдами и, оседлав их, отправился бы к Са‘иду, [сыну] ‘Абдаллаха”. Говорили, мол, если Мутанабби согласен усесться на собственную мать и отправиться к восхваляемому лицу, то восхваляемое лицо не согласилось бы, чтобы Мутанабби уселся верхом на его жену и отправился к нему»[96].
Проблемы эстетического переживания поэзии и его связи с интересующими нами вопросами в некоторой степени затрагивается в рассуждении о том, что называется "прерыванием" (и‘тирад) стиха. Суть этого приема «состоит в том, что поэт вставляет внутрь бейта для довершения стихов слова, в которых значение (ма‘нан) бейта не нуждается. Они зовутся хашв (“начинка”, “вставка”), что означает “наполнение”. Вставка бывает трех видов: изящная вставка, средняя и безобразная.
Изящная вставка. Она такова, что приумножает сладость стиха и придает ему дополнительный блеск, хотя по значению (ма‘нан) стих в ней и не нуждается. Hапример, Рашид сказал:
От тягот этой безжалостной судьбы
Вдали от тебя, мне таково, каково да не будет врагу!
Слова “вдали от тебя” — это изящная вставка. И еще он сказал:
Мысли о твоем мече — да будет он разящим —
Стали лагерем в душах врагов.
Было бы лучше, если бы он смог сказать “стали лагерем в мозгах врагов”, ибо место мысли в мозгу»[97].
Эстетическое переживание (во всяком случае, в значительной своей части) сводится к прохождению пути переформулировок, ведущих от иносказательности к истинности, тем большему, чем более "далеким" (ба‘ид) оказывается иносказание и, следовательно, тем большую радость понимания доставляющим. На таком пути эстетического переживания "вставки", подобные описанной, оказываются просто балластом, который может в лучшем случае не мешать. Такие отступления от пути, строго пролагаемого поэтом между выговоренностью и смыслом, могут быть терпимы и даже иногда оказываются похвальными, но в любом случае представляют собой добавление, в котором стих не нуждается и отсутствие которого не является ни пороком, ни изъяном. Заметим в скобках, что, анализируя последний бейт, средневековый поэтолог не смог пройти мимо несоответствия между тем, что на самом деле, по истинному смыслу, является вместилищем мысли, и тем местом, которое попало под предполагаемые удары меча.
Соотношение между выговоренностью и смыслом лежит также в основе обобщенной классификации поэтической речи и приемов, с помощью которых она строится. Согласно Шамс-и Кайсу, поэтическая речь бывает трех типов: краткая, средняя и пространная. Степень компрессии определяется как степень "сжимания" смыслов в выговоренности, которая может быть большей или меньшей в зависимости от того, какие приемы иносказания использует поэт.
Вот что пишет об этом Шамс-и Кайс. Равномерный вид — «это вид, в котором слово (лафз) и значение (ма‘нан) уравнены. Hапример, поэт сказал:
Просьба всегда направлялась к подарку, теперь же
Подарок твой выступает навстречу просьбе».
Суть расширенного (баст) вида «состоит в том, что [поэт] излагает значение (ма‘нан) многословно и подкрепляет его несколькими обоснованиями. Так, например, если слово обладает совмещенными значениями, он объясняет, какое из них имеется в виду, а если требуется толкование, он прибегает к удлинению речи, устраняя неясность.
Метафоры (исти‘арат) и сравнения (ташбихат) целиком относятся к краткому [виду речи], а углубление (игал), пополнение (такмил), толкование (тафсир), подразделение на части (таксим), притворное нацеливание (иститрад), ответвление (тафри‘) и прочие подобные приемы, которые используют для более пространного изъяснения или устранения сомнения, принадлежат расширенному [виду] речи.
Как уже было сказано, в речи краткой (иджаз) и равномерной (мусават) надлежит [поэту] остерегаться повреждения значения (ма‘нан), а в речи расширенной ему к тому же необходимо избегать бессмысленного многословия и неоправданного употребления слов, что показано на примерах к [приемам] игал, такмил, табйин “объяснение” и прочих.
Вот иллюстрация пространной речи, заслуживающей порицания:
Я и ты суть такие я и ты, что в мире нет
У меня и у тебя [равного] по доблести, близкого и друга, кроме тебя и меня»[98].
Поэтолог рассуждает о видах речи так, как если бы соотношение между выговоренностью и смыслом было измеримо, причем измеримо совершенно точно, однозначно и объективно. Эта объективность и однозначность как раз и обеспечивается "истинной" смысловой формой, в которую может быть переформулирована любая выговоренность; истинные смыслы, как мы видели, действительно представляются в теории как однозначно и объективно фиксированные. Но кроме того, и сам процесс перевода иносказательного указания на смысл в истинное должен быть столь же объективным и закономерным, дабы истинные смыслы, к которым мы приходим, всегда были одними и теми же для одних и тех же иносказаний, дабы смысл не был чем-то, хоть в какой-то мере свободно примысливаемым (или воспринимаемым, что в данном случае одно и то же), но всегда — одинаковым для любого слушателя. Принципиальная соизмеримость выговоренности и смысла, предполагаемая классической филологической теорией, предполагает и объективность понимания.
Одним из наиболее распространенных определений поэтической речи является также ее квалификация как "естественной" (матбу‘) и "искусственной" (масну‘). Естественным при этом оказывается не тот его вид, который, как можно было бы подумать, как-то связан со "спонтанностью" поэтического творчества, но такой, в котором выговоренности естественно и правильно соответствуют своим смыслам; такая правильность как раз (во всяком случае, так считает теория) достигается не спонтанностью, а тщательным продумыванием поэтического произведения, которое создается сначала в прозе (в своей "истинной" форме) и лишь затем переводится в поэтическую. Естество стиха, таким образом, состоит не в том, что он выражает естество поэта, а в том, что он выдерживает "естественное" соотношение между выговоренностями, которыми зафиксированы стихи, и их — понимаемыми слушателем — смыслами. "Искусственным" же оказываются такие произведения, в которых использованы приемы игры с выговоренностью, которые сами по себе не передают никакого смысла (правильность соотношения выговоренности и смысла, таким образом, оказывается нарушенной), например, создание стихотворения из слов, которые записываются без диакритических точек и тому подобное.
Вопрос, поставленный нами в начале этой части работы, должен получить положительный ответ. Адресация к смыслу (ма‘нан) действительно оказывается для арабо-мусульманской поэтологии принципиальным и неустранимым моментом, пронизывающим поэтологическое (и вместе с тем далеко не только поэтологическое) мышление. В связи с этим многое здесь понимается иначе, нежели в западной традиции. Для тех вопросов, которые поставленные в данной статье, быть может, наибольшее значение имеет тот факт, что понятие "истина", "истинное" (хакика) здесь противопоставляется "воображению" (хайал) и "воображаемому" (тахйилийй) не по критерию соответствия или несоответствия реальности (вещам как они есть), но согласно способу соотнесения выстраиваемого смысла с выговоренностью. Мышление, требующее соблюдения логики вещей и если и играющее нарушениями, то именно этой логики, видит "буйство воображения" там, где — в том или ином виде — не идет речь о вещах. Между тем с аутентичной точки зрения (с точки зрения традиции, выработавшей и культивировавшей обсуждаемый способ сказывания) не только "буйство", но и само воображение в данном случае вряд ли имеет место, причем именно потому, что этот дискурс изначально устроен так, чтобы "не дотягиваться" до вещей. Вместо того, что кажется замкнувшейся в слове игрой фантазии, имеет место строгое, глубоко рационализированное и всегда сохраняющее возможность полной экспликации скрупулезное прорабатывание смыслов.
![]() Назад
(Часть II) / Дальше (Часть IV)
Назад
(Часть II) / Дальше (Часть IV) ![]()
[1] Естественно, что это не единственный вариант классификации филологических наук; их более подробное разбиение на жанры дает, например, Гиргас (см. Гиргас В.Ф. Очерк грамматической системы арабов. СПб., Тип. Имп. Ак. наук, 1873). Вместе с тем при всей текучести таксономических сеток на протяжении развития классической филологии оставался, по-видимому, неизменным принцип построения классификаций от наук, описывающий прямое употребление слов (хакика, см. ниже), к наукам, описывающим их переносное употребление (маджаз).
[2] Последний термин буквально означает "наука о нововведениях"; И.Крачковский переводит его как "наука о новом стиле". Название связано с развернувшейся в первые века ислама полемикой вокруг допустимости поэзии и применявшихся в ней средств выражения. Поскольку Коран и сунна являются для классической исламской культуры абсолютным авторитетом не только в содержательном плане (непререкаемые установления Закона), но и в плане выражения (приемы и формы речи), защитникам легитимности поэзии было важно показать, что приемы иносказания встречаются и в Коране, и в высказываниях Мухаммеда и его сподвижников; именно так поступает один из основоположников арабо-мусульманской поэтики Ибн ал-Му‘тазз в своей Китаб ал-бади‘ («Книга о новом стиле»). В связи с этим, принимая перевод Крачковского, следует помнить, что сами создатели ‘илм ал-бади‘ вовсе не стремились показать новизну исследуемого ими стиля, но, напротив, пытались возвести его к авторитетным источникам. В результате полемики эти приемы выражения все же получили статус не порицаемого, хотя и не похвального «нововведения» (бид‘а).
[3] Шамс ад-Дин Мухаммад Ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии. Часть II. Перевод с перс., исслед. и коммент. Н.Ю.Чалисовой. М., Восточная литература, 1997, с.76-77.
[4] См. Киктев М.С. Абу-л-Хасан ал-Джурджани (вторая половина X в.) о метафоре ("арабское" и "греческое" в средневековой арабской филологической теории) // Проблемы арабской культуры. М., Наука, 1987, с.38-53.
[5] Чаще всего то, которое мы сегодня назвали бы идеологическим: аристотелизм, например, не принимался большинством исламских ученых именно в той части, которая связана с проблематикой вечности (а значит, несотворенности) мира, хотя это отношение вовсе не распространялось на перипатетическое учение в целом. Неприятие, иначе говоря, было вполне избирательным и обоснованным.
[6] См. Аристуталис. Фанн аш-ши‘р. Ма‘а ат-тарджама ал-‘арабиййа ал-кадима ва шурух ал-Фараби ва Ибн Сина ва Ибн Рушд. Тарджама-ху ‘ан ал-йунаниййа ва шараха-ху ва хаккака нусуса-ху ‘Абд ар-Рахман ал-Бадави. Мактабат ан-нахда ал-мисриййа, б.м., б.г.
[7]
Анализируя западные исследования по
арабской поэтике, У.Хендрикс пишет, что ни
«Риторика», ни «Поэтика» Аристотеля не
оказали серьезного доказанного
влияния на арабскую мысль, несмотря на
ставшее общим местом обратное
утверждение, кочующее из работы в работу
и остающееся неаргументированным(см. Heindrichs W. Literary Theory: The Problem of Its Efficiency // Arabic Poetry: Theory
and Development. Wiesbaden, Harrasowitz, 1973, с.32-33).
[8] К примеру, ал-Джурджани, а вслед за ним ат-Тафтазани и ал-Баннани во все более пространной форме воспроизводят в поэтологической (‘илм ал-бади‘) части излагаемого ими комплекса "наук о языке" аристотелевское учение о видах противоположения, которое, видимо, было им известно из переводов соответствующих текстов Стагирита и его комментаторов; ср., например, Dunlop D.M. Al-Farabi's paraphrase of the Categories of Aristotle // The Islamic Quarterly. A Review of Islamic Culture, vol.v, 1959, L., The Islamic cultural center, p.27-29, и ат-Тафтазани, Са‘д ад-Дин. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани ‘ала Мухтасар ас-Са‘д ат-Тафтазани ‘ала матн ат-Талхис фи ‘Илм ал-ма‘ани. Ч.2. 2-е изд., Булак, 1879, с.314-317.
[9] См., например, Комментарий Ибн Рушда на "Поэтику" Аристотеля, где он стремится истолковать понятия комедии и трагедии в терминах жанров арабской поэзии.
[10] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, Комментарий, примеч. 3 к разделу 1, с.347.
[11] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, Комментарий, примеч. 3 к разделу 1, с.347.
[12]
См. Chittick W. The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rumi.
Albany, Univ. of New York Press, 1983, pp.15, 352. Речь
идет о том,
что Р.Никольсон
и А.Арберри,
не придерживаясь принципа
однозначности передачи терминов,
передают ма‘нан целым
набором понятий,
среди которых
- meaning, reality, spiritual reality, essential reality, spirit, spiritual
truth, spiritual principle, spiritual thing, essence, idea, ideal thing,
truth, heavenly truth, abstraction, verity.
[13]
См. Wolfson H.A. Mu‘ammar’s theory of ma‘na // Arabic and Islamic
Studies in Honour of Hamilton A.R.Gibb, Leiden, E.G.Brill, 1965, pp.673-688.
[14] Ибн Араби. Геммы мудрости // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. М., Восточная литература, 1993, с.190. Перевод дан в новой редакции автора.
[15] Ибн Араби. Геммы мудрости, с.214.
[16] Ибн Араби. Геммы мудрости, с.266.
[17] Ибн Араби. Геммы мудрости, с.156.
[18] Аль-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума. Предисловие, перевод с арабского и комментарии А.В.Смирнова. М., Ладомир, 1995, с.434.
[19] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.424-425.
[20] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.138.
[21] Ибн Араби. Геммы мудрости // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. М., Восточная литература, с.217.
[22] Ибн ‘Араби. Ал-Футухат ал-маккиййа (Мекканские откровения). Каир, 1859, т.3, с.198.
[23] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.287.
[24] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.344.
[25] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.320
[26] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.328; жизнь в философии ал-Кирмани понимается как истечение из мира Разумов в мир Природы: именно эта эманация и есть "смысл", о котором здесь идет речь.
[27] Ибн Сина. Ал-Ишарат ва-т-танбихат (Указания и наставления). Ч.1, Каир, 1960, с.251-252.
[28] Аль-Кирмани. Успокоение разума, с.328.
[29] Сибавайхи. Китаб (Книга). Булак, 1899, ч.1, с.2.
[30] Перевод «жест» для ишара весьма условен, поскольку под ишара понималась и мимика.
[31] Имеется в виду весьма сложная система счета на пальцах, развитая среди доисламских арабов.
[32] Ал-Джахиз. Ал-Байан ва-т-табйин (Разъяснение и доказательство). В 4 частях. Бейрут, Дар ал-джил, 1990, ч.1, с.75-76.
[33] Ибн Йа‘иш. Шарх ал-Муфассал (Комментарий на «ал-Муфассал»). Идарат ат-тиба‘а ал-мунириййа би-миср, ч.1. Каир, 1938, с.18-19.
[34] Имеется в виду аз-Замахшари, которого комментирует Ибн Йа‘иш.
[35] Своеобразная метонимия, когда человека называют по имени ребенка ("отец Омара" или "мать Кульсум").
[36] Прозвище, часто почетное, которое могло заменять собственные имена.
[37] Т.е. сам Ибн Йа‘иш.
[38] Ибн Йа‘иш. Шарх ал-Муфассал, ч.1, с.27. О том, что «указание» (далала) не понимается в арабской филологии как «обозначение» (т.е. однаправленное указание посредством знака), см. также примеч.47.
[39] Примеры заимствованы из ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.241-243.
[40] См. в этой связи интересные рассуждения ат-Тафтазани: ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.241-242.
[41] См. Ибн Сина. Ал-Ишарат, Ч.1, Каир, 1960, с.283 и др. Вслед за Ибн Синой о «части смысла» как о чем-то самостоятельном и во всяком случае отделимом от смысла как целого ведет речь и его комментатор Насир ад-Дин ат-Туси, хотя когда речь заходит о собственно аристотелевской онтологии и гносеологии, выдвигается положение о принципиальной простоте смысла.
[42] Ибн Йа‘иш. Шарх ал-Муфассал, ч.1, с.18-19.
[43] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.149-150. Данное рассуждение представляет собой еще один пример положения о пятеричном указании на смысл.
[44] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.228-230 (в фигурных скобках приведен текст ал-Джурджани). Арабский язык действительно дает больше оснований, нежели, скажем, современный русский, для развития теорий естественного обозначения смысла, критикуемых нашими авторами. Поэтому небезынтересно продолжение процитированного рассуждения, где как раз и обсуждаются подобные теории: «{Его}, это утверждение о том, что выговоренность указывает самостно, {рассматривает ас-Саккаки}, толкуя его не в явном [смысле]. Он говорит, что это утверждение просто предупреждает нас о том, чего держались крупнейшие авторитеты науки об иштикак (вывод одних слов из других. — Авт.) и науки о тасриф (склонение, спряжение. — Авт.), — что у харфов (здесь «звук». — Авт.) самих по себе есть различающие их особенности, такие как звонкость (джахр) и глухота (хамс), сила (шидда “взрывной характер”), слабость (рахава “фрикативность”) и среднее [состояние] между ними, и так далее. Эти особенности требуют, чтобы тот, кому они известны, назначая нечто, из них составленное, для [указания на] некоторый смысл, отдавал бы дань мудрости и не упускал из виду соотнесенность между ними (между особенностями харфов и смыслом. — Авт.). Например, [назначая] фасм через фа’ (а фа’ — слабый харф) для такой поломки, которая не явна, и касм через ка’ (а ка’ — сильный харф) для такой поломки, которая явна (первое означает “сделать в чем-либо трещину”, второе “разнести на куски”. — Авт.). А также — что формы сочетания харфов также имеют свои особенности, например, [парадигма] фа‘алан и фу‘ла для приведения в движение того, что имеет движение, скажем, назаван “прыгание” и хайада “шатание”, или что касается глаголов с даммой [у второго харфа], например, шаруфа “быть благородным” или карума “быть щедрым” для [обозначения] естественно-присущих действий» (там же). Читая эти строки, как не вспомнить развивавшиеся не так давно теории изобразительности языка (например, Газов-Гинзберг А.М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? (Свидетельство прасемитского запаса корней). М., Наука, 1965; он же. Символизм прасемитской флексии. О безусловной мотивировке знака. М., Наука, 1974), как не удивиться еще раз воспроизведению аргументации спустя столетия и как будто бы в совсем другой научной парадигме?
[45] Дж. ван Эсс в своей фундаментальной статье пишет о том, что термины далил, мадлул, далала, истидлал, появившиеся еще в раннем каламе, имеют стоическое происхождение и являются «точным переводом» соответствующих греческих прототипов (van Ess, J. The Logical Structure of Islamic Theology // Logic in Classical Islamic Culture (ed.G.E. von Grunebaum). Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1970, с.27-29). Этот тезис, впрочем, остается у него, по его собственному признанию, не окончательно доказанным. Но даже если это и так, употребление этих терминов в арабо-мусульманской культуре явно не ограничивалось чистым воспроизведением положений логики стоиков. Они имели гораздо более широкую сферу применения (например, те же арабские перипатетики пользовались ими в разъяснении начал логики, излагая положения о слове, высказывании, т.п.), а их смысловая нагрузка никак не может быть сведена к значениям их античных прототипов (см. об этом ниже, примеч.47).
[46] Факихов, представителей религиозно-правовой мысли (фикха) в исламе.
[47] Например, если мы рассматриваем указание причины на свое следствие, то огонь — это "указывающее", а дым — "то, на что указывает" огонь как на свое следствие. Занимая вторую возможную точку зрения (следствие указывает на свою причину), мы скажем, что "указывающее" — это дым, а "то, на что указывает" дым — это огонь. Поскольку указание — это способность сделать смысл "понятным" (мафхум), в первом случае огонь дает нам понять, что "существует его следствие — дым", а во втором, видя дым, мы понимаем, что "есть его причина — огонь": именно эти смыслы выявляются, согласно теории указания, огнем и дымом соответственно.
Отметим, что ал-Баннани вслед за ат-Тафтазани говорит о взаимном указании дыма на огонь и огня на дым. Возвращаясь к тезису ван Эсса о заимствовании терминов далил, мадлул и т.д. из логических учений стоиков (см. примеч.45), стоит вспомнить, что одним из аргументов, которые этот ученый приводит в пользу своей гипотезы, служит тот факт, что «даже знаменитый пример дыма и огня упоминается Секстом Эмпириком» (van Ess, J. The Logical Structure..., с.27). На нескольких следующих страницах ван Эсс, объясняя арабские термины через их греческие прототипы, отсылает нас к различным вариантам использования именно этого примера в античных источниках. И в самом деле, коль скоро арабские авторы воспроизводят даже примеры, приводившиеся античными мыслителями, как можно говорить о каких-то существенных отклонениях от стоических источников (разве что за счет неточностей воспроизведения оригинала)? Но знаменательным оказывается тот факт, что во всех приводимых ван Эссом примерах дым трактуется как указывающий на огонь, но никак не наоборот. В силу этого он переводит далил как «знак»: дым является знаком (признаком) огня (вспомним наше: дыма без огня не бывает; на память придет и известный пример индийского силлогизма, в котором дым служит признаком огня). Нигде в цитируемых им источниках не идет речь о том, что огонь является знаком дыма, — да и, собственно, такое утверждение было бы довольно странным, поскольку бывают и бездымные огни, а во-вторых, вряд ли поднимающийся от костра дым нуждается в том, чтобы назначить для него огонь в качестве его знака или признака: знак ведь мыслится как нечто, привлекающее внимание к тому, что не заметно или во всяком случае менее заметно. Однако для арабского автора, спустя несколько веков после эпохи раннего калама (и принадлежащего к традиции калама позднего) как будто воспроизводящего все тот же пример с дымом и огнем, оказывается принципиальным именно взаимное указание одного на другое. Если наше понимание стоических источников нас не подводит и если в данном случае мы в самом деле имеем контраст между арабской и античной традициями, то возникает вопрос: как отнестись к этому «отклонению» от античного оригинала, которое допускает как будто полностью копирующий его арабский автор? Считать ли его странной случайностью и игнорировать как незначительную специфическую черту в пользу акцента на том, что является как будто безусловно общим в содержании обсуждаемых терминов? Просто «не заметить»? Соблазн «подогнать» текст под привычные схемы интерпретации, подсказываемые нашим мышлением, велик, тем более, что для этого требуется всего лишь не обратить внимание на несколько слов, на часть фразы. Однако то, что будет выпущено в таком случае из поля зрения как несущественное, может оказаться как раз наиболее существенным для самой арабо-мусульманской традиции: как мы убедимся ниже, именно взаимный перевод «указывающего» и «того, на что указывают», принципиален для понимания сути иносказания и сложных метафор, и без него филологическая теория в этой части просто немыслима. Чтобы такой взаимный перевод был возможен, далил «указывающее» и мадлул «то, на что указывают» должны быть способны меняться местами, вставать на место друг друга; но именно этого, как правило, не могут сделать «знак» и «означаемое», поскольку, если знак отсылает к означаемому, то означаемое вовсе не обязательно отсылает к знаку. Представление это весьма основательно и являет свою силу в традиции западного мышления во многих моментах. Скажем, когда Аристотель говорит, что слово является знаком представления в душе, а то в свою очередь — знаком и отпечатком вещи, существующей вовне, то связь знака и означаемого в этой схеме принципиально однонаправленна и не может быть с тем же основанием прочерчена в обратном порядке: вещь трудно счесть знаком представления в душе, а представление в душе не обязательно обозначает некое данное слово, поскольку может быть выражено разными словами. Здесь в знаке мыслится большая произвольность, чем в означаемом, и это является одной из причин, почему они не могут меняться местами, пусть даже связь между ними будет достаточно причинно-обусловленной, как связь между отпечатком в душе и вещью вовне. Мы останавливаемся на этих как будто тривиальных моментах потому, что они окажутся принципиальными в дальнейшем, при разборе способов построения и понимания иносказания в западной и арабо-мусульманской традициях. Здесь же заметим, что далил «указывающее» и мадлул «то, на что указывают» как раз и отличаются от знака и означаемого тем, что могут занимать место друг друга без всякого труда. Вспомним, что тем, на что указывает выговоренность слова, является, согласно арабо-мусульманской филологии, не вещь, а смысл, и в этом состоит в конечном счете основание такой способности «перемены мест», в отличие от аристотелевского понимания соотношения слова, мысли и вещи. Интересно, кстати говоря, что ван Эсс, несмотря на всю свою скрупулезность филолога, допускает существенное искажение, переводя арабское далил («указывающее») как «знак»: арабская теория как раз не считает далил «знаком» и принципиально отличает «указывающее» от «знака» (см. стр.3). Так скрупулезное исследование источников заимствования терминологии, имеющее целью прояснить их происхождение и тем самым содержание, достигает обратных целей, искажая их подлинное звучание.
[48] Речь идет о причинно-следственной связи. Отношение "указание" не ограничивается такими случаями и включает любую связь, благодаря которой одно может быть понято как «смысл» другого.
[49] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.149-150.
[50] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.150-152.
[51] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.160. Это — мнение ал-Джурджани в изложении ат-Тафтазани.
[52] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.238.
[53] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.153; приводимый ал-Баннани пример вполне традиционен для ашаритской школы калама.
[54] И наряду с ней — идею разделенности, полного размежевания (см. Ибн Манзур. Лисан ал-‘араб); этот второй аспект, впрочем, не входит в смысловое поле обсуждаемого термина.
[55] При этом неразделенность понимается в самом общем смысле, а не как актуальное сопутствие материальных предметов: например, "гибель от руки врага", когда она предначертана человеку Богом или судьбой, а значит, неизбежна, оказывается "неотделима" от человека.
[56] Речь идет об "общеязыковой" основе смысла термина, или его "смысле в языке".
[57] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.230. В этом определении мы встречаемся с парой ’асл-фар‘ «основа-ветвь» (хотя «ветвь» не упомянута в процитированном отрывке, употребление этого термина безусловно подразумевается), которая наряду с парой захир-батин «явное-скрытое» служила базисом категориального мышления классической арабской культуры. Под «основой» подразумевается изначальное и, как правило, ассоциируемое с понятием истины (хакк, хакика) состояние, под «ветвью» — некоторое производное, причем переход «основаÛветвь» мыслится как поддающийся закономерному описанию, т.е. не как произвольная замена элементов «основы». Благодаря этому по «ветви», как правило, можно восстановить «основу», даже если сама основа более не существует, и напротив, от наличных «основ» переходить к «ветвям» в результате некоторых формально описываемых процедур. Такое понимание соотношения «основа-ветвь» сближает его в определенных моментах с пониманием соотношения «явное-скрытое» (см. ниже, стр.3, 3; о понимании соотношения «основа-ветвь» см. также Смирнов А.В. Справедливость // Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М., 1998, с.272-275).
[58] См. Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.149-160.
[59] Это существенный момент теории. "Указание включения" (как, например, "лев" указывает на смыслы "зверь" или "отважный", включаемые в его смысл по установлению) также является иносказанием (маджаз), причем теория не отождествляет такое "включение" с тем, что Аристотель называет метафорическим указанием вида на род или рода на вид.
[60] См., напр., Ибн Сина. Ал-Ишарат ва-т-танбихат. Ч.1, Каир, 1960, с.187-189, где речь идет о бесконечности смыслов, сопутствующих истинному.
[61] Т.е. "доказательно" назвать вещь, а не просто дать ей имя. Здесь в рассмотрение привходят позитивные коннотации понятия "доказательство" (байан, букв. "выяснение").
[62] Ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.312-314. Аналогичное утверждение находим у ас-Суйути в Иткан, где он говорит, что заимствование — наиболее красноречивый вид высказывания, поскольку соединяет иносказание и уподобление, превосходя в этом метонимию, причем «под красноречивостью (аблагиййа) подразумевается дополнительное подтверждение (зийадат та’кид) и крайнее выражение (мубалага) совершенства сравнения, а не какое-то дополнение смысла, которого иначе бы не было» (Ас-Суйути. Ал-Иткан фи ‘улум ал-кур’ан (Совершенство наук о Коране). Ч.1-2. Бейрут, Дар ал-ма‘рифа, б.г., ч.2, с.60).
[63] Теория упоминает также "орудие уподобления" типа "как", "вроде".
[64] В этой связи отметим, что арабская теория стремится объяснить иносказание "лев-смельчак" в как будто бы максимально возможном согласии с Аристотелем, именно в этом сближении выявляя свое невнимание к сути аристотелевского рассуждения. Для Аристотеля обоснованием этого иносказания является наличие (или конструирование) общего рода; родовые признаки, которые будут увидены в ходе понимания иносказания, и составляют то даваемое иносказанием приращение знания, о котором говорит Стагирит. Арабо-мусульманская теория воспроизводит схему "общего рода" (см., напр., ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.243-244; см. также стр.3 и примеч.76), но упускает из виду то принципиальное обстоятельство, что этот конструируемый общий род должен включать метафорический и истинный предмет как свои виды. Для Аристотеля один вид так сконструированного рода указывает на другой никак не благодаря "сопутствию", является ли то сопутствие простой ассоциацией или необходимым логическим следованием, а через общие родовые признаки. Для арабской теории выстраиваемый род оказывается, если можно так выразиться, однородным и не распадается на виды в аристотелевском смысле — но лишь на две части по признаку "нормальности" (привычности — та‘аруф) и "ненормальности" (непривычности) включения предмета в род; более того, род понимается не как равно общий двум предметам, а как "нормальный" род одного предмета, в который "непривычно" включается другой. Можно сказать, что джинс «род» понимается как качественная характеристика, а не как логический род. Такое включение, согласно арабской теории, не дает нового знания; но поскольку оно и не утверждается в иносказании как истинное, оно не является также и ложью.
[65] Ал-Джурджани. Асрар ал-балага фи ‘илм ал-байан (Тайны красноречия в науке об изъяснении). Бейрут, Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1988, с.27.
[66] См. Frege G. On Sense and Reference // Meaning and Reference, Oxford Univ. Press, 1993.
[67] Что эта общность не мыслится как родовая в аристотелевском смысле, мы здесь только лишний раз отметим, отсылая читателя к более подробной демонстрации этого на стр.3.
[68] Ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.22. Отметим почти дословное совпадение этого определения «заимствования» с цитированным выше определением «иносказания» (маджаз; см. примеч.57). Это совпадение не случайно, поскольку, как отмечает сам ал-Джурджани, заимствование является особым случаем иносказания, что ас-Суйути образно выражает как «рождение заимствования от брака иносказания и сравнения» (ас-Суйути. Ал-Иткан, ч.2, с.57).
[69] Ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.22. Термин фа’ида «сообщение» означал в классической филологии, как правило, тот смысл (ма‘нан), который слушатель понимает, воспринимая «выговоренность», неважно, в рамках ли отдельного слова, словосочетания или целой фразы. Деление на «сообщающее» (муфид) и «не сообщающее» (гайр муфид) на разных языковых уровнях проводилось именно по признаку возможности понимания смысла по выговоренности. Здесь мы переводим фа’ида как «сообщение чего-то нового», сообразуясь с терминологией ал-Джурджани, который считает «сообщаемое» не собственно смыслом, а дополнительной подтвержденностью наличия смысла. Это не меняет принципиально звучания термина, но лишь приближает его к общеязыковому значению («польза»).
[70] Ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.32.
[71] Ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.22-23.
[72] Гипотеза о том, что мы имеем дело с изменением акцентов в связи с иным «жанром» обсуждаемых высказываний (риторические вместо обычных), которую мы приняли ad hoc выше, только начиная сопоставление построений ал-Джурджани и Фреге, в данном случае не спасает, поскольку жанр обсуждаемых ал-Джурджани высказываний одинаков в обоих случаях (иносказание), а значит, не может влиять на изменение их оценки.
[73] Речь не идет о профессиональной компетентности интерпретатора. Это условие предполагается выполненным; но, как мы увидим ниже, его выполнение не устраняет того типа «сбоев» интерпретации, о которых мы здесь говорим.
[74] Это условие само собой подразумевает и независимость процедуры от номинальной фиксации высказываний, поскольку номинальный пласт в его понимании арабо-мусульманской филологией представлен собственно выговоренностью.
[75] См. ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.22-24.
[76] Ас-Суйути. Ал-Иткан, ч.2, с.57; см. также примеч.64.
[77] Важно подчеркнуть, что дело, конечно, не в том, была ли занятая точка зрения фрегианской или оказалась бы, скажем, витгенштейнианской или какой еще; дело в том, что она является инокультурной в отношении обсуждаемого феномена и потому входит в конфликт с характерной для него процедурой смыслоформирования, если не учитывает эту процедуру эксплицитно.
[78] См. ат-Тафтазани. Таджрид ал-‘аллама ал-Баннани..., с.234-238.
[79] Ибн ал-Му‘тазз. V. Китаб ал-бади‘ (1933) // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. т.VI. М.-Л., 1960, с.281.
[80] Ибн Манзур. Лисан ал-‘араб, статья ш-‘-л.
[81] Ас-Суйути. Ал-Иткан, ч.2, с.58.
[82] Ас-Суйути. Ал-Иткан, ч.2, с.58.
[83] Вкупе, как мы будем говорить ниже, с дополнительным критерием соответствия требованиям «здравосмысленности» того смысла, который понимается в результате истинного указания. Отмеченные два условия, как представляется, вытекают из сути процедуры обращения со словами, принятой в арабо-мусульманской культуре.
[84] Аль-Исфахани. Книга песен. Перевод А.Халидова и Б.Шидфар. М., Восточная литература, 1980.
[85] Подчеркнем, что это мнение характерно отнюдь не только для представителей западной традиции. Тот же ал-Джурджани, анализируя наше «я встретил льва», говорит, что такое иносказание может быть выполнено на любом языке и не составляет специфики арабов, отличающей их от прочих народов, в отличие от других типов иносказаний, которые иначе как на арабском выполнить невозможно.
[86] О сознательности этой уступки говорит хотя бы факт расхождения между буквальной передачей в подстрочнике Корана и отточенным переводом текста Ибн ал-Му‘тазза у Крачковского. Кстати, этот пример как нельзя лучше показывает, что «гладкий» перевод «сглаживает» совсем не то, что следовало бы, и поступает даже еще более изощренно, чем персонаж известнной нам поговорки, поскольку выбрасывает ребенка, оставляя воду. Не служит ли это убедительным свидетельством в пользу буквализма перевода, — ведь именно подстрочник Крачковского, а не отредактированный перевод, адекватно отражает переводимое иносказание, и только его ал-Джурджани из всех вариантов оценил бы как подлинный перевод? Склоняясь к этому мнению, заметим, что буквальный перевод останется вместе с тем непонятным на русском языке без указания на процедуру его понимания.
[87] Наиболее частым служит деление «смыслов» на сенсибельные (махсус) и интеллигибельные (ма‘кул), существующие в действительности или только в воображении поэта или ритора.
[88] См. ал-Джурджани. Асрар ал-балага, с.329-332.
[89] По положению в обществе и духовным интересам с Кудамой сопоставим Исхак бен Ибрахим Ибн Вахб ал-Катиб, автор Бурхан. Однако его произведение охватывает гораздо более широкий круг проблем, и только небольшая часть его, можно считать, имеет отношение к литературной теории. Нет никаких признаков зависимости Ибн Вахба от Кудамы или наоборот.
[90]
Heindrichs W. Literary
Theory, с.31-32.
[91] Интересно, что издатель текста Кудамы С.Бонебаккер определяет «влияние Накд аш-ши‘р на более поздние работы» арабо-мусульманских филологов именно частотностью цитат из этого трактата, а «влияние греческой философии на Накд аш-ши‘р» устанавливает, исходя из поиска греческих прототипов для используемых Кудамой терминов (см. Кудама бен Джа‘фар. Китаб накд аш-ши‘р (Критика поэзии). Ред. С.А.Бонебаккер. Лейден, Брилль, 1956, с.36-59). С точно таким же подходом к анализу важнейших категорий логики и теории указания на смысл мы уже встречались в работе ван Эсса (см. примеч.45, 47).
[92] Примером может служить фундаментальная работа авторов, давно разрабатывающих эту тему: Bohas G., Guillaume J.-P., Kouloughli D.E. The Arabic Linguistic Tradition. L.&N.Y., 1990.
[93] Т.е. того, что мы назвали бы "образом" или "мотивом"; впрочем, обращает на себя внимание тот факт, что исследователь средневековой исламской поэтики А.Б.Куделин оставляет термин ма‘нан в его поэтологическом бытовании вовсе без перевода, ограничиваясь транслитерацией (см. Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина VIII-XI век). М., Наука, 1983).
[94] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, с.166.
[95] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, с.192-193.
[96] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, с.193.
[97] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, с.252
[98] Шамс-и Кайс. Свод правил персидской поэзии. Часть II, с.251-252.